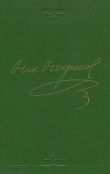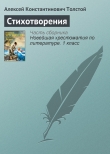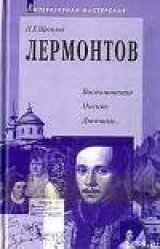
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
[Бетлинг. «Нива», 1885 г., № 20, стр. 475]
Сколько я могу себе составить понятие изо всего мною слышанного, причины поединка Лермонтова с Мартыновым были не исключительно те, которые обыкновенно указываются во всех биографиях Лермонтова. Сам Николай Соломонович Мартынов, лично мне знакомый, не говорил о том. Гибель Лермонтова, по-видимому, наложила тяжелое бремя на всю жизнь его, так что расспрашивать его я никогда не решался. Но от А. И. Бибикова сохранился следующий рассказ.
«Неравнодушна к Лермонтову была сестра Н. С. Мартынова… Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а может быть, и прикидывался влюбленным.
В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову сестры Мартынова поручили передать брату… письмо со своим дневником. В тот же пакет были вложены триста рублей, о чем Лермонтов ничего не знал.
По прошествии некоторого времени сестры писали Мартынову, спрашивая его о своем дневнике. На это брат отвечал, что никаких ни письма, ни дневника он не получал, но 300 руб. денег получил от Лермонтова. Тогда сестры Мартынова вновь поручили брату узнать об участи дневника, указывая на то, что Лермонтов не знал о вложенных деньгах. Таким образом обнаружилось, что Лермонтов распечатал письмо Натальи Соломоновны Мартыновой к ее брату. Из-за этого и произошла ссора, так как Мартынов имел полное основание упрекать Лермонтова. Ссора на вечере у Верзилиных была, по всему вероятию, не что иное как предлог к поединку, уже ранее решенному. К шуткам Лермонтова Мартынов относился сперва добродушно, привыкнув к ним; но потом это ему видимо надоело. Злой рок решил иначе, и без прицела пущенная пуля угодила в поэта. Вернее еще, что сам Лермонтов, чувствуя себя виновным перед Мартыновым, хотел искупить вину свою поединком.[577]577
Почти то же самое рассказывает Пирожков со слов Мартынова: «По словам Мартынова, дело было так. Отец Мартынова с двумя дочерьми постоянно жил в Петербурге. В этой семье Лермонтов был всегда хорошо принят. Случилось, что когда Мартынов был на Кавказе, Лермонтов также готовился туда отправиться. При последнем прощальном посещении Лермонтова сестры Н. С. Мартынова поручили ему передать брату их работы и дневники, а отец, со своей стороны, вручает ему пакет на имя сына, не говоря ничего о его содержимом. Является Лермонтов на Кавказ и при свидании с Мартыновым рассказывает, что с ним в дороге случилась неприятность: его обокрали на одной станции, и в числе украденных вещей, к сожалению его, находились также посылки и дневник сестер Мартынова и пакет от его отца – с деньгами 300 руб. Деньги Лермонтов передал Мартынову. Как ни грустно было Мартынову услышать весть о пропаже писем и дневника сестер, но что же делать?
Это, конечно, не повредило их хороших отношений. Затем Мартынов пишет к отцу, что дневники сестер и пакет с деньгами у Лермонтова украдены на дороге. Почтовые сообщения в те времена с Кавказом были очень медленны, и потому ответ со стороны отца последовал не так-то скоро. Но вот получено письмо от отца Мартынова, который задает в нем сыну довольно странный вопрос: почему Лермонтов мог знать, что в пакете были деньги? Вручая ему пакет, он ни слова не сказал об них. Вышел разговор, и очевидно, не пустые остроты играют роль побудителей к тяжелой развязке. Мартынову было тяжело вообразить, как дерзко, как, скажем, нагло было попрано доверие сестер, отца, оказанное товарищу… Что за несчастное побуждение влекло Лермонтова к такому просто непонятному поступку? Ведь он, конечно, понимал, что рано или поздно, оно во всяком случае должно было выйти наружу? Но как оно случилось?.. Само собой, для Мартынова с того момента пропажа представилась уже совершенно в другом свете. Это обстоятельство он, быть может, резко высказал Лермонтову, и тогда уже роковое столкновение явилось само собой, как неизбежное последствие.
„Вот, собственно, причина, которая поставила нас на барьер, – заключил свой рассказ покойный Мартынов, – и она дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще“» (Пирожков, «Нива», 1885 г., № 20, стр. 474).
По нашему обоюдному согласию был назначен барьер в 15 шагов. Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было. Остальное же все было предоставлено нами секундантам.
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 604]
[Закрыть]
[Д. Оболенский. „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 611–613]
Условлено было между нами сойтись на место к 6 1/2 часам пополудни. Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом; беговые дрожки свои дал Глебову. Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге; последние два были также верхом. Кроме секундантов и нас двоих, никого не было на месте дуэли, и никто решительно не знал об ней.[578]578
Сознательная ошибка для того, чтобы скрыть имена причастных к дуэли.
[Закрыть]
Мы стрелялись по левой стороне горы, по дороге, ведущей в какую-то колонку,[579]579
Каррас, или Шотландка.
[Закрыть] вблизи частого кустарника. Был отмерен барьер в 15 шагов, от него в каждую сторону еще по десяти. Мы стали на крайних точках. По условию дуэли, каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришел на барьер, ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок.[580]580
Черновики ответов Мартынова сохранились. Там этот ответ изложен так: «Условия дуэли были: 1-е – каждый имеет право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру, 2-е – осечки должны были считаться за выстрел, 3-е – после первого промаха противник имел право вызвать выстрелившего на барьер, 4-е – более трех выстрелов не было допущено по условию. Я сделал первый выстрел с барьера».
[Закрыть]
Как уже было сказано выше, я, Лермонтов и Васильчиков ехали верхом на назначенное место, Глебов на беговых дрожках. Проводников у нас не было. Лошадей мы сами привязали к кустарникам, а дрожки поставили в высокую траву по правой стороне дороги.
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке
Мартынова с Лермонтовым. „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 596]
От сделанного мною выстрела он упал, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, но уже он не говорил. Я поцеловал его и тотчас же отправился домой, полагая, что помощь может еще подоспеть к нему вовремя.
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 15 сентября 1841 г., „Русский Архив“, 1893 г., кн. 8, стр. 605]
Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню[581]581
Каррас, или Шотландка.
[Закрыть]), темная, громадная туча поднималась из-за соседней горы Бештау…
Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: „марш“. Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали: „Сходись“. Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненые или ушибленные.
Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие. Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка, по случаю дурной погоды (шел проливной дождь), они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.
Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.
Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.
[А. Васильчиков. „Русский Архив“, 1872 г. кн. 1, стр. 211–212]
Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого при жизни своей он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне П. А. Гвоздевым. 15 июля, с утра еще, над городом Пятигорском и горою Машук собиралась туча, и, как нарочно, сильная гроза разразилась ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю [к 5 часу пополудни]. Буря и ливень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж.
[A. Meринский. „Атеней“, 1858 г., № 48, стр. 304–305]
Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом. Как теперь помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сидение в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извощики, следуя примеру храбрости г.г. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался… Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как и обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.[582]582
Эмилия Шан-Гирей рассказывает об этом несколько иначе: «Глебов рассказывал мне, какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях; темно, кони привязанные ржат, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром беспрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру» («Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 320).
[Закрыть]
Наконец, часов в 11 ночи, явились товарищи с извощиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры.
[А. Васильчиков. „Русский Архив“, 1872 г., кн. 1, стр. 212]
Пятигорский мещанин Иван Андреев Чухнин, дворовый человек Мурлыкиных, в 1841 году находился при доме названных помещиков в Пятигорске, в качестве младшего кучера, где также был старшим кучером старший брат его Кузьма Андреев Чухнин. Мурлыкины в то время держали биржевых лошадей и дрожки, на которых ездили оба брата Чухнины. Иван Чухнин утверждает, что в день дуэли М. Ю. Лермонтова, около десяти часов вечера, два офицера наняли у Мурлыкиных дроги (в виде линейки), на которых поехал брат Чухнина Кузьма, объяснивший ему тогда же, что он привез с места дуэли в дом Чиляева тело офицера Лермонтова, и как хорошо помнит Чухнин, на другой день после этого он с братом мыл ту линейку, так как она была залита кровью. Спустя два-три дня после этого события Иван Чухнин с братом Кузьмою ездили с гг. офицерами на место дуэли Лермонтова, каковое было указано Кузьмою Чухниным; но действительно ли на этом месте происходила дуэль, он положительно утвердить не может, потому что сам не был свидетелем ее, а основывает показание свое на словах умершего брата Кузьмы, который, как выше сказано, приехал на место дуэли поздно вечером и, легко может быть, не рассмотрел хорошо местности; тем более что на поляне, которую указал Кузьма Чухнин, никаких следов дуэли не было. Подписал: пятигорский мещанин Иван Андреев Чухнин, а вместо его неграмотного расписался коллежский асессор Иван Васильев.
[Показания Ивана Чухнина, данные 11 сентября 1881 г., в комиссии по определению места дуэли. „Русская Старина“, 1882 г., т. ХХХIII, кн. 1, стр. 262]
…При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым в Пятигорске (при чем Саникидзе находился) Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал: „Умираю“; но на пол-дороге стонать перестал и умер спокойно;… по привозе тела домой его внесли в зало и положили сперва на диван, а потом на стол…
[Саникидзе в передаче П. К. Мартьянова. „Исторический Вестник“, 1895 г., № 1, стр. 600]
А мы дома с шампанским ждем. Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, темнее ночи, к себе в комнату прошел, а после прямо отправился к коменданту Ильяшенко и все рассказал ему. Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: „Убит!“ – и заплакал. Мы чуть не рехнулись от неожиданности; все плакали, как малые дети. Полковник же Зельмиц, как услышал, – бегом к Марии Ивановне Верзилиной и кричит:
– О-то! ваше превосходительство, наповал!
А та, ничего не зная, ничего и не поняла сразу, а когда уразумела в чем дело, так, как сидела, на пол и свалилась.[583]583
Эмилия Шан-Гирей по этому поводу пишет: «Внезапность этого известия и растерянный вид Зельмица нас всех сильно поразили и перепугали, но матушка моя на полу не валялась, а просила г. Дмитревского, бывшего в то время у нас, пойти узнать суть дела» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).
[Закрыть] Барышни ее услыхали, – и что тут поднялось, так и описать нельзя. А Антон Карлыч наш кашу заварил, да и домой убежал. Положим, хорошо сделал, что вернулся: он нам-то понадобился в это время.
Приехал Глебов, сказал, что покрыл тело шинелью своей, а сам под дождем больше ждать не мог. А дождь, перестав было, опять беспрерывный заморосил. Отправили мы извозчика биржевого за телом, так он с полудороги вернулся: колеса вязнут, ехать невозможно. И пришлось нам телегу нанять.[584]584
Эмилия Шан-Гирей замечает: «В Пятигорске грунт земли каменистый, и никогда не бывает такой грязи, чтобы экипажи вязли, и не было надобности нанимать телегу» (там же).
[Закрыть] А послать кого с телегой и не знаем, потому что все мы никуда не годились и никто своих слез удержать не мог. Ну, и попросили полковника Зельмица. Дал я ему своего Николая, и Столыпинский грузин с ним отправился. А грузин, что Лермонтову служил, так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть нельзя было. Это я к тому говорю, что если бы у Михаила Юрьевича характер, как многие думают, в самом деле, был заносчивый и неприятный, так прислуга бы не могла так к нему привязываться.
Когда тело привезли, мы убрали рабочую комнату Михаила Юрьевича, заняли у Зельмица большой стол и накрыли его скатертью. Когда пришлось обмывать тело, сюртук невозможно было снять, руки совсем закоченели. Правая рука, как держала пистолет, так и осталась. Нужно было сюртук на спине распороть,[585]585
Саникидзе, слуга Лермонтова, рассказывал Мартьянову о том, что этот сюртук он сжег. («Исторический Вестник», 1895 г., т. I, стр. 600).
[Закрыть] и тут мы все видели, что навылет пуля проскочила, да и фероньерка belle noire в правом кармане нашлась, вся в крови.
[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова в записи В. Желиховской. „Нива“, 1885 г., № 8, стр. 186–187]
В семье Верзилиных были три красивые девицы: дочери Верзилина, старшая Эмилия и младшая Надежда, и моя мать [Е. И. Кнольт], проживавшая в их семье как опекаемая.[586]586
Екатерина Ивановна Кнольт, «дочь вызванного из-за границы врача, в числе прочих врачей, для устройства не очень давно открывшихся минеральных источников в Пятигорске. Кнольт, доктор медицины и хирургии, по прибытии назначен был директором минеральных вод, женился там, и от этого брака родилась моя мать… Спустя некоторое время мой дедушка [Кнольт], а потом и бабушка умерли; осталась моя мать сиротой; к ней назначена была опекуншей генеральша Верзилина»…Так пишет в своих рукописных воспоминаниях Леонид Ангелиевич Сидери (р. 1843 г.).
[Закрыть] Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали,[587]587
Подробность, не сохраненная в других источниках, говорящих о Надежде Петровне.
[Закрыть] и которой Лермонтов написал стихи: „Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд“… Вот из ревности и разыгралась эта драма.
Отец мой [А. Г. Сидери[588]588
Поручик Ангелий Георгиевич Сидери – плац-адъютант при пятигорском комендантском управлении, был ранен в Турецкую кампанию 1828 г., под Баязетом. В 1841 г. часто бывал, согласно свидетельству сына, в доме П. С. Верзилина, где встречался с Лермонтовым и Мартыновым.
[Закрыть] ], идя с докладом об этом происшествии к коменданту, зашел по дороге к Верзилиным и сообщил им об этом (он уже был женихом моей матери). Все в доме были взволнованы. Вдруг вбегает сильно возбужденный Лев Сергеевич Пушкин, приехавший на минеральные воды, с волнением говорит: „Почему раньше меня никто не предупредил об их обостренном отношении, я бы помирил…“
Отец мой [А. Г. Сидери] доложил об этом [о дуэли] коменданту. Комендант полковник Ильяшенков, человек старый, мнительный, почему-то не велел разглашать об этом. Тело лежало за городом, у подошвы горы Машука, на месте дуэли;[589]589
Вероятно, ошибка: других свидетельств, подтверждающих это, мы не имеем.
[Закрыть] было очень жарко в июле, а особенно на Кавказе. Пока тянули медленно дознание, труп уже значительно распух, и при вскрытии чувствовался сильный запах. Затем Мартынова арестовали…
Несмотря на несимпатичный характер Лермонтова, все его жалели, а Мартынова все обвиняли и были сильно возбуждены против него, говорили: „Стрелять-то не умел, а убил наповал“. Вот и все, что я могу сообщить, если не очевидец, то все-таки как человек, слышавший от очевидцев, своих родителей».
[С подлинной рукописи: «Сообщение отставного полковника Леонида Ангельевича Сидери о кончине М. Ю. Лермонтова»[590]590
Рукопись принадлежит Д. С. Усову, который получил ее от автора в октябре 1924 г. Рукопись помечена 22 сентября 1924 г. Написана на 4 страницах белой писчей бумаги без линеек и водяных знаков лиловыми чернилами. Текст сообщения Сидери был оглашен Д. С. Усовым 21 ноября 1924 г. в заседании подсекции истории русской литературы Литературной Секции Госуд. Академии Художественных Наук в докладе под заглавием «Новые детали дуэли Лермонтова» (см. «Отчет ГАХН. 1921–1925». М., 1926, стр. 28 и 129). Рукопись сообщается в печати впервые и была любезно предоставлена для нашей книги Д. С. Усовым.
[Закрыть] ]
15 июля пришли к нам утром кн. Васильчиков и еще кто-то, не помню, в самом пасмурном виде; даже maman заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем князя Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас прийти на горку смотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий.[591]591
15 июля вечером Голицын давал бал по случаю своих именин – Лермонтову и Столыпину были посланы приглашения. Мартынов приглашен не был.
[Закрыть] Собираться в сад должны были в 6 часов; но вот с четырех начинает накрапывать мелкий дождь; надеясь, что он пройдет, мы принарядились, а дождь все сильней да сильней и разразился ливнем с сильнейшей грозой; удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать этих господ всех сюда и устроить свой бал; не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: «Один наповал, другой под арестом». Мы бросились к нему – что такое, кто наповал, где? Лермонтов убит! Такое известие и столь внезапное до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли ее успокоить.
[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II стр. 317–318]
Мне неизвестно, в какое время взято тело убитого поручика Лермонтова. Простившись с ним, я тотчас же возвратился домой и послал человека за своей черкеской, которая осталась на месте происшествия, чтобы явиться в ней к коменданту. Об остальном же и до сих пор ничего не знаю.[592]592
«В черновой рукописи зачеркнуто: „Простившись с ним, я тотчас уехал домой и уже несколько временя спустя послал своего человека Илью в помощь другим и велел ему также привезти мою черкеску“».
[Закрыть]
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 598]
Наконец его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании, отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все там находившиеся были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала! Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища:
Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,
Поникнув гордой головой…
[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 304–305]
Когда мы несколько пришли в себя от такого треволнения, переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором; позднее провели Глебова под караулом на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провел ужасных три ночи в сообществе двух арестантов, из которых один все читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии. К 9 часам все утихло. Вечер был чудный, тишина в воздухе необыкновенная, луна светила как день. Роковая весть быстро разнеслась по городу. Дуэль неслыханная вещь в Пятигорске. Многие ходили смотреть на убитого поэта из любопытства; знакомые же его, из участия и желания узнать о причине дуэли, спрашивали нас, но мы и сами ничего не знали тогда верного. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шепотом, точно боялись, чтобы их слова не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта, спавшего уже непробудным сном. На бульваре и музыка два дня не играла.
[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 318–319]
Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков, которых они заставили поклясться, что никому не скажут; они так и сделали.
Лер[монтову] так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг [Мартынов] имел духа долго целиться, и пуля навылет! Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила, я и теперь не могу его вспомнить.
Дмитревский меня раздосадовал ужасно: бандо мое, которое было в крови Лер[монтова], взял, чтоб отдать мне, и потерял его; так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест.
Я была на похоронах: с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть.
Он мертвый был так хорош, как живой. Портрет его сняли.[593]593
Портрет этот, ныне находящийся в Пушкинском доме, написал художник Шведе. Слуга Лермонтова Христофор Саникидзе рассказывал Мартьянову: «Для снятия портрета тело подняли и посадили на подушках к стене – будто живой сидит и дремлет» (Исторический Вестник, 1895 г., № 1, стр. 600).
[Закрыть]
[Из письма Е. Быховец к сестре от 5 авг. 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 768]
От него [Лермонтова] в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!..Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить…
Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались… От насмешек его избавились. Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был…
[Я] видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал.
[В. Эрастов[594]594
Священник Василий Эрастов отказался отпевать Лермонтова и донес на протоиерея пятигорской скорбященской церкви П. Александровского о том, что тот проводил тело Лермонтова до могилы.
[Закрыть] в передаче Е. Ганейзера, «Вестник Европы», 1914 г., кн. 3, стр. 392–393]
Я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вегелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал: «Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?» Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. Когда? кем? мог я только воскликнуть. Мы оба с Вегелиным пошли на квартиру покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы, знакомые и незнакомые, и весь любопытный люд теснились в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами.
Полный грустных дум, я вышел на бульвар…
Во всех углах, на всех аллеях, только и было разговоров, что о происшествии… Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, Бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова – в острог; следствие и суд начались.
Вскоре приехал начальник штаба Трескин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687–688]
На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов, волею и неволею, служил в продолжение короткой жизни, явились почтить последней почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я от Тенгинского пехотного; Тиран от лейб-гусарского и А. И. Арнольди – от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища, на покатости Машука. По закону, священник отказывался было сопровождать останки поэта, но сдался, и похороны совершены были со всеми обрядами христианскими и воинскими. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 688–689]
На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным и неотступным просьбам кн. Васильчикова[595]595
Не Васильчикова, а, как свидетельствуют разыскания П. К. Мартьянова, Столыпина. Настоящего отпевания произведено не было; священник и хор только сопровождали тело от квартиры до могилы. Все это произошло 17 июля 1841 г.
[Закрыть] и других, но с условием, чтобы не было музыки и никакого параду. Наконец приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр, тотчас повернул назад; музыку мгновенно отправили, но зато много, много усилий употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище; гроб несли товарищи; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало: ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами.
Похоронили и положили небольшой камень с надписью Михаил, как временный знак его могилы… Во время панихиды мы стояли в другой комнате, где лежал его окровавленный сюртук, и никому тогда не пришло в голову сохранить его.
[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889, т. II, кн. 6, стр. 319]
ОПИСЬ ИМЕНИЯ,[596]596
Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.
[Закрыть] ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ УБИТОГО НА ДУЭЛИ ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА ПОРУЧИКА ЛЕРМОНТОВА
Учинена Июля 17 дня 1841 года
(В скобках дано число вещей и денег)
1. Образ маленькой Св. Архистратиха Михаила в Серебрянной вызолоченной рызе (1)
2. Образ не большой Св. Иоанна Воина в Серебрянкой вызолоченной рызе (1)
3. Таковый же побольше Св. Николая Чудотворца в Серебрянной рызе с вызолоченным венцом (1)
4. Образ Маленькой (1)
5. Крест маленькой Серебрянный вызолоченный с мощами (1)
6. Собственных сочинений покойного на разных ласкуточках бумаги кусков (7)
7. Писем разных Лиц и от родных (17)
8. Книга на черновые сочинения подарена покойному Князем Одоевским в кожанном переплете (1)
9. Карманная книжечка маленькая (1)
10. Бумажник Сафияновый (1)
11. Шкатулка Орехового дерева с бронзом (1)
12. Денег Ассигнациями две тысячи Шесть Сот десять рублей (2610)
13. Ножик перочинный с ножницами и другой небольшой сломанный (2)
14. Бритв в черных черенках в футляре (2)
15. Кисть для брития с ручкою Нейзильбер (1)
16. Ремень для точении бритв с ручкою (1)
17. Карманный гребешок складной роговой (1)
18. Лорнетка с двумя стеклами золотая складная в перламутровых черенках (1)
19. Погребец обит тюленевою кожею с жестяною оковкою с внутренним Замком (1)
20. В нем рюмка стекляная одна (1)
21. Солонка таковая же (1)
22. Банок стекляных с крышками (3)
23. Тарелок фаянсовых (5)
24. Ложек Серебрянных столовых (3)
25. Ложек Серебрянных чайных (3)
26. Ситичко чайное Серебрянное (1)
27. Ложка Соусная Серебрянная (1)
28. Ножей простых с вилками пар (3)
29. Сертуков суконных форменных поношенных с красною подкладкою (2)
30. Сертук Летний шерстяного ластику (1)
31. Сертук суконный форменный на калмыцком меху (1)
32. Мундир поношенный (1)
33. Брюк одни новые другие поношенные суконных форменных (2)
34. Шаровара поношенные (1)
35. Таковые же верблюжие старые (1)
36. Таковые-же Серого Сукна поношенные (1)
37. Эпалет мишурных пар три (3)
38. Черкеска простого темного сукна (1)
39. Желет Шелковый Черный поношенный (1)
40. Бешмет Белый коленкоровый (1)
41. Халат Бохарский кашемировый (1)
42. Халат Малашовый на меху кримских Мерлушек (1)
43. Шинель Светло серого Сукна с красным воротником Летняя на демикатоновой подкладке (1)
44. Таковаяже на вате светлосерого сукна с бобровым воротником подкладка таковаяже (1)
45. Персицкий войлок цветной двойной (1)
46. Подушек пуховых три малых (3)
47. Одеяло фланелевое (1)
48. Калмыцкий Ергак (1)
49. Шапка Шерстяная вязаная синяго цвету старая с красным окулошком (1)
50. Рубашек канаусовых старых (7)
51. Шаровара летние белые (1)
52. Рубах холщевых белых старых (2)
53. Подштанников холщевых старых (7)
54. Подштанников холстинковых одне (1)
55. Платков носовых цветных шелковых (8)
56. Батистовых белых платков (5)
57. Полотенцев личных ткацкого холста (8)
58. Фуфаек фланелевых три и летняя канифасовая одна итого (4)
59. Рубашка фланелевая длинная (1)
60. Подштанники фланелевые (1)
61. Салфеток белых разной величины (15)
62. Скатертей три (3)
63. Носков нитяных пар (12)
64. Носков шерстяных пар (3)
65. Фуфайка и подштанники лосинные (2)
66. Банное Полотенце (1)
67. Наволочек на подушки холщевых (6)
68. Наволочек на подушки ситцевых (6)
69. Простынь (2)
70. Шарф шерстяной красный (1)
71. Стирочных полотенцов (13)
72. Шейных косынок шелковых черных (3)
73. Платок бомажный шейный же (1)
74. Портупей Четыре (4)
75. Темляков мишурных (2)
76. Шапочек вязанных бомажных (2)
77. Перчаток белых замшевых пар пять (5)
78. Мыльница аплике (1)
79. Головная щеточка двойная (1)
80. Печать Гербовая Стальная с ручкою (1)
81. Одеяло Персицкое на подобие скатерти пёстрое большое (1)
82. Папах форменных с прибором из коих одна старая две (2)
83. Полусабли с серебрянным темляком (1)
84. Шарф Мишурный (1)
85. Фуражка Суконная белая с красным околушком (1)
86. Пистолет Черкеский в серебрянной обделке с золотою насечкою в чехле азиятском (1)
87. Кинжал с ножиком с белою ручкою при нем поясок с серебрянным с подчерниею прибором 16 штук и жирничка Серебрянная же (1)
88. Шашка в Серебрянной с подчерниею оправе с портупеею накоей 12 пуговиц Серебрянных с подчерниею (1)
89. Перстень Англицкого Золота с берюзою (1)
90. Кольцо червонного золота (1)
91. Подсвечников Аплике малых (2)
92. Оловянных тарелок (6)
93. Оловянных мисок (2)
94. Кастрюль красной меди небольших (4)
95. Самовар желтой меди складной (1)
96. Железная кровать складная без прибора (1)
97. Чемадан коженный (1)
98. Сундуков колясочных обтянутых кожею (2)
99. Седло Черкеское простое с прибором (1)
100 Лошадей две, мерин масти тёмносерой грива на правую сторону лет 4 на левом боку на передней и задней ноге тавро О, и 2-й Мерин масти светлосерой Лет 10. Грива на правую сторону на левой задней ноге тавро О (2)
101 Крепостных людей Иван Вертюков и Иван Соколов (2)
Подполковник Маноенко. [?]
Пятигорский Плац Адъютант Подпоручик Сидери.
Квартальный Надзиратель Марушев.
При описи находились: Пятигорский Градской Протоиерей Павел Александров.
При описи находился Пятигорский Градской Глава Рышков.
Словесный судья Тупиков.
РЕВЕРС[597]597
Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.
[Закрыть]
Я нижеподписавшийся даю сей реверс Пятигорскому Коменданту Господину Полковнику и кавалеру Ильяшенкову в том, что оставшиеся после убитого отставным майором Мартыновым на дуэле двоюродного брата моего Тенгинского Пехотного полка Поручика Лермантова поясненные в описи деньги две тысячи шесть сот десять рублей ассигнациями, равные вещи, две лошади и два крепостных человека Ивана Вертюкова и Ивана Соколова, я обязуюсь доставить в целости к родственникам его Лермантова. В противном же случае предоставляю поступить со мною по законам.
Июля 28 дня 1841 года Г. Пятигорск.
Нижегородского драгунского полка Капитан Столыпин.
О том, что капитан Столыпин оставшиеся после убитого поручика Лермантова деньги вещи лошадей и крепостных людей доставит к родственникам Лермантова, поручаем:
Нижегородского Драгунского Полка Командир
Полковник (Подпись).
Каммер-юнкер (Подпись).
№ 1427 Июля 16-го дня 1841
Его Императорскому Величеству
Пятигорского Коменданта
РАПОРТ
Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в Городе Пятигорске для пользования болезней Кавказскими Минеральными водами, уволенный от службы из Гребенского Казачьего полка Майор Мартынов и тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырех верстах от Города, у подошвы горы Машуки имели Дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок на вылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте. Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования Минеральными водами Лейб-Гвардии Конного Полка Корнет Глебов и служащий во II-м Отделении собственной Вашего Императорского Величества Канцелярии Титулярный Советник Князь Васильчиков; об этом происшествии производится законное следствие, а Майор Мартынов, Корнет Глебов и князь Васильчиков мною арестованы.[598]598
Печатаем с сохранением особенностей орфографии по подлиннику, хранящемуся в собраниях Пушкинского дома.
[Закрыть]
Пятигорск, 30 июля. [1841 г.]
Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев, что так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется п. к. м,[599]599
«п. к. м.», вероятно, – по крайней мере.
[Закрыть] без кровопролития. С первого выстрела. Лермонтов упал и тут же скончался.
NB. Перевернув страницу я заметил, что она уже исписана; ленюсь переписывать и продолжаю, читай как умеешь.[600]600
Васильчиков для своего письма взял листок, на обороте которого было начато другое письмо, и продолжал писать на нем.
[Закрыть]
Мы состоим под арестом, и производится следствие (нас перевели[601]601
«Нас перевели» зачеркнуто.
[Закрыть]). Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с Сталыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым. В Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как в степи. Мы с Сталыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета… но, что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве[602]602
Жерве – капитан драгунского Нижегородского полка, из гвардейских гусар.
[Закрыть] умер от раны после двухмесячной мучительной болезни. А Лермонтов по крайней мере без страданий. Жаль его. Отчего люди, которые бы могли жить с пользой а м. б.[603]603
«м. б.» – может быть.
[Закрыть] и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано м. т.[604]604
«м. т.» – между тем.
[Закрыть] как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости.
Ничего не умею тебе сказать нового о водах и водяном обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему. Эмилия все также и хороша и дурна; Надинька не выросла; Груша не помолодела.[605]605
Эмилия, Надежда, Аграфена – дочери Верзилиной.
[Закрыть] Дома Ребровы[606]606
Ребровы – обыватели Кисловодска; Нина Алексеевна Реброва – поклонница Лермонтова. О ней см. выше.
[Закрыть] стоят на том же месте. В гостинице в окошках стекла вставлены. По вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей участи.
Напиши мне, где Долгорукий.[607]607
Долгорукий, вероятно, Александр Николаевич Долгорукий, знакомый Лермонтова.
[Закрыть] Не уехал ли он за границу. Кланяйся всем знакомым.
Скучно. Грустно.
Твой преданный Александр Васильчиков.
[Письма А. И. Васильчикова к Юлию Константиновичу Арсеньеву.[608]608
Юлий Константинович Арсеньев, сын известного профессора К. Ив. Арсеньева, историка и статистика, сам по образованию лицеист, служил при Александре II губернатором последовательно в трех губерниях. На настоящем письме, хранящемся ныне в собраниях Пушкинского дома, имеется следующий адрес: «Его Высокоблагородию Юлию Константиновичу Арсеньеву. В Петербурге. В собственном доме у церкви Знаменья».
[Закрыть] «Вестник Знания», 1928, № 3, стр. 130–131]
Командующему войсками на Кавказской Линии и в Черномории, г. генерал-адъютанту и кавалеру Граббе.
Пятигорского коменданта полковника Ильяшенкова
РАПОРТ
По суду, произведенному в комиссии, учрежденной в гор. Пятигорске над подсудимыми: уволенным от службы из Гребенского казачьего полка майором Мартыновым, лейб-гвардии конного полка корнетом Глебовым и служащим в собственной Его Императорского Величества канцелярии титулярным советником князем Васильчиковым, открылось:
Сего года июля 15-го числа подсудимые эти и с ними Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, по полудни в шесть с половиною часов, из квартир своих отправились по дороге ведущей в Николаевскую колонию и, отъехав от города не более 4-х верст, остановились при подошве горы Машуки, между растущего кустарника, на поляне где привязав за деревья своих лошадей, и из них корнет Глебов и князь Васильчиков, размерили вдоль по дороге барьер расстоянием на 15 шагов, поставив на концах оного свои фуражки, и отмерили еще от оных в обе стороны по 10-ти шагов, потом, зарядив пару пистолетов, отдали ссорившимся майору Мартынову и поручику Лермонтову; сии, пришед на назначенные места, остановились и потом, по сделанному знаку корнетом Глебовым приблизясь к барьеру, майор Мартынов выстрелом своим ранил поручика Лермант[ов]а, который в то же время от этой раны и помер, не успев даже произвести и выстрела по Мартынове.