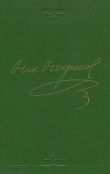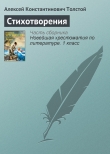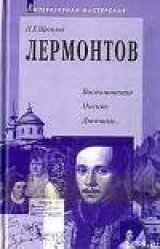
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Н. А. С.,[302]302
Николай Аркадьевич Столыпин, камер-юнкер, брат Монго Столыпина.
[Закрыть] дипломат, служащий под начальством графа Нессельроде, один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату, минут десять по отъезде Николая Федоровича Арендта. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, С. расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после того, что было между ними, не мог не стреляться. Honneur oblige![303]303
Честь обязывает.
[Закрыть]… Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. С. засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но „Майошка“ наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро по нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем С., заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: „la poésie enfante!“;[304]304
Поэзия разрешается от бремени.
[Закрыть] потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: „adieu, Michell“, но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на С. и бросил ему: „Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда“. С. не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: „Mais il est fou à lier“.[305]305
Но ведь он просто бешеный.
[Закрыть] Четверть часа спустя, Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был С., и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами: „А вы, надменные потомки!“ и в которых так много силы».
– Я отчасти знаю эти стихи, – сказал Синицын, – но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти, «с чувством, с толком, с расстановкой», главное, «с расстановкой», а мы с В[ладимиром] П[етровичем] их спишем под твой диктант.
– Изволь, – отозвался Юрьев, – вот они. Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона —
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!
Но есть и Божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный суд: он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
И вы напрасно тут прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.
Когда мы с Синицыным записали последний стих, то оба с неподдельным и искренним чувством выражали наш восторг к этим звучным и сильным стихам. Юрьев продолжал:
– Я тотчас списал с этих стихов, не выходя из комнаты Лермонтова, пять или шесть копий, которые немедленно развез к некоторым друзьям. Эти друзья, частью сами, частью при помощи писцов, написали еще изрядное количество копий, и дня через два или три почти весь Петербург читал и знал «дополнение к стихам Лермонтова на смерть Пушкина». Когда старушка бабушка узнала об этих стихах, то старалась всеми силами, нельзя ли как-нибудь, словно фальшивые ассигнации, исхитить их из обращения в публике; но это было решительно невозможно: они распространялись с быстротой, и вскоре их читала уже вся Москва, где старики и старухи, преимущественно на Тверской, объявили их чисто революционерными и опасными. Прочел их и граф Бенкендорф, но отнесся к ним как к поэтической вспышке, сказал Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания: тогда слава их скоро померкнет; ежели же мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей». Стихи эти читал даже великий князь Михаил Павлович и только сказал смеясь: «Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?» Даже до нас доходили слухи, что великий князь, при встрече с Бенкендорфом, шепнул ему, что желательно, чтоб этот «вздор», как он выразился, не обеспокоил внимания государя императора. Одним словом, стихи эти, переписываемые и заучиваемые всеми повсюду, в высших сферах считались ребяческою вспышкою, а в публике, хотя и не громко, но признавались за произведение гениальное. Государь об них ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения, пока дней пять или шесть назад был раут у графа Ф., где был и граф Бенкендорф в числе гостей. Вдруг к нему подходит известная петербургская болтунья и, как ее зовут, la lèpre de la société,[306]306
«Проказа общества» – Анна Михайловна Хитрово, сестра корреспондентки Пушкина Е. М. Хитрово.
[Закрыть] разносительница новостей, а еще более клевет и пасквилей по всему городу и, подойдя к графу, эта несносная вестовщица вдруг говорит: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас, и в которых la crème de la noblesse[307]307
Сливки дворянства.
[Закрыть] отделаны на чем свет стоит?» – «О каких стихах вы говорите, сударыня?» – спрашивает граф. – «Да о тех, что написал гусар Лермонтов и которые начинаются стихами: „А вы, надменные потомки!“, т. е. ясно мы все, toute l'aristocratie russe».[308]308
Вся русская аристократия.
[Закрыть] Бенкендорф ловко дал тотчас другое направление разговору и столько же ловко постарался уклониться от своей собеседницы, которую, как известно, после всех ее проделок, особенно после ее попрошайничеств, нигде не принимают, кроме дома ее сестры, графини Ф.,[309]309
Бурнашев ошибается. У А. М. Хитрово была племянница гр. Фикельмон, Дарья Федоровна, дочь Е. М. Хитрово от брака с Тизенгаузеном.
[Закрыть] которая сама бедняжка в отчаянии от такого кровного родства. Однако после этого разговора на рауте граф Бенкендорф на другой же день перед отправле_нием своим с докладом к государю императору сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что будет, то будет, а после того, что Х[итрова] знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить об них государю». Когда граф явился к государю и начал говорить об этих стихах в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их, сейчас им полученный по городской почте, с гнусною надписью: «Воззвание к революции». Многие того мнения, что это работа de la lèpre de la société, которая, недовольная уклончивостью графа на рауте, чем свет послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец, причем, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но естественно не для жандармерии, которая имеет свое чутье. Как бы то ни было, государь был разгневан, принял дело серьезнее, чем представлял граф, и велел великому князю Михаилу Павловичу немедленно послать в Царское Село начальника штаба гвардии Петра Федоровича Веймарна для произведения обыска в квартире корнета Лермонтова.
«Веймарн нашел прежде всего, что квартира Лермонтова уже много дней не топлена, потому что сам хозяин ее проживает постоянно в Петербурге у бабушки. Начальник штаба делал обыск и опечатывал все, что нашел у Лермонтова из бумаг, не снимая шубы. Между тем дали знать Мише, он поскакал в Царское и повез туда с полною откровенностью весь свой портфель, в котором, впрочем, всего больше было, конечно, барковщины; но, однако, прискакавший из Царского фельдъегерь от начальника штаба сопровождал полкового адъютанта и жандармского офицера, которые приложили печати свои к бюро, к столам, к комодам в нашем апартаменте. Бабушка была в отчаянии; она непременно думала, что ее Мишеля арестуют, что в крепость усадят; однако все обошлось даже без ареста, только велено было ему от начальника штаба жить в Царском, занимаясь впредь до повеления прилежно царской службой, а не „сумасбродными стихами“. Вслед за этим сделано по гвардии строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры всех загородных полков отнюдь не смели отлучаться из мест их квартирования иначе как с разрешения полкового командира, который дает письменный отпуск, и отпуск этот офицер должен предъявлять в ордонанс-гаузе и в гвардейском штабе. Однако несколько дней спустя последовал приказ: „Л.-гв. Гус. полка корнет Лермонтов переводится прапорщиком в Нижегородский драгунский полк“. Сначала было приказано выехать ему из Петербурга через 48 часов, т. е. в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма, да опять спасибо бабушке: перепросила, и кажется, наш „Майошка“ проведет с нами и Пасху. Теперь ведь Вербная неделя, ждать недолго».
– Бедный, жаль мне его, – сказал Синицын, – а со всем тем хотелось бы видеть его в новой форме: куртка с кушаком, шаровары, шашка через плечо, кивер гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. Все это преуморительно сидеть будет на нем.
– Не уморительнее юнкерского ментика, – заметил Юрьев, – в котором он немало-таки времени щеголял в школе. Но страшно забавен в этой кавказской форме Костька Булгаков!
– Как, разве и он угодил на Кавказ? – спросил Синицын, – для компании, что ли?
– О нет, он на Кавказ не назначен, – сказал Юрьев, – а только с этой кавказской формой Лермонтова учинил презабавную и довольно нелепую, в своем роде, штуку. Заезжает он на днях к нам и видит весь этот костюм, только что принесенный от портного, из магазина офицерских вещей. Тотчас давай примерять, на своей карапузой фигуре, куртку с кушаком, шашку на портупее через плечо и баранью шапку. Смотрится в зеркало и находит себя очень воинственным в этом наряде. При этом у него мелькает блажная мысль выскочить в этом переодеванье на улицу и, пользуясь отсутствием как Лермонтова, так и моим, глухой к убеждениям Вани,[310]310
Слуга Лермонтова, несколько моложе его, всегда находившийся с ним, даже в школе, и носивший форму денщика.
[Закрыть] садится на первого подвернувшегося у подъезда лихача и несется на нем по Невскому. Между тем «Майошка» ездил по своим делам по городу и на беду наехал у Английского магазина, где кое-что закупал, на великого князя Михаила Павловича, который остановил его и, грозя пальцем, сказал: «Ты не имеешь права щеголять в этой лейб-гусарской форме, когда должен носить свою кавказскую: об тебе давно уж был приказ». – «Виноват, ваше высочество, не я, а тот портной, который меня обманывает. Между тем по делам, не терпящим отлагательства, необходимо было выехать со двора», – был ответ Лермонтова. – «Смотри же, поторопи хорошенько твоего портного, – заметил великий князь, – он так неисполнителен, верно, потому, что, чего доброго, подобно тебе шалуну, строчит какую-нибудь поэму или оду. В таком роде я до него доберусь. Но, во всяком случае, чтобы я тебя больше не встречал в этой не твоей форме», – «Слушаю, ваше высочество, – рапортовал Лермонтов, – сегодня же покажусь в городе кавказцем». – «Сегодня, так, значит, экипировка готова?» – спросил великий князь. – «Постараюсь, в исполнение воли вашего высочества, из невозможного сделать возможное», – пробарабанил Лермонтов, и его высочество, довольный молодецким ответом, уехал. Он отправлялся в Измайловские казармы, почему кучер его, проехав часть Невского проспекта (встреча с Лермонтовым была против Английского магазина), повернул за Аничковым мостом на Фонтанку, и тут едва подъехали сани великого князя к Чернышеву мосту, от Садовой в перерез мимо театрального дома, стрелой несутся сани, и в санях кавказский драгун, лорнирующий внимательно окна театральной школы. Великий князь, зная, что во всем Петербурге в это время нижегородского драгуна не находится кроме Лермонтова и удивляясь быстроте, с которою последний успел переменить костюм, велел кучеру догнать быстро летевшего нижегородского драгуна; но куда! у лихача был какой-то двужильный рысак, который мог бы, кажется, премии выигрывать на бегах, и баранья шапка мигом скрылась из глаз. Нечего было делать: великий князь оставил перегонку и отправился в Измайловские казармы, где в этот день был какой-то экстраординарный смотр. После смотра великий князь подозвал к себе подпоручика Ф., из наших подпрапорщиков, и спросил его, знает ли он квартиру Лермонтова, живущего у нашей бабушки Арсеньевой, велел ему ехать туда сейчас и узнать от него, как он успел так скоро явиться в новой кавказской форме близ Чернышева моста, тогда как не больше десяти минут его высочество оставил его у Полицейского моста; и о том, что узнает, донести тотчас его высочеству в Михайловском дворце. Измайловец к нам приехал в то время, как только Булгаков возвратился и, при общем хохоте, снимал кавказские доспехи, рассказывая, как, благодаря лихому рысаку своего извощика Терешки, он дал утечку от великого князя. Вследствие всего этого доложено было его высочеству, что Лермонтов, откланявшись ему, полетел к своему неисправному портному, у которого будто бы были и все вещи обмундировки и, напугав его именем великого князя, ухватил там все, что было готового, и поскакал продолжать свою деловую поездку по Петербургу, уже в бараньей шапке и в шинели драгунской формы. Великий князь очень доволен был исполнительностью Лермонтова, никак не подозревая, что он у Чернышева-то моста видел не Лермонтова, а шалуна Булгакова.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1820–1837]
[Мы] перешли в столовую, где нас ожидало преизрядное блюдо отбивных котлет. [Мы не отказывались] от лафита и д’икема, которыми гостеприимный хозяин наполнял усердно наши стаканы, восклицая, от времени до времени, с изъявлением сожаления, что между нами нет милого Миши Лермонтова, которого при постороннем и старшем офицере он не находил удобным величать по-юнкерски «Майошкой», от какого названия заметно воздерживался и Юрьев, его кузен и друг. Но когда Афанасий Иванович откупорил бутылку шампанского, известного тогда под фирмою champagne rosé (которое было нечто в роде кремана, но однако не креман) и предложил тост за здоровье скоро отъезжающего на Кавказ однокашника, то прозвище «Майошки» сорвалось с языка у него и было повторено Юрьевым, объяснившим Хрущеву,[311]311
Ротмистр, эскадронный командир конногвардейского полка, дежурный в этот день по полку и зашедший к Синицыну поужинать.
[Закрыть] что так они в школе, где всем давались клички и собрике, прозвали Лермонтова по причине его сутуловатости и даже неуклюжести, при росте весьма не богатырском. Это подало повод Юрьеву и Синицыну распространиться в воспоминаниях о различных случаях из школьной из жизни, заставлявших весело смеяться Хрущева и меня.
– А вот, брат Синицын, – говорил Юрьев, – ты кажется, не знаешь о нашей юнкерско-офицерской проделке на Московской заставе в первый год, т. е. в 1835 году, нашего с Лермонтовым производства в офицеры. Проделка эта названа была нами, и именно Лермонтовым, «всенародною энциклопедиею имен».
– Нет, не знаю, – отозвался Синицын, – расскажи, пожалуйста.
– Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного (начал Юрьев), а я был в городе, приехав, как водится, из моей скучной новгородской стоянки. Бабушка соскучилась без своего Мишеля, пребывавшего в Царском и кутившего там напропалую в веселой компании. Писано было в Царское; но «Майошка» и ухом не вел, все никак не приезжал. Наконец решено было его оттуда притащить в Петербург bon gré, mal gré.[312]312
Хочет не хочет.
[Закрыть] В одно прекрасное февральское утро честной масляницы, я, по желанию бабушки, распорядился, чтоб была готова извощичья молодецкая тройка с пошевнями, долженствовавшая мигом доставить меня в Царское, откуда решено было привезти le déserteur,[313]313
Дезертира (беглеца).
[Закрыть] который, масляница на проходе, не пробовал еще у бабушки новоизобретенных блинов ее повара Тихоныча, да к тому же и прощальные дни близки были, а Мишенька все в письмах своих уверяет, что он штудирует в манеже службу царскую, причем всякий раз просит о присылке ему малых толик деньжат. В деньжатах, конечно, отказа никогда не было; но надобно же в самом деле и честь знать. Тройка моя уже была у подъезда, как вдруг швейцарский звон объявляет мне гостей, и пять минут спустя ко мне вваливается с смехом и грохотом и cliquetis des armes,[314]314
Бряцанием оружия.
[Закрыть] как говорит бабушка, честная наша компания, предводительствуемая Костей Булгаковым, тогда еще подпрапорщиком Преображенского полка, а с ним подпрапорщик же лейб-егерь Гвоздев,[315]315
Павел Александрович Гвоздев в 1835 году из подпрапорщиков л. – гв. Егерского полка был переведен в армию юнкеров на Кавказ.
[Закрыть] да юнкер лейб-улан М-ский. Только что они явились, о чем узнала бабушка, тотчас явился к нам завтрак с блинами изобретения Тихоныча и с разными другими масляничными снадобьями, а бабушкин камердинер, взяв меня в сторону, почтительнейше донес мне по приказанию ее превосходительства Елизаветы Алексеевны, что не худо бы мне ехать за Михаилом Юрьевичем с этими господами, на какой конец явится еще наемная тройка с пошевнями. Предложение это принято было, разумеется, с восхищением и увлечением, и вот две тройки с нами четырьмя понеслись в Царское Село. Когда мы подъехали к заставе, то увидели, что на офицерской гауптвахте стоят преображенцы, и караульным офицером один из наших недавних однокашников, князь Н., веселый и добрый малый, который, увидев между нами Булгакова, сказал ему: «Когда вы будете ехать все обратно в город, то я вас, господа, не пропущу через шлагбаум, ежели Костя Булгаков не в своем настоящем виде, то есть на шестом взводе, как ему подобает быть». – Мы, хохоча, дали слово, что не один Булгаков, а вся честная компания с прибавкою двух-трех гусар будет проезжать в самом развеселом, настоящем масляничном состоянии духа, а ему предоставит честь и удовольствие наслаждаться в полной трезвости обязанностями службы царю и отечеству.
В Царском мы застали у «Майошки» пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременною жженкою, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой, эффекта ради, были вынесены все свечи и карсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации, в которых перемешаны были les rouges hussards, les bleus lanciers, les blancs chevaliers gardes, les magniflques grenadiers, les agiles chasseurs[316]316
Красные гусары, синие уланы, белые кавалергарды, великолепные гренадеры, ловкие стрелки.
[Закрыть] со всяким невообразимым вздором вроде Mars, Paris, Apollon, Henri IV, Louis XIV, la divine Natascha, la suave Lisette, la succulente Georgette[317]317
Марс, Парис, Аполлон, Генрих IV, Людовик XIV, божественная Наташа, сладостная Лизетта, сочная Жоржетта.
[Закрыть] и пр., а «Майошка» изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарроновском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царскосельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная на ком сорвать отчаяние, велел отпороть двух или трех дворцовых истопников; словом, шла «гусарщина» на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки sine qua non. К нашему каравану присоединились еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с полокороком, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги, никогда Шампаньи, конечно, не видавшей. Перед выездом заявлено было «Майошкой» предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и пр. играли бы главную роль с переделкою характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу, и объявил на себя, что он marquis de Gloupignon (маркиз Глупиньон). Его примеру последовали другие, и явились: дон Скоттилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и наконец чистокровный российский дворянин Скот Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, «всенародной энциклопедии фамилий». На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из четырех троек, говорю четырех, потому что к нашим двум в Царском присоединилось еще две тройки гусар. Кучер объявил, что надо «сердечного» распрячь и освежить снегом, так как у него «родимчик». Не бросить же было коня на дороге, и мы порешили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимою пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, т. е. разместили там разные доски, какие нашли, на поленья и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено, в память нашего пребывания в этом балагане, написать на стене его, хорошо выбеленной, углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем чтобы каждый написал один стих. Нас было десять человек, и написано было десять нелепейших стихов, из которых я помню только шесть; остальные четыре выпарились из моей памяти, к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать тщету славы: их уничтожила новая штукатурка в то время, когда балаган, пустой зимою, сделался временною лавочкою летом.
Гостьми был полон балаган.
Болванешни, Молдаван,
Стоял с осанкою воинской;
Болванопуло было Грек,
Чурбанов, русский человек,
Да был еще Поляк Глупчинский.
– Таким образом, – продолжал Юрьев, – ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте, в два почти часа ночи, предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки; но кто-то из нас, менее других служивший Вакху (как говаривали наши отцы), указал служивому оборотную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше корнетского, были ясно прописаны. «Но все-таки, – кричал Булгаков, – непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе». – «Слушаю, ваше сиятельство, – отвечал преображенец и крикнул караульному у шлагбаума: Бомвысь!», – и мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де-Глупиньон.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1839–1845]
Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.
[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. II, 1893 г., стр. 152.]
Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй части нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее, стихотворение, в котором он обращался прямо к императору, требуя мщения.[318]318
Обращение к императору, как известно, было не в самом тексте стихотворения, но в эпиграфе («Отмщенье, государь, отмщенье» и т. д.).
[Закрыть] При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а засим переведен в полк на Кавказ.
Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась, в значительной степени, в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный в театр вечной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный наконец сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое, – о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет у места провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно в смысле поэта и писателя.
Пушкин весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии, с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.
Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разные пьесы.
Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже и самой маленькой из его отдельных пьес.
Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие ему в голову, не зная сам, что он с ними сделает, а потом включал их в то или другое стихотворение, к которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он, сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, знакомство со своими силами и, так сказать, правильная эксплуатация его различных способностей; по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти отправки причиной того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова; это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему издателю, так что от нее у нас остались только первоначальные наброски стихотворений, вполне законченных, которые в ней заключались.
[Перевод из французского письма Е. Л. Ростопчиной к Ал. Дюма. Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex Dumas. II, Leipzig, 1859, pp. 255–257]
Копия.
ПО ТИТУЛЕ.
Просят: Лейб Гвардии Гусарского полка корнет (ныне Нижегородского Драгунского полка Прапорщик) Михаило Юрьев сын Лермантов и тетки его, из Дворян девицы: Александра и Наталья Петровы дочери Лермантовы и Титулярная Советница Елена Петрова дочь, по муже Виолева, урожденная Лермантоваж; а в чем наше прошение, тому следуют пункты.
1.
По кончине родителя моего, а нашего брата, 1-го Кадетского Корпуса Капитана Юрия Петровича Лермантова осталось движимое и недвижимое имение Тульской Губернии Ефремовского уезда сельцо Кропотово, или Любашевка, Каменный верх тож, в котором по последней ревизии написано за ним 131 душа мужеского пола, а ныне на лицо 130 душ с рожденными после ревизии. Сему имению мы состоим единственными наследниками.
2.
Последняя воля родителя моего была та, что бы упомянутое имение разделено было между нами на две половины, из коих одну мне Михаилу, а другую упомянутым теткам моим. Сохраняя в живой памяти священную для сердца моего волю сию, я Михаиле исполняю оную полюбовным разделом нашим на следующих положениях: I, Я Михаило беру на свою часть из дворовых 14 душ мужеского и женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян 15 семей и именно: [следует перечень] в коих заключается 52 души мужеского и 49 женского пола, а всего дворовых крестьян 66 мужеского и 68 душ женского пола без всякого раздробления семей со всем их имуществом. II, Мне, Александре из дворовых 5 душ мужеского и 9 женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян четыре семьи и именно: [следует перечень], в коих состоит 15 душ мужеского и 18 женского пола, а всего дворовых и крестьян 20 душ мужеского и 27 женского пола без всякого раздробления семей со всем их имуществом. III, Я Наталия получаю на свою часть: из дворовых 5 душ мужеского и 7 женского пола и именно: [следует перечень]. Из крестьян четыре семьи и именно: [следует перечень], в коих заключается 16 душ мужеского и 20 женского пола без всякого раздробления оных со всем их имуществом, а всего и дворовых и крестьян 21 душу мужеского и 27 женского пола. IV, Мне Елене осталось дворовых 6 душ мужеского и 7 женского пола и именно: [следует перечень], крестьян пять семей и именно: [следует перечень], в коих состоит 17 мужеского и 19 душ женского пола, без всякого раздробления семей со всем их имуществом и всего и дворовых и крестьян 23 мужеского и 26 женского пола душ. V, Господский дом со всею движимостью я Михаило предоставляю в собственность упомянутых теток моих, а прочее строение остается на моей части. VI, Старый сад и одну половину огородной земли мне Михаилу; а молодой сад и другую половину огородной земли мы Александра, Наталия и Елена получаем на свою часть. VII, Долг Московского Опекунского Совета, в котором имение наше состоит под залогом, упадает на каждого из нас по числу доставшихся душ. VIII, Земли, принадлежащей нашему имению, значится по купчей крепости 1.350 десятин, а за исключением 200 десятин, проданных еще до залога имения, остается 1.150 десятин. Из сего количества земли одну половину, то есть, 575 десятин мне Михаилу; а из другой половины мы Александра, Наталия и Елена получаем каждая на свою часть по 191 десятине 1.600 сажен, включая в это число садовую, огородную и усадебную землю. IX, Лес остается в общем нашем владении на праве собственности общем. X, Часть земли нашей состоит в чресполосном владении с соседями и с живущими в имении нашем однодворцами Кремлевыми, но как мнением Государственного Совета, Высочайше утвержденным 8-го Генваря 1836-го года предоставлено владельцам таковых земель разводиться между собою к одним местам полюбовно; то, если при полюбовных разводах с соседями и однодворцами, или в последствии по распоряжению Правительства отойдет или прибудет какая-нибудь часть земли в наше владение, в таком случае как убыль, так и прибыль должна падать на нас по соразмерности частей. XI, По обоюдному согласию с теткою моею Натальею мы сделали размен дворовых людей, а именно: я Михаило взял себе из числа положенных за нею в ревизии Амподика Степанова и Ивана Федорова с их семействами; а ей Наталье, в замен их отдал Якова Васильева с женою и детьми обоего пола и Ефрема Спиридонова с женою. Я же Наталья уступила сестре моей Александре из числа положенных за мною по ревизии Николая Федорова с женою и матерью. XII, По утверждении сего полюбовного раздела нашего каждый из нас обязан будет перечислить на себя доставшиеся ему души для платежа Государственных податей и для отправления других повинностей. XIII, За таковым добровольным разделом наследственного имения нашего оставаться каждому из нас своею частью довольным и впредь как нам, так и наследникам нашим более ничего не требовать и сего полюбовного раздела нашего ничем и ни под каким предлогом не опорочивать и не опровергать. XIV, Цену упомянутому имению нашему объявляем 60.000 рублей Государственными ассигнац.