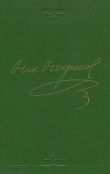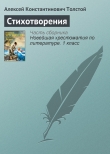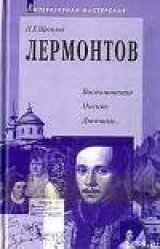
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их. Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненый в ключицу; Тиран, лейб-гусар; А. Васильчиков, чиновник при Гане, присланном для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 682–683]
Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в майоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен; уж такая натура! Он свел меня с Дмитревским,[542]542
Дмитревский незадолго до этого был назначен вице-губернатором Кавказской области. «К сожалению, он недолго пользовался, – пишет Лорер, – благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф „Карих глаз“».
[Закрыть] нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитревский был поэт; он в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говорил обыкновенно: «После твоих стихов, разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза».
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 683–684]
Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, и Лермонтов был душою общества и производил сильнейшее впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера; устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 684]
В мае месяце 1841 года М. Ю.Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи.
Он нисколько не ухаживал за мной,[543]543
Воспоминания Э. А. Шан-Гирей (падчерицы Верзилина, урожд. Клингенберг) не всегда объективны. Многие из современников совершенно неосновательно видели в ней прототип княжны Мери, другие считали ее виновницей ссоры между Лермонтовым и Мартыновым. Как бы там ни было, но ближайшее участие Эмилии Александровны в событиях, предшествовавших смерти поэта, увеличивая интерес и значение ее показаний, заставляет в то же время с большой осторожностью относиться к той части их, в которой мемуаристка характеризует свои отношения к Лермонтову.
[Закрыть] а находил особенное удовольствие me taquiner.[544]544
Меня дразнить.
[Закрыть] Я отделывалась как могла то шуткою, то молчаньем, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез; я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, не надолго.
Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Каррас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари a discretion,[545]545
На что угодно.
[Закрыть] что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу,[546]546
Сын шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа.
[Закрыть] чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.
[Эмилия Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, стр. 315–316]
В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым ограничивалось только несколькими словами при встречах. Сойтиться ближе мы не могли. Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, и скорее отталкивающая, нежели привлекающая, а главное, в то время, даже и на Кавказе, был особенный, известный род изящных людей, людей светских, считавших себя выше других по своим аристократическим манерам и светскому образованию, постоянно говорящих по-французски, развязных в обществе, ловких и смелых с женщинами и высокомерно презирающих весь остальной люд, которые, с высоты своего величия, гордо смотрели на нашего брата армейского офицера и сходились с нами разве только в экспедициях, где мы в свою очередь с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, и по характеру своему не любил дружиться с людьми: он всегда был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в жизни.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., кн. 1, стр. 113–114]
Любили мы его [Лермонтова] все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было с какой стороны подойти. Особенным неженкой он не был, а пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков. Над всеми нами он командир был. Всех окрестил по-своему. Мне, например, ни от него, ни от других, нам близких людей, иной клички, как Слёток, не было. А его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он хотя нас и любил, но вполне близок был с одним Столыпиным. В то время посещались только три дома постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. Потом, мы также часто бывали у генеральши Катерины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта кисловодской крепости.[547]547
Раевский рассказывает будто бы ей пришлось самой распоряжаться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг Николай I прислал ей бриллиантовый браслет и фермуар с георгиевскими крестами. На это Э. А. Шан-Гирей замечает: «Теперь несколько слов о Катерине Ивановне Мерлини. Она известна была своей оригинальностью, звали ее все просто: генеральша. Я знала ее с самого детства. Муж ее, генерал-лейтенант, считался по армии и жил в собственном доме в Пятигорске, никогда и не был комендантом Кисловодской крепости. Ее храбрая распорядительность в Кисловодске легендарна, но утвердительно могу заявить, что никогда и ни за какие дела не получала она императорских бриллиантов, ни подарков с георгиевскими крестами. Она была отличная наездница, ездила на мужском английском седле и в мужском платье (привычку эту приобрела она за Кавказом). Лошади у нее были свои, прекрасные – в 41-м году в кавалькадах не участвовала, да и вообще, сколько я помню, предпочитала ездить одна» («Нива», 1885, № 27, стр. 643).
[Закрыть] Был еще открытый дом Озерских, приманку в котором составляла миленькая барышня Варенька.[548]548
Э. А. Шан-Гирей замечает: «Сашенька Озерская, очень хорошенькая и миленькая девушка, жила с матерью скромно, и нигде не бывала. Варинька, лет 14, дочь казачьего офицера, жила в станице и единственная дочь доктора Лебединского была уже замужем» («Нива», 1885, № 27, стр. 646).
[Закрыть] Она была барышня хорошо образованная; но у них Михаил Юрьевич никогда не бывал, так как там принимали неразборчиво, а поэт не любил, чтобы его смешивали с l'armée russe, как он окрестил кавказское воинство.
…Часто устраивали у нас кавалькады… Обыкновенно мы езжали в Шотландку, немецкую колонию в 7-ми верстах от Пятигорска, по дороге в Железноводск. Там нас с распростертыми объятиями встречала немка Анна Ивановна, у которой было нечто вроде ресторана и которой мильх и бутерброды, наравне с двумя миленькими прислужницами Милле и Гретхен, составляли погибель для l'armée russe.
У нас велся точный отчет об наших parties de plaisir. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «альбоме приключений», в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. После этот альбом достался князю Васильчикову или Столыпину; не помню, кому именно.[549]549
Об этом альбоме Э. А. Шан-Гирей писала: «альбом, в котором рисовал Лермонтов, сам, один, карикатуры на всех знакомых, а больше всего на Мартынова, достался Глебову, он показывал мне его» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).
[Закрыть] Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвища. И язык же у него был! Как, бывало, прозовет кого, так кличка и пристанет. Между приезжими барынями были и belles pales,[550]550
Бледные красавицы.
[Закрыть] и grenouilles évanouies.[551]551
Лягушки в обмороке.
[Закрыть] А дочка калужской помещицы Быховец, имени которой я не помню именно потому, что людей, окрещенных Лермонтовым, никогда не называли их христианскими именами, получила прозвище la belle noire.[552]552
Прекрасная брюнетка.
[Закрыть] Они жили напротив Верзилиных, и с ними мы особенно часто видались.[553]553
Э. А. Шан-Гирей замечает: «М-llе Быховец жила у двоюродной сестры своей, М. А. Прянишниковой, имение которой, Тарумовка, – около Кизляра. Прозвали ее креолкой за бронзовый цвет лица и большие черные глаза. Молодые люди бывали у них редко и никакой милости не добивались у нее ни Мартынов, ни другие. Она давно замужем и живет теперь в Москве» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646).
Последнее не совсем верно. Есть данные, позволяющие предполагать, что Катей Быховец были несколько увлечены и Мартынов, и Лермонтов.
[Закрыть]
[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи В. Желиховской. «Нива», 1885 г. № 7, стр. 167]
Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости; бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили все толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: «Пишите!» И написал он шутку-экспромт.
Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью курда.
[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, кн. 6, стр. 316]
Покойный П. А. Гвоздев, товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова. 8 июля он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую – мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук.
[А. Меринский. «Атеней», 1858 г., № 48, стр. 304]
Как-то раз, недели за три-четыре до дуэли,[556]556
И тут, кажется, Раевский ошибается. Сопоставляя ряд других свидетельств, с наибольшим вероятием можно предположить, что бал в гроте состоялся за неделю до дуэли, в ночь с 8 на 9 июля 1841 года.
[Закрыть] мы сговорились, по мысли Лермонтова, устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. Распорядителем на наших праздниках бывал обыкновенно генерал князь Владимир Сергеевич Голицын,[557]557
Э. А. Шан-Гирей так характеризует князя Голицына: «Князь Владимир Сергеевич Голицын, умевший хорошо устраивать празднества, любил доставлять удовольствия молодежи. Однажды он вздумал сделать сюрприз такого рода: устроил помост над провалом (тогда тоннеля не было), такой прочный и обширный, что на нем без страха танцевали в шесть пар кадриль. Этот висячий мост держался долго. Любопытные спускались на блоке до самой воды. Спускались Веригин и английской службы полковник Камертон; был ли этот англичанин известным игроком [как об этом писал Раевский] не знаю. Верно то, что ни прежде, ни после он в Пятигорске не был» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 643).
[Закрыть] но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщин хорошего общества угощать постоянными трактирными ужинами, после танцев с кем ни попало на открытом воздухе. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным обществом. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном Ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далеко за городом и что затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, позднею ночью обратно в город. Ведь, биржевых-то дрожек в городе было 3–4, а свои экипажи у кого были? Так не на повозках же тащить?[558]558
Э. А. Шан-Гирей замечает: «Точно, биржевых дрожек было мало, но почти все имели свой экипаж» («Нива», 1885 г., № 27, стр. 646). О самом же вечере она рассказывает так: «В начале июля Лермонтов и комп[ания] устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шелковыми материями в виде персидской палатки, пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство» («Русский Архив», 1889, кн. 6, стр. 316).
[Закрыть]
– Так здешних дикарей учить надо! – сказал князь.
Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях, которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти, и, возвратившись домой, он сказал нам:
– Господа! На что нам непременно главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас, – и не надо. Мы и без него сумеем справиться.
Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну; а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел – прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали по обыкновению с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся, несмотря на присутствие armée russe. Íечего и говорить, что князя Голицына не только не пригласили на наш пикник, но даже не дали ему об нем знать. Но ведь немыслимо же было, чтоб он не узнал о нашей проделке в таком маленьком городишке. Узнал князь и крепко разгневался – то он у нас голова был, а тут вдруг и гостем не позван. Да и не хорошо это было, почтенный он был, заслуженный человек.
[Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова по записи В. Желиховской. «Нива»,1885 г., № 7, стр. 167–168]
За что поссорилась молодежь с кн. Голицыным, не знаю, только его не было на этом пикнике, в отместку за это он не пригласил их на бал, который затеял в казенном саду 15-го июля, в день своих именин. Зала готовилась из ковров, зеркал и деревьев под открытым небом; весь сад должен был быть иллюминован и в заключение фейерверк.
[Э. А. Шан-Гирей. «Нива», 1885 г., № 27, стр. 646]
…Как же я весело провела время! Этот день [8 июля 1841 года] молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями; колонны обвиты цветами и люстры все из цветов; танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер очаровательный; небо было так чисто; деревья от освещенья необыкновенно хороши были, аллея также была освещена, и в конце аллеи была уборная прехорошенькая, два хора музыки. Конфект, фрукт, мороженого беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали, после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов, как cousin, предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил.
Мы с ним так дружны были: он мне правнучатный брат и всегда называл cousine, а я его cousin, и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем charmante cousine[559]559
Очаровательная кузина.
[Закрыть] Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.
Этот пикник последний был; ровно чрез неделю мой добрый друг убит, а давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!
[Из письма Е. Быховец к сестре от 5 августа 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 766–767]
В июле месяце молодежь задумала дать бал Пятигорской публике, которая, само собою разумеется, более или менее между собой знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала устройству праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи, у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом; стены обтянули персидскими коврами; повесили искусно импровизированные люстры, из простых обручей и веревок, обвитых, чрезвычайно красиво, великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более 2 500 разноцветных фонарей… Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами мотивы музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей. Бальная музыка стояла в аллее; красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана была шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтобы полюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим настроением и желанием людей, выказалась в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружили густыми рядами кружащихся и веселившихся счастливцев.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 684–686]
Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил: «Видите ли вы даму Дмитревского?… Это его карие глаза?.. Не правда ли, как она хороша!» Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей… Главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 686]
Бал продолжался до поздней ночи или, лучше сказать, до самого утра… При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанут для многих или, лучше сказать, для всех нас участников горесть и сожаление!
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687]
В Пятигорске жило в то время семейство генерала Верзилина, находившегося на службе в Варшаве при князе Паскевиче, состоявшее из матери и трех взрослых дочерей девиц. Это был единственный дом в Пятигорске, в котором почти ежедневно собиралась вся изящная молодежь пятигорских посетителей, в числе которых были Лермонтов и Мартынов. В особенности привлекала в этот дом старшая Верзилина, Эмилия,[560]560
Лермонтов называл Эмилию Александровну Шан-Гирей (урожд. Клингенберг) «Верзилией», соединив в этом прозвище начало фамилии ее отчима и конец ее имени.
[Закрыть] девушка уже немолодая, которая еще во время посещения Пятигорска Пушкиным прославлена была им как звезда Кавказа, девушка очень умная, образованная, светская, до невероятности обворожительная и превосходная музыкантша на фортепиано, – отчего в доме их, кроме фешенебельной молодежи, собирались и музыканты, – но в то время уже очень увядшая и пользовавшаяся незавидной репутацией. Она была лихая наездница, часто составляла кавалькады, на которых была одета всегда в каком-нибудь фантастическом костюме. Рассказывали, что однажды пришел к Верзилиным Лермонтов в то время, как Эмилия, окруженная толпой молодых наездников, собиралась ехать верхом куда-то за город. Она была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила его: «Не правда ли, хорошенький кинжальчик?» – «Да, очень хорошо», – отвечал он, – «им особенно ловко колоть детей», – намекая этим язвительным и дерзким ответом на ходившую про нее молву. Это характеризует язвительность и злость Лермонтова, который, как говорится, для красного словца не щадил ни матери ни отца.
Так, говорили, поступал он и с Мартыновым, при всяком удобном случае отпуская ему в публике самые едкие колкости.
[Костенецкий. «Русский Архив», 1887 г., т. I, кн. 1, стр. 115–116]
Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собранье, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la dernière fois de ma vie»[561]561
Эмилия Александровна, прошу вас один только тур вальса, последний раз в моей жизни.
[Закрыть] – «Ну уж так и быть в последний раз, пойдемте». – М. Ю. дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин,[562]562
Лев Сергеевич Пушкин, майор, брат поэта.
[Закрыть] который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык à qui mieux mieux.[563]563
Взапуски
[Закрыть] Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл кн. Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его montagnard au grand poignard.[564]564
Горец с большим кинжалом.
[Закрыть] (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал.) Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», – и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: язык мой враг мой, М. Ю. отвечал спокойно: «Се n'est rien; demain nous serons bons amis».[565]565
Это ничего; завтра мы будем добрыми друзьями.
[Закрыть] Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да», – и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах.[566]566
О последней ссоре Лермонтова с Мартыновым рассказывает А. П. Шан-Гирей, не бывший очевидцем, со слов жены своей Эмилии Александровны. Шан-Гирей ошибочно относит этот вечер к 14 июля: вернее всего, последняя ссора Лермонтова с Мартыновым произошла 13 июля.
«Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозванье Montagnard au grand poignard; оно бы кажется и ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля, вечером, собралось много в доме Верзилиных: общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: „M-lle Emille, prenez garde, voici que s'approche le farouche montagnard“ [Эмилия Александровна, берегитесь, вот приближается дикий горец]. Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но по несчастию князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова le farouche montagnard раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:
– М. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes. [Ã-н Лермонтов, я много раз просил вас удерживаться от насмешек на мой счет, хотя бы при дамах].
– Allons donc, – отвечал Лермонтов, allez vous vous fâcher sérieusement et me provoquer? [Уж не собираетесь ли вы рассердиться серьезно и вызвать меня?].
– Oui, je vous provoque [Да, я вас вызываю], – сказал Мартынов и вышел» [А. П. Шан-Гирей. «Русское Обозрение» 1890 г., кн. 8, стр. 753].
[Закрыть]
[Э. А. Шан-Гирей. «Русский Архив», 1889 г., т. II, стр. 316–317]
Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере нам, Столыпину, Глебову и мне, известно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростию самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение 3-х дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.
На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля, часов в 6–7 вечера, мы поехали на роковую встречу; но и тут, в последнюю минуту, мы, и, я думаю, сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут… ужинать.
[А. Васильчиков. «Русский Архив», 1872 г., кн. 1, стр. 209–210]
Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры [на него] его беспрестанно прибавлялись. Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом. Он назвал при дамах M-r le Poignard и sauvage'ом.[567]567
Г-н кинжал и дикарь.
[Закрыть] Он [т. е. Мартынов] тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним.[568]568
П. Бартенев пишет: «Покойный Н. С. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске. Тут же Лермонтов много рисовал. По словам Мартынова, талант к живописи был у него необыкновенный. Н. С. Мартынов получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный и, как видно из кратких его Записок, владел пером. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал их» (П. Бартенев. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 604). Стихи Мартынова помещены в «Сборнике биографий кавалергардов», составленном С. Панчулидзевым, СПБ., 1908, на стр. 103–106. А также: Нарцов «Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых». Тамбов, 1904, стр. 111–140.
[Закрыть]
Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупой вызвал Лерм[онтова]. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас – ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил; великий князь [Михаил Павлович] ненавидел, [они?] не могли его видеть, и тут еще любовь: он [Лермонтов] был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был.
[Из письма Е. Быховец от 5 августа 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 766–767]
С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее. На вечере в одном частном доме,[569]569
У Верзилиных
[Закрыть] за два дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей; следовательно, ты никого этим не испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда он придет домой. Через четверть часа вошел ко мне в комнату Глебов. Я объяснил ему в чем дело, просил его быть моим секундантом и, по получении от него согласия, сказал ему, чтобы он на другой же день с рассветом отправился к Лермонтову. Глебов попробовал было меня уговаривать; но я решительно объявил ему, что он из слов самого же Лермонтова увидит, что в сущности не я его вызываю, но меня вызывают, и что потому мне невозможно сделать первому шаг к примирению.
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. «Русский Архив», 1883 г., кн. 8, стр. 597–598]
Я первый вызвал его. На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов. Уверившись, что они все это говорят от себя, но что со стороны Лермонтова нет даже и тени сожаления о случившемся, я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним пойти на то же. Они настаивали, напоминали мне прежние мои отношения, говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске, и что все это будет расстроено глупой историей. Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, я сказал им, чтобы они сделали воззвание к самим себе: поступили бы они иначе на моем месте? После этого меня уже никто больше не уговаривал.[570]570
В другой черновой рукописи написано и перечеркнуто вместо этого нижеследующее: «Вследствие этих слов Лермонтова: „Вместо пустых угроз“, и проч., которые уже были некоторым образом вызов, я на другой день требовал от него формального удовлетворения. Васильчиков и Глебов старались всеми силами помирить меня с ним; но так как они не могли сказать мне ничего от его имени, а только хотели [сбоку приписано: „а только хотели проверить меня“] уговорить меня взять назад мой вызов, я не мог на это согласиться. Я отвечал им, что я уже сделал шаг к сохранению мира, прося его оставить свои шутки, и что он пренебрег этим, и что сверх того теперь уже было поздно, когда сам он надоумил меня в том, что мне нужно было делать. В особенности я сильно упирался на совет, который он мне дал накануне, и доказывал им, что этот совет был не что иное, как вызов. После еще нескольких попыток с их стороны, они убедились, что уговорить меня взять назад вызов есть дело невозможное».
[Закрыть]
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым. «Русский Архив»,1893 г., кн. 8, стр. 598–599]
В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались; я и не предчувствовал тогда, что вижу его в последний раз. Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и 15 июля он был убит.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., ч. II, стр. 687]
Через четыре дня,[571]571
В тексте неясно: «через четыре дня» после чего? Если после вызова на дуэль, то здесь ошибка, ибо Лермонтов был убит на третий день после вызова (датируем столкновение у Верзилиных 13 июля). По всей вероятности, Лермонтов отправился в Железноводск 14 июля.
[Закрыть] он [Лермонтов] поехал на Железные; был в этот день несколько раз у нас и все меня упрашивал приехать на Железные; это 14 верст отсюда. Я ему обещал и 15-го [июля] мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитриевский[572]572
Вице-губернатор Кавказской области, приехавший на лето 1841 г. в Пятигорск, поэт, друг сосланных на Кавказ декабристов.
[Закрыть] и Бенкендорф[573]573
Бенкендорф, А. А., юнкер, сын гр. А. Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения соб. е. в. канцелярии.
[Закрыть] и Пушкин, брат сочинителя, – верхами.
На половине дороги, в колонке[574]574
Колония Каррас, или Шотландка.
[Закрыть] мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и всё там гуляли. Я всё с ним ходила под руку. На мне было бандо.[575]575
Эмилия Шан-Гирей об этом пишет так: «М-llе Быховец носила на голове золотой ободок, называвшийся по тогдашней моде bandeau. Когда она с кузиной своей ехала в Железноводск, то встретилась случайно в колонии Каррас с Лермонтовым и Столыпиным, обедали вместе, и М. Ю. выпросил у Быховец ободок и, положив его в боковой карман сюртука, обещал доставить его на другой день. Этот ободок был найден в кармане и подавал повод некоторым думать, что дуэль была за нее. Простившись, Быховец с Прянишниковой поехали в Железноводск, а Лермонтов и Столыпин в Пятигорск, но, свернув с дороги, неподалеку от кладбища встречены были Мартыновым, Глебовым и Васильчиковым и, выбрав удобное место в лесу, стрелялись» («Нива» 1885 г. № 27, стр. 646).
[Закрыть] Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что всё та же;[576]576
То есть любовь к В. А. Бахметевой (урожд. Лопухиной).
[Закрыть] уговаривала его, утешала как могла, и с полными глазами слез [он меня] благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я пошла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.
В колонке обедали. Уезжавши он целует несколько раз мою руку и говорит: «Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни».
Я еще над ним смеялась; так мы и отправились.
Это было в пять часов, а [в] 8 пришли сказать, что он убит.
[Из письма Е. Быховец от 5 авг. 1841 г. «Русская Старина», 1892 г., кн. 3, стр. 767–768]
Что ж? умереть, так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте!..
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствовал в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, – лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья, – и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!
И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!
[Лермонтов. «Княжна Мери»]
Я был знаком с Лермонтовым с самого вступления моего в юнкерскую школу. Отношения наши были довольно короткие. Поводом же к его остротам на мой счет, вероятно, было не что иное, как желание поострить; по крайней мере я других причин не знаю. Но как в подобном расположении духа человек легко увлекается и незаметно переходит от неуместной шутки к язвительной насмешке и так далее, то я был принужден несколько раз останавливать его и напоминать, что всему есть мера. Хотя подобные шутки нельзя назвать дружескими, потому что они всегда обидны для самолюбия, но я подтверждаю еще раз то, что честь моя была затронута не насмешками его, но решительным отказом прекратить их и советом прибегнуть к увещаниям другого рода; что, вступая с ним в объяснение, я и виду не имел вызывать его на дуэль, но что после подобной выходки с его стороны, по понятиям, с которыми мы как будто сроднились, мне уже не оставалось другого средства окончить с честью это дело: я почел бы себя обесчещенным, если бы не принял его совета и не истребовал у него удовлетворения.
[Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда, данные 16 сентября 1841 г. «Русский Архив», 1893 г., кн. 8, стр. 603]
Мартынов, с неподдельной простотою и искренностью, рассказал мне приблизительно следующее: он был в дружеских отношениях с Михаилом Юрьевичем, но в последнее время вышло нечто, вызвавшее крупное объяснение. Приятели таки раздули ссору. Состоялась несчастная дуэль. Секунданты условились о порядке дуэли; были приготовлены пистолеты Кухенрейтера, крупного калибра и дальнобойные. Разумеется, обе стороны согласились на условия, поставленные секундантами. Перед дуэлью, – она не составляла для Мартынова шутки, – он заранее обдумал план своих действий. Он порешил, не поднимая на прицел пистолета, крупными шагами подойти к указанному секундантами барьеру, и тогда, прицелясь, стрелять. Противник его, как оказалось на самой дуэли, принял метод совершенно противуположный: он, обратясь к Мартынову вполне правым боком, держа пистолет, с места, на полном прицеле, медлительно подвигался к барьеру, так что Мартынов мог ожидать выстрела ежемгновенно, даже с первого, подходного шага своего к барьеру. Дойдя до пункта и начав наводить пистолет, Мартынов удивился, почему не стреляет Лермонтов, так как, наведя уже пистолет с самого начала дуэли, оставалось ему только нажать… Мартынов несколько задержал выстрел… «На нашу общую беду, – я продолжаю почти словами Мартынова, – шел резкий дождь и прямо бил в лицо секундантам… Лермонтов, приостанавливаясь на ходу, продолжал тихо в меня целить… Я вспылил – ни секундантами, ни дуэлью не шутят – и спустил курок. Лермонтов упал. Пуля прошла насквозь руку, заслонявшую бок, и в грудь».