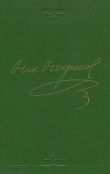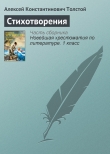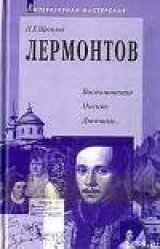
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– А, вот что, – заметил я, – так эта прелестная маленькая поэма «Хаджи Абрек», напечатанная в «Библиотеке для Чтения» прошлого 1835 года, принадлежит этому маленькому гусарику, который сейчас почти закутал меня капишоном своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно незнакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданскою тогою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жжонкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант – принадлежность такого сорвиголовы!
– Ну эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова. – засмеялся Синицын. – За тем-то он все хороводится с Константином Булгаковым,[249]249
К. Булгаков, служивший в л. – гв. Московском полку, был знаменит очень остроумными выходками, почему и был в милости у великого князя Михаила Павловича.
[Закрыть] проделками которого нынче полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако я с вами не согласен насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, сущих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове с страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его дивного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но однако в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.
– Не помните ли вы, Афанасий Иванович, – спросил я, – хоть несколько стихов из этой поэмки? Вы бы прекрасно угостили меня, прочитав из нее хоть какой-нибудь отрывок.
– Как не знать, очень знаю, – воскликнул Синицын, – и не только десяток или дюжину стихов, а всю эту поэмку, написанную под впечатлениями лагерных стоянок школы в Красном Селе, где между кавалерийскими нашими юнкерами (из которых всего больше в этот выпуск случилось уланов) славилась своею красотою и бойкостью одна молоденькая красноселька. Главными друзьями этой деревенской Аспазии были уланы наши, почему в нашем кружке она и получила прозвище «Уланши». И вот ее-то, с примесью всякой скарроновщины, воспел в шуточной поэмке наш «Майошка». Слушайте: я начинаю.
– Прежде чем начать, – перебил я, – скажите на милость, почему юнкерá прозвали Лермонтова «Майошкой»? Что за причина этого собрике?
– Очень простая, – отвечал Синицын. – Дело в том, что Лермонтов маленько кривоног, благодаря удару, полученному им в манеже от раздразненной им лошади еще в первый год его нахождения в школе; да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, Бог знает почему, всех горбунов зовут Mayeux и что под названием «Monsieur Mayeux» есть один роман Рикера, вроде Поль-де-Кока; так вот «Майошка» косолапый уменьшительное французского Mayeux.
Дав мне это объяснение, Синицын прочел наизусть вслух, от первой строки до последней, всю поэмку Лермонтова…
Я с большим удовольствием прослушал стихотворение, в котором нельзя не заметить и не почувствовать нескольких очень бойких стихов, преимущественно имеющих цель чисто живописательную. Тогда Синицын вынул из своего письменного стола тетрадку почтовой бумаги, сшитую в осьмушку, и сказал мне:
– По пословице: «Кормил до бороды, надо покормить до усов». Вам, по-видимому, нравятся стишки моего однокашника, так я вам уж не наизусть, а по этой тетрадке прочту другие его стихи, только что вчера доставленные мне Юрьевым, для списка копии. Это маленькое стихотворение Лермонтова называется «Монго».
– Вот странное название! – воскликнул я.
– Да, – отозвался Синицын, – странное и источник которого мне не известен. Знаю только, что это прозвище носит друг и товарищ детства Лермонтова, теперешний его однополчанин, лейб-гусар же, Столыпин, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен весь петербургский beau monde и которого, в придачу к прозвищу «Монго», зовут еще le beau Столыпин и la coqueluche des femmes.[250]250
Любимец женщин.
[Закрыть] To стихотворение Лермонтова, которое носит это название и написано им на днях, имело, soit dit entre nous,[251]251
Между нами будь сказано.
[Закрыть] основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского близ Царского Села на Петергофскую дорогу, где, в одной из дач близ Красного Кабачка, все лето жила наша кордебалетная прелестнейшая из прелестных нимфа Пименова, та самая, что постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот писаный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство приезжего из Казани некоего, кажется, г-на Моисеева, чуть ли не из иерусалимской аристократии и принадлежащего, кажется, к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше черных глаз «Монго», с которым однако шалунья тайком виделась, и вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий отправились оба друга, то есть Монго с Майошкой. Они застали красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в сторонке, думая о том, какое ужасное мученье (тут Синицын опустил глаза в тетрадку и стал читать:)
Быть адъютантом на сраженье
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонёром,
Или на бале быть танцором…
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!
Меж тем Монго горит и тает…
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж.
Девятиместная коляска,
И в ней пятнадцать седоков…
Увы! печальная развязка!
Неотразимый гнев богов!..
То был Моисеев с своею свитой, и проч.
– Можете представить смущение посетителей и хозяйки! – продолжал Синицын. – Но молодцы-гусары, недолго думая, убедились, что (он снова прочел по рукописи):
Осталось средство им одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно.
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сдержать им головы;
Но в них проснулся дух военный:
Прыг, прыг! – и были таковы.
– Вот вам вся драма этого милого, игривого, прелестного в своем роде стихотворения, которое я целиком сейчас вам прочту; извините, попортил эффект тем, что прочел эти отрывки.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1770–1781].
Я получил от Афанасия Ивановича [Синицына] дня на два подлинную тетрадку с стихотворением «Монго» для снятия с нее копии. И вот, благодаря этой-то верной, распреверной копии тщательно списанной мастерски и каллиграфически одним из подчиненных мне тогда писарей (разумеется, за довольно изрядное вознаграждение), – я и могу теперь восстановить те стихи, которые оказываются выпущенными в напечатанных доселе. В это же утро А. И. Синицын дал мне для списания еще одно юнкерское стихотворение Лермонтова под названием: «Петергофский праздник»; но это стихотворение, полное скарроновщины, мне было не по сердцу, хотя и в нем есть места истинно превосходные, свидетельствующие о замечательном таланте автора. Достойно внимания, что в этой грязноватой поэмке главным действующим лицом был изображен юнкер Мартынов, вышедший в гатчинские кирасиры, родной и старший брат Мартынова, имевшего несчастие убить на дуэли в 1841 году Лермонтова.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1784–1785]
[Пушкин], по словам графа Васильева, не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами.
– Далеко мальчик пойдет, – говорил он.
Между тем некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.
– Брось ты свои стихи, – сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов, – государь узнает, и наживешь ты себе беды!
– Что я пишу стихи, – отвечал поэт, – государю известно было еще, когда я был в Юнкерской школе, через великого князя Михаила Павловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил…[252]252
Рассказы Васильева в передаче Мартьянова носят легендарный характер.
[Закрыть]
[Н. В. Васильев в передаче П. К. Мартьянова «Дела и люди века», 1893 г., т. II, стр. 152]
Парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря,[253]253
День именин Николая I.
[Закрыть] в Новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц в фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры – вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями коего были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту и – не зная, куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума – предавались буйному разгулу, погубившему многих из них. Лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.
[Васильчиков. «Голос», 1875 г., № 15]
ЧАСТЬ 3
СТИХИ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА И ПЕРВАЯ ССЫЛКА
[1837–1838]
Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта – Лермонтова.
В. А. Соллогуб
Какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..
Лермонтов. «Тамань»
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
1837.27 января. На дуэли с Дантесом смертельно ранен А. С. Пушкин.
1837.28 января. Лермонтов пишет стихотворение на кончину Пушкина «Смерть поэта». [?]
1837.30 января. В. П. Бурнашев в кондитерской Вольфа списывает у С. Н. Глинки стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина.
1837.21 февраля. Показание С. А. Раевского по делу о «непозволительных стихах, написанных корнетом л. – гв. Гусарского полка Лермонтовым».
1837.Февраль. Объяснение Лермонтова по тому же делу.
1837.27 февраля. Высочайший приказ о переводе л. – гв. Гусарского полка корнета Лермонтова в Нижегородский драгунский полк прапорщиком.
1837. Весною. Лермонтов в Тамани.
1837.Май и июнь. Лермонтов в Пятигорске. Знакомство с доктором Николаем Васильевичем Майером и Виссарионом Григорьевичем Белинским.
1837.С конца июня по сентябрь. Два пеших эскадрона Нижегородского драгунского полка находятся в рекогносцировке Кавказского хребта и Лезгинской линии.
1837. История с пропажей письма к Н. С. Мартынову, которое со вложением 300 рублей было послано с Лермонтовым.
1837. 11 октября. Высочайший приказ о переводе Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова в л. – гв. Гродненский гусарский полк корнетом.
1837.Осень. Письмо к С. А. Раевскому, в котором Лермонтов рассказывает о своих скитаниях по Кавказу.
1837.25 ноября. Лермонтов выключен из списков Нижегородского драгунского полка.
1837.14 декабря. Лермонтов на станции Прохладная.
1837.Конец года. В Ставрополе Лермонтов знакомится через Сатина и Майера с декабристами: Вл. Ник. Лихаревым, Ник. Ив. Лорером, Мих. Ал. Назимовым, Мих. Мих. Нарышкиным, кн. А. И. Одоевским, бар. А. Е. Розеном, кн. Вал. Мих. Голицыным, С. И. Кривцовым.
1837. Написано много стихотворений, среди которых: «Бородино», «Узник», «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Казначейша».
1838.Начало года. Лермонтов знакомится с Жуковским; передает ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу» и получает экземпляр «Ундины» с собственноручною надписью Жуковского.
1838.16 февраля. Отъезд Лермонтова в Новгород.
1838.25 февраля – 19 апреля. Лермонтов в л. – гв. Гродненском гусарском полку в Новгороде и два раза в отпуску в Петербурге, каждый раз по восемь дней.
1838.24 марта. Письмо графа Бенкендорфа к военному министру графу Чернышеву с просьбой простить Лермонтова.
1838.9 апреля. Высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк.
1838.Май. Возвращение Лермонтова в Петербург.
СТИХИ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА И ПЕРВАЯ ССЫЛКА
Через Раевского Мишель познакомился с А. А. Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в «Отечественных Записках». Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который однако же все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 739]
Лермонтова страшно поразила смерть Пушкина. Он благоговел перед его гением, и весьма незадолго до дуэли познакомился с ним лично.[254]254
Никаких точных данных, позволяющих утверждать, что Лермонтов был знаком с Пушкиным, у нас нет. Шан-Гирей определенно заявляет: «Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным» (см. ниже). Однако не исключена возможность того, что поэты встречались несколько раз в литературный салонах и кружках.
[Закрыть] Поэты встречались в литературных кружках. Пушкин интересовался задуманными А. А. Краевским «Литературными Прибавлениями к Русскому Инвалиду», и для первого номера, вышедшего 4 января 1837 года, дал стихотворение свое «Аквилон»,[255]255
«Аквилон» появился в печати 2 января 1837 г, позднее, но еще до смерти Пушкина, вышло в свет третье издание «Евгения Онегина» – это последнее произведение Пушкина, напечатанное при его жизни.
[Закрыть] кажется, последнее, которое поэт видел напечатанным незадолго до своей смерти. Влад. Серг. Глинка сообщал, как Пушкин в эту же пору, прочитав некоторые стихотворения Лермонтова, признал их «блестящими признаками высокого таланта».
[Висковатый. «Лермонтов на смерть А. С. Пушкина» По подлинным документам. «Вестник Европы», 1887 г., т. I, стр. 331]
Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была между прочим наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), – несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей железный стих,
облитый горечью и злостью… —
он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно.
Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина».[256]256
Стихотворение «Смерть поэта» ходило по рукам с разными заглавиями. В том числе одним из наиболее распространенных заглавий было: «На смерть Пушкина».
[Закрыть]
[И. И. Панаев, стр. 14–15]
Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща… Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужь ли в самом деле нет у нас Пушкина… К этой мысли нельзя привыкнуть!
29 января 2 ч. 45 м. пополудни.
[ «Литературные Прибавления к „Русскому Инвалиду“» № 5, 30 янв. 1837]
Наталья Николаевна Пушкина, с душевнымъ прискорбiемъ извещая о кончине супруга ея, Двора Е. И. В. Камеръ-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей в 29-й день сего Января, покорнейше просить пожаловать къ отпеванiю Тела его в Исакiевскiй Соборъ, состоящiй въ Адмиралтействе, 1-го числа Февраля въ 11 часовъ до полудня.
[Похоронная карточка. «Альбом московской Пушкинской выставки, 1880 г.». Москва, 1882, стр. 172]
Случилась несчастная дуэль Пушкина;[257]257
27 января 1837 г. в 5 часов вечера.
[Закрыть] столица поражена была смертью любимого поэта; народ толпился около его дома, где сторожила полиция, испуганная таким сборищем; впускали только поодиночке поклониться телу усопшего. Два дня сряду в тесной его квартире являлись, как тени, люди всякого рода и звания, один за другим благоговейно подходили к его руке и молча удалялись, чтобы дать место другим почитателям его памяти. Было даже опасение взрыва народной ненависти к убийце Пушкина.[258]258
Дантес, незначительно раненный Пушкиным, был посажен на гауптвахту, а затем, после суда над ним, был выслан за границу.
[Закрыть] Если потеря его произвела такое сильное впечатление на народ, то можно себе представить, каково было раздражение в литературном круге. Лермонтов сделался его эхом и тем приобрел себе громкую известность, написав энергические стихи на смерть Пушкина; но себе навлек он большую беду, так как упрекал в них вельмож, стоявших около трона, за то, что могли допустить столь печальное событие. Ходила молва, что Пушкин пал жертвой тайной интриги, по личной вражде, умышленно возбудившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества.[259]259
Об этом см. П. Е. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина», Гиз., 1928.
[Закрыть]
[А. Н. Муравьев. «Знакомство с русскими поэтами». Киев, 1871 г., стр. 22–23]
Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке, у Певческого моста (Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской),[260]260
Теперь в этом доме находится музей «Квартира Пушкина».
[Закрыть] не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пушкину», – и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта.[261]261
Более десяти тысяч перебывало у гроба поэта.
[Закрыть] Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались всеми.
[Панаев, стр. 156–157]
В январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он в один присест написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 739]
НА СМЕРТЬ ПОЭТА[262]262
Печатаем по тексту «Дела о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым» (Пушкинский дом, Лермонтовский музей). В этом списке есть разночтения сравнительно с каноническим текстом (ср. Акад. изд., т. II, стр. 211–213).
[Закрыть]
Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
(Из трагедии).[263]263
Эпиграф взят из трагикомедии Rotrou «Venceslas» (acte IV, scene VI).
[Закрыть]
Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде – и убит…
Убит!!!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы решился приговор.
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный, чудный дар
И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар?..
Что ж? Веселитесь: он мучений
Последних перенесть не мог;
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар: спасенья нет.
Пустое сердце бьется ровно, —
В руке не дрогнул пистолет…
И что за диво? Издалека,
Подобно сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;[264]264
Жорж-Шарль Дантес (1812–1895) после июльской революции 1830 года, как приверженец Карла X, должен был эмигрировать из Франции. 8 октября 1833 года он прибыл в Петербург, где, пользуясь протекцией барона Геккерена, в течение нескольких лет сделал головокружительную карьеру.
[Закрыть]
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой закон и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На чтó он руку поднимал!..
И он погиб и взят могилой,
Как тот певец, неведомый и милой,
Добыча ревности немой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.[265]265
Ленский.
[Закрыть]
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный,
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным, —
Он, с юных лет постигнувший людей?[266]266
Стихотворение Лермонтова вполне характеризовало общий взгляд на дело дуэли Пушкина. Так, Хомяков вскоре после смерти Пушкина писал Языкову: «Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму. Страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его приняли из милости» («Русский Архив», 1884 г., т. III, стр. 202).
[Закрыть]
И, прежний сняв венок, другой венок, терновый,
Увитый лаврами, надели на него;
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом бесчувственных невежд,
И умер он с глубокой жаждой мщенья
С досадой тайною обманутых надежд!
Замолкли звуки дивных песен,
Не раздаваться им опять;
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
* * *
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона:
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.[267]267
Последние 16 стихов были приписаны позднее, и стихотворение ходило по рукам в двух редакциях: с прибавлением и без прибавления.
[Закрыть]
М. Лермонтов
28 января 1837.[268]268
Точность хронологической даты на копии при «Деле» оспаривают, так как Пушкин, раненный на дуэли 27 января, скончался 29-го. Так, например, Н. О. Лернер датирует «Смерть поэта» 30 января (Н. О. Лернер «Труды и дни Пушкина». 2-е изд., стр. 390). Но возможно, что стихотворение написано после того, как «разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина, обезображенная разными прибавлениями» («Вестник Европы», 1887 г., № 1, стр. 340). Слух, о том что Пушкин убит, а не смертельно ранен, – разнесся тотчас же после дуэли.
[Закрыть]
[Висковатый. Лермонтов «На смерть А. С. Пушкина» По подлинным документам. «Вестник Европы», 1887 г., т. I, стр. 345–347]
[Мы] с Глинкою, оба полные дум о Пушкине… выйдя из-под ворот [дома, в котором скончался Пушкин]… пошли рядом, имея одну дорогу.
– У меня в кармане, – сказал Глинка, любивший тщеславиться тем, что он достает прежде многих различные стихи, пользовавшиеся рукописной славой, – прелестные стихи, которые вчера только ночью написал один лейб-гусар, тот самый Лермонтов, которого маленькая поэмка «Хаджи Абрек» и еще кое-какие стишки были напечатаны в «Библиотеке для Чтения» и которые тот, чьи останки мы сейчас видели, признавал блестящими признаками высокого таланта. Судьбе угодно было, чтобы этот Лермонтов оправдал слова бессмертного поэта и написал на его кончину стихи высокого совершенства. Хотите, я вам их прочту?
– Сделайте одолжение, прочтите, Владимир Сергеевич, – сказал я, – да только как же читать-то на морозе? А вот ведь мы в двух шагах от кондитерской Вольфа (у Полицейского моста в доме Котомина), зайдемте туда, велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.
– Ловко ли будет, – заметил мой собеседник, – читать эти стихи в публичном месте? Впрочем, в них нет ничего такого, что могло бы произвести в каком-нибудь мало-мальски разумном мушаре[269]269
Mouchard – сыщик, шпион.
[Закрыть] злую мысль сделать на нас донос. В них лишь выражается резко и сильно та скорбь, которую чувствует каждый из нас по случаю этой несчастной катастрофы, вместе с гневом на общество, не умевшее защитить поэта от безвыходной случайности, а также и на бессовестного иноземца, дерзнувшего пустить роковую пулю не на воздух, а в сердце великого поэта.
– Ну, так что ж, – заметил я, – вы мастерски читаете, прочтите, Бога ради, мне эти стихи, которые я тотчас там же и спишу.
Мы вошли в кондитерскую, где встретили двух-трех знакомых нам молодых людей и между ними добрейшего барона Егора Федоровича Розена, что-то декламировавшего посреди кучки военной и статской молодежи…
Мы с Глинкой удалились в заднюю комнату, где нам был подан кофе и где Глинка очень хорошо прочел мне известное, а тогда только-что явившееся и расходившееся в рукописи стихотворение на смерть Пушкина, оканчивавшееся тогда словами: «И на устах его печать».
Прослушав с наслаждением эти стихи, я тотчас достал в кондитерской же перо, бумаги, чернил и быстро списал с стихов этих копию.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1813–1816]
Несколько дней после этого дня, когда уже А. И. Тургенев отвез на почтовых тело Пушкина в монастырь Святые Горы, подле его родового имения в Псковской губернии, начали по городу ходить еще совершенно новые стихи Лермонтова, в дополнение к первым и начинавшиеся словами: «А вы, надменные потомки!..» Стихи эти жадно списывались друг у друга, но мне как-то никак не удалось их иметь в копии, хотя я слышал их из уст многих, но, как нарочно, все из уст таких людей, которых не мог заставить их себе продиктовать.
[В. П. Бурнашев. «Русский Архив», 1872 г., № 9, стр. 1816]
2 февраля [1837]
…Стихи Лермонтова [На смерть Пушкина] прекрасные…
[Из дневника А. И. Тургенева. П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», 1928 г., стр. 293]
Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище Пушкин убит был на дуэли. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург, даже и наше училище; разговорам и сожалениям не было конца, а проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, – так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за 20 перед тем «Горе от ума».
[В. В. Стасов. «Училище правоведения сорок лет тому назад» (в 1836–1842 гг.), «Русская Старина», 1881 г., кн. 2, стр. 410–411]
По возвращении моем в Петербург я скоро был сделан столоначальником [Департамента Государственных Имуществ]…
Другим столоначальником в том же отделении был Раевский, кажется, сам ничего не написавший, но имевший значительные литературные связи. Был ли он родственник Лермонтову, или однокашник по месту образования, или, наконец, просто земляк, я не знаю; но только в то время они жили вместе с Лермонтовым. Я весьма часто бывал у них и, конечно, не мог предвидеть, что этот некрасивый, мало-симпатичный офицерик, так любивший распевать тогда не совсем скромную песню, под названием «поповны», сделается впоследствии знаменитым поэтом. Этот Раевский постоянно приносил в департамент поэтические изделия этого офицерика. Я живо помню, что на меня навязали читать и выверять «Маскарад», который предполагали еще тогда поставить на сцену. Точно так же помню один приятельский вечер, куда Раевский принес только что написанные Лермонтовым стихи на смерть Пушкина, которые и переписывались на том же вечере в несколько рук и за которые вскоре Лермонтов отправлен на Кавказ, а Раевский, кажется, в Саратовские или Астраханские степи, где и приютился у какого-то хана в качестве секретаря…[270]270
Неверно: Раевский, по выдержании на гауптвахте в течение одного месяца, был выслан в Олонецкую губ., на службу по усмотрению тамошнего губернатора.
[Закрыть]
[Из записок В. А. Инсарского. «Русский Архив», 1873 г., кн. 1, стр. 525–528]
Командующий отдельным Гвардейским корпусом, Генерал-Адъютант Бистром, в дополнение записи от сего числа за № 78, имеет честь препроводить при сем к Его Сиятельству Графу Александру Христофоровичу стихи, писанные корнетом Л. Г. Гусарского полка Лермантовым, полученные сего числа от Генерал-Адъютанта Клейнмихеля.
[Пометки карандашом:]
П. Ф-чу Вейм[арну] всё препр. к Клейнм[ихелю].
Показать Ал. Ил. не найдет ли?
№ 79
22 февраля 1837
Его Сиятельству графу
А. Х. Бенкендорфу.
Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого, потому что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта. Стихи сии ходили в двух списках по городу: одни с прибавлением, а другие без него, и даже говорили, что прибавление было сделано другим поэтом, но что Лермонтов благородно принял это на себя. Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову,[271]271
Александр Николаевич Мордвинов (1792–1869), управляющий III Отделением е.в. канцелярии.
[Закрыть] и на другой день я поехал к моему родичу. Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда с старыми вестями, – сказал он, – я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу,[272]272
Бенкендорф, граф Александр Христофорович (1783–1844), шеф жандармов, командующий имп. главною квартирой и главный начальник III Отделения собств. его велич. канцелярии.
[Закрыть] и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. Долго ожидая меня, написал он, на том же листке, чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока:
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты цвела, где ты росла?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?.. и проч.
Меня чрезвычайно тронули эти стихи, но каково было мое изумление вечером, когда флигель-адъютант Столыпин[273]273
Здесь какая-то ошибка, ибо флигель-адъютанта Столыпина в эти годы не было.
[Закрыть] сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом. Случилось мне на другой день обедать у Мордвинова; за столом потребовали его к гр. Бенкендорфу; через час он возвратился и, с крайним раздражением, сказал мне: «Что ты на нас выдумал! Ты сам будешь отвечать за свою записку!» Оказалось, что когда Лермонтов был взят под арест, генерал Веймарн,[274]274
Начальник штаба гвардии Петр Федорович Веймарн.
[Закрыть] исполнявший должность гр. Бенкендорфа за его болезнью, поехал опечатать бумаги поэта и между ними нашел мою записку. При тогдашней строгости это могло дурно для меня кончиться; но меня выручил из беды бывший начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубельт.[275]275
Дубельт Леонтий Васильевич (р. 1792 г. – ум. 27 апр. 1862 г.).
[Закрыть] Когда Веймарн показал ему мою записку, уже пришитую к делу, Дубельт очень спокойно у него спросил: что он думает о стихах Лермонтова, без конечного к ним прибавления? Тот отвечал, что в четырех последних стихах и заключается весь яд. – «А если Муравьев их не читал, точно так же, как и Мордвинов, который ввел его в такой промах?» – возразил Дубельт. Веймарн одумался и оторвал мою записку от дела. Это меня спасло, иначе я совершенно невинным образом попался бы в историю Лермонтова. Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения.
[А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871 г., стр. 23–25]
Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы «На смерть Пушкина» произвели в публике, но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания Главного Штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп,[276]276
Святослав Афанасьевич Раевский был арестован по распоряжению графа Петра Андреевича Клейнмихеля 21 февраля 1837.
[Закрыть] его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск; на меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастию, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 740]
Когда Пушкин был убит, получил я рукописные стихи на эту кончину, Губера и Лермонтова. Известно, что пьеса последнего произвела вскоре громкий скандал, и автору готовилась печальная участь. Бабушка Лермонтова Елисавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе; вот до чего он довел его».
[Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., кн. 7, стр. 384}
ПРИКАЗ
По отдельному Гвардейскому Корпусу
В С.-Петербурге
28-го Февраля 1837 года.
№ 33.
I
Дошло до сведения моего, что некоторые Г.г. Офицеры войск за городом расположенных, прибыв в Столицу, проживают здесь весьма значительное время, без предварительного моего разрешения. В числе сих Офицеров оказались Л. Г. Гусарского полка Поручик Граф Алопеус и Корнет Лермантов.[277]277
Настоящий приказ издан после того, как начальник штаба Веймарн, посланный в Царское Село сделать обыск в квартире Лермонтова, нашел его комнаты нетопленными, ящики стола и комодов пустыми, а самого Лермонтова разыскал в столице у бабки его Е. А. Арсеньевой.
[Закрыть]
На сделанный же Командующему Л. Г. Гусарским полком Полковнику Соломирскому запрос: с чьего дозволения и по какому поводу находились здесь помянутые Офицеры? – он отозвался, что Офицеры сии не испрашивали у него разрешения на проживание в Столице и он такового им не давал; что хотя из них Граф Алопеус довольно часто езжал в столицу, по случаю приглашения на балы, но всегда с его разрешения и что наконец оба они, во всех обязанностях службы были всегда на лицо и исправны.