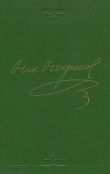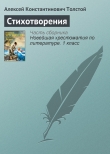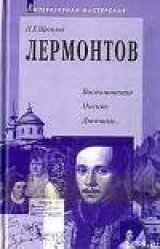
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
ЧАСТЬ 6
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
1841
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть.
Лермонтов
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
1841.Начало февраля. Приезд Лермонтова в Петербург. Бал у гр. Воронцовой-Дашковой, присутствие на котором Лермонтова найдено «неприличным и дерзким».
1841.Февраль. Близкое знакомство и дружба Лермонтова с гр. Е. П. Ростопчиной.
1841.Февраль. Статья Белинского о «Стихотворениях» Лермонтова в «Отечественных Записках».
1841. Конец февраля. Лермонтов готовится к отъезду на Кавказ и закупает множество книг.
1841. 13 апреля. Кн. Вл. Одоевский дарит Лермонтову свою «старую и любимую записную книжку с тем, чтобы он возвратил ему ее сам и всю исписанную».
1841. Апрель. Письмо Лермонтова к А. А. Краевскому, в котором он выражает сожаление, что не мог лично проститься, и подписывается на 2 экземпляра «Отечественных Записок».
1841. 20 апреля. Гр. Е. П. Ростопчина дарит Лермонтову сборник своих стихотворений «в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому».
1841. 2 мая. Отъезд Лермонтова из Петербурга.
1841. Начало мая. Письмо к Е. А. Арсеньевой из Москвы, где Лермонтов пробыл несколько дней, остановившись у Розена.
1841. Начало мая. Встреча с Боденштедтом.
1841. Половина мая. Лермонтов в Туле обедает у А. Меринского. Лермонтов в усадьбе «Мишково», Мценского у., Орловской губ., у М. П. Глебова.
1841. Май. Лермонтов в Ставрополе. Встреча с ремонтером Борисоглебского уланского полка Магденко. Письмо к Е. А. Арсеньевой из Ставрополя, в котором Лермонтов сообщает о своем намерении прежде отправиться в крепость Шуру, где полк, а оттуда – на воды.
1841. 23 мая. Приезд Лермонтова в Пятигорск.
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
Бабушка Лермонтова, сокрушающаяся об его отсутствии, вообразила в простоте души, что преклонит все сердца в пользу своего внука, если заставит хвалить его всех и повсюду; вообразив это, решилась поднести, в простоте же души, 500 руб. асс. Фад. Бенед. Булгарину.[497]497
Фаддей Бенедиктович Булгарин (1789–1859) сотрудник III отделения, журналист, издававший с 1825 по 1857 год журнал «Северная Пчела».
[Закрыть] Ну тот, как неподкупный судья, бросил в «Пчелу» две хвалебные статейки,[498]498
Статьи Булгарина были помещены в «Северной Пчеле» за 1840 год в №№ 246, 271, 284 и 285. Сам Булгарин рассказывает эту историю иначе: к нему приходил человек «положительный, как червонец» и просил написать статью о готовящейся книге молодого писателя. В этом ему было отказано, но, когда Булгарин прочел в «Маяке» (за 1840 г., ч. IV, V и IX) невозможную критику Бурачка, он решился прочесть «Героя нашего времени» и «в течение 20 лет впервые прочел русский роман дважды сряду». На самом деле, вероятнее всего, статья вызвана стараниями книгоиздателя Глазунова, впоследствии обогатившегося неполными и небрежными изданиями сочинений Лермонтова. Несмотря на хорошие отзывы Белинского в «Отечественных Записках» (1840 г., т. X–XI) издание не расходилось. Тогда издатель Глазунов обратился к Булгарину с просьбой напечатать в газете его одобрительный отзыв о «Герое нашего времени». Как только такой отзыв появился в «Северной Пчеле», издание раскупили нарасхват, и в 1841 году тот же Глазунов уже выпустил второе издание.
[Закрыть] показав тем, что не омакивает пера в чернильницу менее, как за 250 руб. асс. Это узнал я у Карамзиных, которые, особенно Софья Николаевна, очень интересуются судьбою Лермонтова.
[Из письма Плетнева к Гроту 4 Янв. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I]
Встретились мы [с Лермонтовым] в его проезд с Кавказа у Росетти (конец 1840 или начало 1841 г.). Молодежь собралась провожать его. Лермонтов сам пожелал меня видеть и послал за мной. Он имел обо мне выгодное мнение, как сказывал Р. Он очень мне обрадовался. Р. пенял мне, что я обошелся с ним холодно.
[Из дневника Ю. Ф. Самарина за 1841 г. Соч., т. XII, стр. 56]
В начале 1841 года его бабушка, Е. А. Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения; года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища. Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, и по горькой насмешке судьбы г-жа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы.[499]499
Шан-Гирей (см. ниже) противоречит Ростопчиной, утверждая, что бабушка приехала вместе с внуком.
[Закрыть]
[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», 1859. Leipzig, p. 259]
Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург.
Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощенье остались без успеха: ей сказали, что не время еще, надо подождать.
Лермонтов пробыл в Петербурге до мая; с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени»,[500]500
Шан-Гирей ошибается: «Герой нашего времени» уже поступил в продажу 3 мая 1840 г.
[Закрыть] начатый еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]
[С.-Петербург, в конце февраля 1841 г.]
Милый Биби.[501]501
Дмитрий Сергеевич Бибиков – поручик Кирасирского его величества полка, герой «Петергофского праздника»; с 1836 по 1848 г. служил в штабе Отдельного Кавказского корпуса.
[Закрыть]
Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой,[502]502
Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1819–1856). В. А. Сологуб в своих «Воспоминаниях» (стр. 126) так характеризует гр. Воронцову-Дашкову: «Много случалось мне встречать на моем веку женщин, гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встретил я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности».
А. К. Воронцовой-Дашковой посвящено стихотворение Лермонтова «К портрету» («Как мальчик кудрявый, резва…»). Акад. Изд., т. II, стр. 302.
[Закрыть] и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули,[503]503
За геройское участие в битве при Валерике Лермонтов представлен был к ордену св. Владимира 4-й степени, но это представление не было уважено.
[Закрыть] так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук.
Я был намедни у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь; и, взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит прежде 2 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя[504]504
Под «Лафатером и Галем» разумеются сочинения знаменитых френологов Jean-Gaspard Lavater'a: L'Art de connaître les hommes par la physionomie… Paris 1820 и Franz-Joseph Gall'я: Anatomic et physiologic du système nerveux en général et du cerveau en particulier. Paris. 1810—18.
[Закрыть] и множество других книг.
Прощай, мой милый, будь здоров.
Твой Лермонтов.
[Письмо Лермонтова к Д. С. Бибикову. Акад. изд., т. IV, стр. 340]
На масленой, на другой же день после прибытия в столицу, поэт участвовал на балу, данном гр. Воронцовой-Дашковой. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы гвардейских мундиров. Граф Сологуб хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасною хозяйкою вечера. «Великий князь очевидно несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом его препроводила из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих». Нелегко было затем выпросить у великого князя забвение этому проступку Лермонтова.
Считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что офицер опальный, отбывающий наказание, смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии.
[Сологуб в передаче Висковатого, стр. 374]
Мы все, и особенно я, наперерыв приставали к в. кн. Михаилу Павловичу, прося за Лермонтова, и он при большом расположении своем к Арсеньевой сдался. Я ему все говорила, что хороший сын матери не может быть дурным сыном отечества, а Лермонтов для бабушки больше, чем сын.
[А. О. Смирнова в передаче Висковатого, стр. 375]
В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды, часу во втором, зашел я в известный ресторан Леграна, в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лонгинов!» – и направился ко мне; тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал мне об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с «бабушкой». Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau-monde» встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал Двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро, после бала, кажется, у графа С. С. Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкой», и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении: «Я не хочу, чтоб свет узнал».[505]505
См. Акад. изд., т. II, стр. 222.
[Закрыть]
[М. Н. Лонгинов. «Русская Старина», 1873 г., т. VII, кн. 3, стр. 387]
Журнал. Суббота (8 февраля). В 11 часу поехал к Одоевским. Там нашел и Матильду, но Marie не было. Я все время просидел с Матильдой. Показал ей Лермонтова, который приехал в отпуск с Кавказа. Карамзина нашла физиономию Матильды с большим выражением характера.
[Из письма Плетнева к Гроту 12 февр. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым». 1806 г., т. I]
В 11 часов вечера [27 февраля 1841] тряхнул я стариной – и поехал к Карамзиным, где не бывал более месяца. Карамзина встретила меня словом: «Revenant!».[506]506
Призрак.
[Закрыть] Там нашлось все, что есть прелестнейшего у нас: Пушкин-поэт,[507]507
Очевидно, вдова поэта – Наталья Николаевна. О встречах с ней Лермонтова см. ниже.
[Закрыть] Смирнова, Ростопчина и проч. Лермонтов был тоже. Он приехал в отпуск с Кавказа. После чаю молодежь играла в горелки, а там пустились в танцы. Я приехал домой в 1 час.
[Из письма Плетнева к Гроту 28 февр. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I]
Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более…
[Панаев, стр. 222]
Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то, аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских.
[Из письма Белинского к Боткину от 13 марта 1841 г. Переписка под ред. Ляцкого, т. II, стр. 227]
[Лермонтов] мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных Записок». «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, – обращался он к Краевскому, – там на Востоке тайник богатых откровений… Мы в своем журнале, – говорил он, – не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».
[А. А. Краевский в передаче Висковатого, стр. 368–369]
Авдотья Петровна Елагина, по первому мужу Киреевская, – мать известных славянофилов, близкий друг и родственница Жуковского, как-то в разговоре со мною заметила: «Жаль, что Лермонтову не пришлось ближе познакомиться с сыном моим Петром – у них некоторые взгляды были общие».
[Висковатый, стр. 369]
Именно в это-то время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой.
Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром и вечером; что нас окончательно сблизило – это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.
Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман, под заглавием: «Штосс»,[508]508
См. Акад. изд., т. IV, стр. 284–296.
[Закрыть] причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано, и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне, написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради – была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен.
Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых было сначала отказано; их взяли потом штурмом, благодаря высоким протекциям. Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия.
[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas», 1859. Leipzig, p.p. 259–260]
По словам барона Е. И. фон Майделя, Лермонтов при свидании с ним в 1841 году вспоминал о [Оммэр де Гелль] с большой живостью и чувством.
– Знаете ли, барон, – говорил он, – я прошлой осенью ездил к ней в Ялту, я в тележке проскакал до двух тысяч верст, чтобы несколько часов пробыть наедине с нею. О, если бы вы знали, что это за женщина! Умна и обольстительна, как фея. Я ей написал французские стихи. – И он стал припоминать их, но прочитать не мог и, рассмеявшись, сказал: ну, вот подите ж! Забыл… А стихи ей понравились, она очень хвалила их.
[П. К. Мартьянов. «Дела и люди века». Кн. II, стр. 185]
Француженка-красавица[509]509
Оммер де Гелль.
[Закрыть] носилась еще в воображении Лермонтова в 1841 году. В последний приезд Лермонтова я не узнавал его. Я был с ним очень дружен в 1839 году. Когда я возвратился из-за границы в 1840 году, Лермонтов в том же году приехал в Петербург.[510]510
Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля 1841 г.
[Закрыть] Он был чем-то встревожен, занят и со мною холоден. Я это приписывал Монго Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел со Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании.[511]511
Великосветские сплетники, действительно, старались не раз распространять слухи о недружелюбных отношениях Столыпина к поэту. Говорили, что Лермонтов надоедает ему своей навязчивостью, что он надоел Столыпину вечным преследованием его: «он прицепился ко льву гостиных и на хвосте его проникает в высший круг» – словом то, что выразил гр. Сологуб в своей повести «Большой свет». Вероятно, молодой князь Вяземский был введен в заблуждение этими толками. Ничто не дает права думать, чтобы что-либо нарушило дружеские отношения Монго Столыпина к поэту.
[Закрыть] Не помню, жил ли он у братьев Столыпиных или нет, но мы там еженочно сходились. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным: «Скучно здесь, поедем освежиться к Карамзиным». Под словом освежиться, se raffraîchir, он подразумевал двух сестер княжен О[боленских], тогда еще незамужних. Третья сестра была тогда замужем за кн. М[ещерским].
[П. П. Вяземский. Примечания переводчика к письмам Омэр де Гелль. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 141]
Прошлую зиму я встретился с ним [Лермонтовым] в Петербурге в одном доме, именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть напечатления этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был невелик и нестроен; в движениях не было ни ловкости, ни развязности, ни силы; видно, что тело не было у него никогда напрягаемо, ни развиваемо: это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица и черные глаза, черные волосы, широкое скуластое лицо напоминали мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые, известно, что происходили от арапа… Хотя вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, и мы часто при встрече с великими талантами слышим, как повторяют, что наружность такого-то великого писателя не соответствует тому, что мы от него ожидали (и со мною это случалось), но все же, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылкие отражались в больших, широко расставленных черных глазах, под широким нависшим лбом и в остальных крупных (не знаю, как иначе выразить противоположность «тонких») очерках его лица. Я не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах.
[Из дневника А. Н. Вульфа от 21 марта 1842. Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1889 г., стр. 217–218]
На Святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье»; в то самое время, как он писал ее, мне удалось набросить карандашом его профиль. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов пред подлинником.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]
Как-то вечером Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений… На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле слова катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. – Что с тобою? – спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки – любил школьничать! Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание; взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира; спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель, одевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. – Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катанье по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: – Да скажи ты ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать! Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. – Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга. – Оказалось, что его разбудили рано утром: Клейнмихель приказывал покинуть столицу в двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку.
[А. А. Краевский в передаче Висковатого, стр. 375–376]
Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько, как напечатанных уже, так и еще неизданных, и составили связку. «Когда, Бог даст, вернусь, – говорил он, – может еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить».
[А. П. Шан-Гирей, стр. 751]
А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути.
[Из письма Белинского к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. Переписка под ред. Ляцкого, т. II, стр. 219]
Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в Императорской Публичной Библиотеке.[512]512
Речь идет об альбоме на 29 листах картонной бумаги. Два наброска «Сосны» находятся на л.л. 3 и 15.
[Закрыть]
[П. П. Вяземский. «Русский Архив», 1887 г., т. III, кн. 9, стр. 142.]
Наконец, около конца апреля или начала мая, мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я из последних пожала ему руку.[513]513
За несколько дней до отъезда Лермонтова на Кавказ – 20 апреля 1841 года гр. В. П. Ростопчина подарила ему только что вышедший сборник своих стихотворений с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому». Этот экземпляр находится ныне в одной из Лермонтовских витрин Пушкинского дома.
[Закрыть] Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать, старалась смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки.
[Перевод из французского письма Е. П. Ростопчиной к Алекс. Дюма. «Le Caucase. Nouvelles impressions de voyage par Alex. Dumas». 1859. Leipzig, p.p. 260–261]
У Авроры Карловны[514]514
Аврора Карловна Демидова, урожденная Шернваль, одна из трех красавиц сестер, дочерей выборгского губернатора.
[Закрыть] я также в первый раз познакомился с графиней Ростопчиной, известной нашей талантливой поэтессой. Она была тогда лет 25-ти, очень живая и умная; ее разговор походил на блистательный фейерверк. Я помню, что во время первой моей с ней беседы я, признаюсь откровенно, как новичок, был ослеплен и вместе с тем очарован этим блеском ее остроумия, которое лилось в ее речи, как из неисчерпаемого источника. Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз, когда она хотела кому-нибудь нравиться. Небольшого роста, брюнетка, с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица, с большими глазами и длинными темными ресницами, она, к сожалению, была очень близорука и поэтому постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз. Одаренная необыкновенной памятью, она знала иностранные литературы как свою отечественную.
[А. В. Мещерский. «Воспоминания», 1901 г., стр. 136]
«Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский 1841 Апреля 13-е. СПБ».[515]515
Записная книжка кн. Вл. Ф. Одоевского на 27 + 12 листах в восьмую долю листа, в кожаном переплете, ныне хранится в Ленинградской Публичной библиотеке. В этой книжке Лермонтовым были записаны стихотворения: «Спор», «Сон», «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Утес», «Они любили друг друга», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк» и др.
Здесь же целый ряд евангельских цитат и запись Одоевского (л.л. 2 об. З): «Эти выписки имели отношение к религиозным спорам, которые часто подымались между Лермонтовым и мною».
В конце книги запись: «Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом Екимовичем Хостаковым 30-го Декабря 1843 года. Кн. В. Одоевский».
[Закрыть]
[Запись рукой кн. Одоевского на его записной книжке]
После чаю Жуковский отправился с Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновении срока отпуска своего.
[Из письма Плетнева к Гроту 13 апр. 1841 г. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», 1896 г., т. I, стр. 318]
Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг
И мне наскучил их несвязный,
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.
Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
С[мирновой] штучку, фарсу Саши,
И Ишки М[ятлева] стихи.
М. Л.
[Стихи Лермонтова из альбома С. Н. Карамзиной. Б. Модзалевский. Из альбомной старины. «Русский Библиофил», 191б г. октябрь]
Нигде она [Наталья Николаевна Пушкина] так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.
Это был Лермонтов.
Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.
Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.
Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.
Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним неповинных людей.
Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротой вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.
В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:
– Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в гостинной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.
– Прощать мне вам нечего, – ответила Наталья Николаевна, – но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.
Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.
Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого.
Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:
– Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение унес с собой в могилу.
[Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская. «Новое время», Иллюстр. прил. 9 января 1908 г., № 11432]
Графиня Софья Михайловна Сологуб, идеальная и во всех отношениях прекрасная женщина, безукоризненной жизни, всецело отданная семье, рассказывала мне, что Лермонтов в последний приезд в Петербург бывал у нее. Поэт, бывало, молча глядел на нее своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние, так что «невольно приходилось обращаться в ту сторону, откуда глядели они на вас». – «Муж мой, – говорила Софья Михайловна, – очень не любил, когда Михаил Юрьевич смотрел так на меня и однажды я сказала Лермонтову, когда он опять уставился на меня: „Vous savez, Lermontoff, que mon mari n'aime pas cette manière de fixer le monde, pourquoi me faites-voué ce désagrément?“[516]516
Вы знаете, Лермонтов, что мой муж не любит вашу манеру пристально всматриваться, зачем же вы доставляете мне эту неприятность?
[Закрыть] Лермонтов ничего не ответил, встал и ушел. На другой день он мне принес стихи „Нет, не тебя так пылко я люблю“. Муж их взял у меня, и где они остались, я не знаю. Это было перед самым отъездом поэта».
[Сологуб в передаче Висковатого, стр. 326–327]
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье,
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
Лермонтов
Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, – сказал он мне, – я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал». Он уехал в ночь. Вскоре он был убит.
[Сологуб. Воспоминания. 1887, СПб., стр. 189]
Любезный Андрей Александрович. Очень жалею, что не застал уже тебя у Одоевского и не мог, таким образом, с тобою проститься. Сделай одолжение: отдай подателю сего письма для меня два билета на «О. Записки». Это для… Будь здоров и счастлив. Твой Лермонтов.
[Записка Лермонтова к А. А. Краевскому, апрель 1841 г. Акад. изд., т. IV, стр. 340]
2 мая, к восьми часам утра, приехали мы в Почтамт, откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». – Какой ты еще дитя, – отвечал он. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров.
Это были в жизни его последние слова ко мне; в августе мы получили известие о его смерти.
[А. П. Шан-Гирей, стр. 751–752]
К ней [Е. А. Арсеньевой] относится следующий куплет в стихотворении гр. Ростопчиной: «На дорогу М. Ю. Лермонтову», написанном в 1841 году по случаю последнего отъезда его из Петербурга, и напечатанном в «Русской Беседе» Смирдина, т. II. После исчисления лишений и опасностей, которым подвергается отъезжающий на Кавказ поэт, в стихотворении этом сказано:
Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет:
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая.
К несчастию, предсказание не сбылось. Когда эти стихи были напечатаны, Лермонтова уже полгода не было на свете.
[М. Н. Лонгинов. Сочинения, 1915 г., т. 1, стр. 48]
[Москва, апрель 1841]
Милая бабушка.
Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием. Я в Москве пробуду несколько дней, остановлюсь у Розена. Алексей Аркадьевич[517]517
Монго-Столыпин.
[Закрыть] здесь еще и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом, по обыкновению, очень хорошо, и мне довольно весело. Был вчера у Николая Николаевича Анненкова[518]518
Николай Николаевич Анненков (ум. 1865 г.) – генерал-майор свиты его величества, командир Измайловского полка, впоследствии член Государственного Совета.
[Закрыть] и завтра у него обедаю; он был со мной очень любезен. Вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь. Еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дня; решительно, Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от меня Екиму Шан-Гирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю… Вероятно, Сашенькина свадьба[519]519
«Сашенькина свадьба» – по всей вероятности, свадьба Алекс. Мих. Верещагиной, которая вышла замуж за барона Гюгель, вюртембергского дипломата.
[Закрыть] уже была, и потому прошу вас ее поздравить от меня, а Леокадии скажите от меня, что я ее целую и желаю исправиться и быть как можно осторожнее вообще. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук М. Лермонтов.