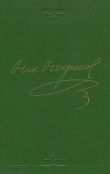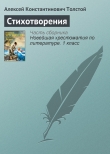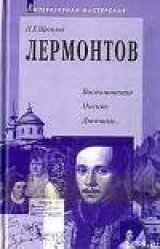
Текст книги "Лермонтов: воспоминания, письма, дневники"
Автор книги: Павел Щёголев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
ЧАСТЬ 5
НА ЮГЕ
1840
Вскоре перевели меня на Кавказ; это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял последнюю надежду.
Лермонтов. «Бэла»
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
1840.10 июня. Лермонтов приехал в Ставрополь, главную квартиру командующего Кавказской линией.
1840.11 июня. Лермонтов прикомандирован к отряду генерал-лейтенанта Галафеева.
1840.Июнь. Статья Белинского о «Герое нашего времени» в «Отечественных Записках».
1840.6—10 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелках, бывших во время десятидневного похода из крепости Грозной в Малую Чечню.
1840. 11 июля. Сражение при Валерике.
1840.12 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке при сожжении деревни Ачхой.
1840.13 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на р. Натахы, через дер. Чильчихи, в Казах-Кичу, на левый берег р. Сунжи.
1840.14 июля. Лермонтов принимает участие в перестрелке при следовании отряда из лагеря на р. Сунжи в крепость Грозную.
1840.28 июля. Лермонтов в Пятигорске.
1840.Конец июля. Письмо к Е. А. Арсеньевой, в котором Лермонтов просит прислать ему в Пятигорск книгу гр. Ростопчиной, полное собрание сочинений Жуковского и полного Шекспира по-английски.
1840. 13 августа. Цензурное разрешение печатать «Стихотворения» Лермонтова.
1840. Августа вторая половина и начало сентября. Лермонтов в Кисловодске. Знакомство с Ад. Омэр де Гелль.
1840.12 сентября. Лермонтов в Пятигорске. Письмо к А. А. Лопухину, в котором Лермонтов описывает сражение при Валерике.
1840.29 сентября—3 октября. Лермонтов участвует в «делах» и обращает на себя «особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством».
1840.10 октября. Когда выбыл раненым из строя Малороссийского казач. № 1 полка юнкер Руфин Дорохов, Лермонтов принял от него начальство над охотниками, выбранными в числе 40 человек из всей кавалерии.
1840.12 октября. На фуражировке за Шали, Лермонтов «бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля».
1840.15 октября. Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес.
1840.Октябрь. Поручику Лермонтову выдано из сумм, состоящих в распоряжении командующего войсками Кавказской линии и Черномории, заимообразно 100 рублей.
1840.15–17[?] октября. Лермонтов едет в Крым.
1840.17–24 октября (29 окт. – 5 ноября нов. ст.), Лермонтов в Крыму с Оммер де Гелль.
1840. 24–27[?] октября. Лермонтов едет обратно в отряд.
1840.27 октября—6 ноября. Лермонтов принимает участие в экспедиции в Малую Чечню.
1840.4 ноября. Письмо Лермонтова к А. А. Лопухину из крепости Грозной, в которую возвратился отряд Галафеева после 20-дневной экспедиции в Чечне.
1840.9 декабря. Рапорт начальника 20-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанта Галафеева, с приложением наградного списка поручику Лермонтову.
1840.24 декабря. Рапорт командовавшего всею кавалериею действующего отряда на левом фланге Кавказской линии, полковника князя Голицына, с приложением наградного списка поручику Лермонтову.
1840.Конец года. Лермонтов в Ставрополе ждет отпуска в Петербург.
1840.31 декабря. Приказом по полку Лермонтов зачислен налицо в Тенгинский полк.
1841.14 января. Лермонтов уезжает в отпуск в Петербург.
НА ЮГЕ
В начале 1840 года Лермонтова снова отправили на Кавказ, за дуэль его с молодым Барантом, сыном французского посланника. В апреле он уже был на пути из Петербурга в Ставрополь.
[A. Mepинский. «Атеней», 1885 г., № 48, стр. 303]
В этот же год [1840], от приезжавших в Анапу из Ставрополя офицеров, мы узнали, что М. Ю. Лермонтов, 18 февраля дрался на шпагах с Барантом, сыном французского посланника при петербургском Дворе, и был ранен: одни говорили – в руку, другие – в грудь; потом стрелялся, и за эту дуэль, как видно из приказа военного министра, государь император, 13 апреля, собственноручною конфирмациею, назначил Лермонтова в наш Тенгинский полк поручиком; но он, в апреле же месяце, по прибытии в Ставрополь,[432]432
В Ставрополь Лермонтов приехал 10 июня 1840 г. 11 числа он был прикомандирован к левофланговому «Чеченскому отряду» генерал-лейтенанта Галафеева.
[Закрыть] к нам в полк не явился, а отправился в Чечню, для участия в экспедиции.
[М. Ф. Федоров. Походные записки на Кавказ. «Кавказский сборник», 1879 г., т. III, стр. 192–193]
В одно утро[433]433
Поздней весной 1840 г.
[Закрыть] явился ко мне молодой человек, в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендуя себя поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей Александры Осиповны Смирновой письмо и книжку «Imitations de Jésus Christ».[434]434
«Подражание Христу», религиозно-нравоучительная книга.
[Закрыть] Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени»,[435]435
«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая 1840 года («Северная Пчела», 1840, № 98).
[Закрыть] как и другие его сочинения, вышли позже. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив тем, что сталкивался с людьми симпатичными, теплыми, умевшими во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному; а из разговора с Лермонтовым он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, а я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных. До сих пор не могу себе отдать отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка явиться к начальству и весною собирался на воды в Пятигорск.
[Из записок декабриста Н. И. Лорера. «Русский Архив», 1874 г., кн. 2-я, стр. 660–661]
[Ставрополь, 17 июня 1840]
О милый Алексис!
Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк! Пожалуйста, спусти его с Аспелинда; они там в Чечне не знают индейских петухов, так, авось, это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом,[436]436
Граф Карл Карлович Ламберт (1815–1865) – поручик Кавалергардского ее величества полка, только что приехавший на Кавказ, где состоял в отряде генерала Галафеева на левом фланге Кавказской линии. 11 июля 1840 г. он, вместе с Лермонтовым, участвовал в деле на р. Валерике. Впоследствии генерал-адъютант, наместник Царства Польского.
[Закрыть] который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки… Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Дорόгой я заезжал в Черкасск к генералу Хомутову[437]437
Генерал Михаил Григорьевич Хомутов (1795–1864) был раньше командиром лейб-гв. Гусарского полка, в котором служил Лермонтов; с 1839 г. он был начальником штаба войска Донского, а потом первым атаманом не казачьего происхождения.
[Закрыть] и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за феатр! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену – и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад – ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо – ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево – и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! о, ужас! на голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи, я все ждал, что будет? Так-то, мой милый Алеша! Но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет; зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай: ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал… Жарко… Уф!
Лермонтов.
[Письмо Лермонтова к Лопухину. Акад. изд., т. IV, стр. 337]
По преданию, «Журнал военных действий», в отряде под начальством генерал-лейтенанта Галафеева, вел Лермонтов, прикомандированный в штаб к означенному генералу. Дело озаглавлено так: «Действия отряда под начальством генер. – лейт. Галафеева на левом фланге Кавказской линии в 1840 году». Во время съезда в Тифлисе археологов граф А. С. Уваров обращался в окружный штаб с просьбою о выдаче ему этого дела для прочтения, причем утверждал, что «Журнал военных действий» с 10 апреля по 13 октября 1840 г. велся Лермонтовым.[438]438
Со второй половины августа до середины сентября и в конце октября 1840 года Лермонтов не мог вести журнала военных действий, так как участия в боях не принимал и даже не находился в отряде, но с 6 по 14 июля он участвовал «в делах» и за эти числа мог вести запись в упомянутом журнале – эти записи как раз нами и использованы с некоторыми сокращениями.
[Закрыть] Насколько верны подобные предположения – ничто в деле не указывает; интересно только то, что поэт принимал деятельное участие в отряде, что и свидетельствуется отрядным начальником.
[Г. С. Лебединец. «Русская Старина», 1891 г., кн. 8, стр355.]
6 июля [1840]
Отряд в составе двух баталионов пехотного Его Светлости, одного баталиона Мингрельского и трех баталионов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка, с 10-дневным провиантом и с полкомплектом запасных артиллерийских снарядов, выступив из лагеря при крепости Грозной, переправился с рассветом по мосту через реку Сунжу и взял направление через ущелье Хан-Калу на деревню Большой Чечень…
С приближением отряда к деревне Большой Чечень неприятель стал показываться в малом числе и завел перестрелку с казаками, посланными для истребления засеянных полей…
Дошед до деревни Большой Чечень, оставленный жителями, и после сделанного там привала, отряд, предав селение это со значительными садами пламени, двинулся далее к деревне Дуду-Юрт.
В то же время истреблены казаками близлежащие засеянные поля.
Войска прибыли к вечеру благополучно в Дуду-Юрт и расположились там лагерем для ночлега.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года[439]439
Все выдержки из журнала военных действий печатаем по копии, хранящейся в рукописных собраниях Пушкинского дома (Лермонтовский музей, отдел IV, № 20).
[Закрыть] ]
7 июля
Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери…
Близ деревни Большого Атага малые неприятельские партии начали обеспокаивать передовую и левую цепь, но авангардными линейными казаками при содействии огня артиллерии и цепи принуждены скрыться на правом берегу Аргуна. В то же время другие партии старались вредить арьергарду, но так же линейными казаками и огнем артиллерии были рассеяны.
Подходя к деревне Чах-Гери и заметив, что селение это занято значительным числом неприятелей, я остановил следование главной колонны и арьергарда и приказал командующему авангардом полковнику барону Врангелю вытеснить неприятеля. Полковник Врангель исполнил это приказание самым удачным образом…
Между тем значительные партии чеченцев с правого берега реки Аргуна старались препятствовать нам брать воду, но поражаемые огнем 4-х горных орудий, поставленных на левом возвышенном берегу… принуждены были удалиться, потерпев значительную потерю.
…Желая дать отдых кавалерии, которая… в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья… я решился переночевать в Чах-Гери.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]
8 июля
Отряд выступил с рассветом из деревни Чах-Гери…
В начале движения толпы неприятелей высыпали из лесу и стали обеспокаивать левую цепь главной колонны, но полковник князь Белосельский-Белозерский с тремя сотнями казаков перешел влево, бросился на них в атаку и оттеснил обратно в лес.
Подойдя к Гойтинскому лесу, авангард был усилен еще двумя полевыми орудиями. При приближении войск, заметив, что деревня Апшатой-Гойта, находящаяся у самого входа в Гойтинский лес, занята неприятельскими партиями, я приказал полковнику Фрейтагу обстреливать как эту деревню, так и самый лес, и после нескольких выстрелов поручил… выгнать неприятеля из деревни. Деревня мгновенно была занята и неприятель выбит из оной штыками. Между тем авангард, обстреливая лес, дошел без сопротивления до канавы, перерезывающей оный и, как мост был разрушен, то саперы занялись устройством другого. Незначительная перестрелка с боков главной колонны, совершенное молчание впереди авангарда не заставляли подозревать присутствия неприятеля в значительных силах.
Войска стягивались, саперы занимались спокойно работою, как неожиданный залп с левой стороны авангарда показал, что тут многочисленный засел неприятель. Артиллерия тотчас была направлена в ту сторону и открыла сильный картечный огонь; но чеченцы упорно держались, – подозревая, что они чем-либо закрыты от смертоносного огня артиллерии, я желал в том удостовериться, и адъютант г. военного министра лейб-гвардии поручик граф Штакельберг вызвался осмотреть это место, почему после залпа из 6-ти орудий картечью он понесся верхом к самому лесу и усмотрел, что чеченцы засели в завалах за срубленными деревьями, оставленными на местах при расчистке леса; при сем отважном предприятии под графом Штакельбергом ранена лошадь. Деревья в аршин и более в диаметре скрывали совершенно неприятеля от огня артиллерии, и не оставалось ничего другого, как выбить их из завалов штыками… С неимоверною быстротою егеря завладели завалами. Цепь в лесу была усилена и… весь отряд по устроенному мосту выдвинулся из леса… Деревня при уходе войск была сожжена.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]
9 июля
Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб; 2-й баталион Куринского егерского полка… послан по правому берегу реки Мартана, как для окончательного истребления деревни Урус-Мартана, так и для поддержания в случае надобности отряда… Войска, исполнив без всякой потери это поручение, благополучно возвратились в лагерь. К вечеру на равнину между деревнями Урус-Мартан и Гажи-Рошни высланы были фуражеры и в прикрытие им 1 баталион Куринского егерского полка с двумя орудиями и с двумя сотнями казаков донских. Когда фуражеры заняли отысканные ими места, неприятель стал показываться из опушки близлежащего леса в большом числе. Это заставило меня усилить высланное вперед прикрытие еще 1-м баталионом Его Светлости полка и одною сотнею линейных и одною же донских казаков. Между тем чеченцы, засевшие в балке, которую артиллерия не могла обстреливать, открыли огонь по нашей цепи, прикрывавшей фуражеров. Заметив это, полковник князь Белосельский-Белозерский… показывая вид будто занимается топтанием полей… незаметно подвел казаков к балке и быстро бросился в атаку. Изумленные чеченцы пришли в замешательство и обратились в бегство. Казаки быстро преследовали их и положили 16 тел неприятельских на месте…
В ночь на 10-е число неприятель дважды старался подкрадываться к нашему лагерю, но был открываем секретами и встречаем сильным ружейным огнем, принужденным нашелся скрыться, не нанесши нам никакого вреда, хотя стрелял залпами.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]
10 июля [1840 г.]
Отряд выступил с рассветом из лагеря при Урус-Мартани и следовал к деревне Гехи. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой Рошни, Хажи-Рошни, и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно… Отряд, прибыв к деревне Гехи и предав ее пламени, истребил близлежащие засеянные поля и расположился возле деревни лагерем для ночлега.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии с 6 по 17 июля 1840 года]
11 июля [1840]
Отряд выступил из лагеря при деревне Гехи, имея в авангарде все три баталиона Куринского егерского полка, две роты сапер, одну сотню донских и всех линейных казаков при 4-х орудиях. Впереди авангарда под командою полковника князя Белосельского-Белозерского следовали 8 сотен донских казаков с двумя конными казачьими орудиями.
В главной колонне следовал обоз под прикрытием баталиона Мингрельского егерского полка, имея при себе 2 горные мортирки и кроме того в каждой боковой цепи по одному горному 3-х фунтовому единорогу. В арьергарде шли 2 баталиона Его Светлости полка с двумя горными и двумя легкими орудиями и с сотнею донских казаков.
Авангардом командовал полковник Фрейтаг, главною колонною капитан Грекулов, арьергардом полковник Врангель. В таком порядке войска следовали к Гехинскому лесу, приблизившись к оному, два конные орудия присоединены были к авангарду, а часть передовых казаков к главной колонне, а остальные к арьергарду. Неприятель нигде не сопротивлялся и даже не показывался, авангард беспрепятственно вступил в Гехинский лес, несколько выстрелов с левой стороны цепи заставили меня подозревать присутствие там неприятеля, но брошенные гранаты заставили неприятеля прекратить огонь.
Для большего обеспечения обоза, усилив боковые цепи двумя ротами Куринского полка, полковник Фрейтаг приказал, кроме того, двум баталионам вверенного ему полка, под командою Эстляндского егерского полка майора Бабина, при первом выстреле с неприятельской стороны – выбить его из лесу и оставаться в оном до прихода всего обоза. Майор Бабин хотя и встретил сильное сопротивление в завалах, но после двукратного натиска оные были заняты нашими войсками.
Между тем авангард вышел на поляну. Обоз, подаваясь за авангардом, был все время прикрываем 2-м баталионом и 8-ю егерскою ротою Куринского полка, которые, следуя движению обоза, вышли также из леса, ведя сильную перестрелку.
С приближением арьергарда бой в левой цепи разгорался все сильнее и сильнее; для поддержания войск был послан туда из авангарда еще 1 баталион Куринского полка. Сильный натиск неприятеля на арьергард с боков и с тыла вынудил 1-й баталион ускорить движение. Арьергард был в жарком огне и ему предстоял трудный подвиг – он должен был отражать многочисленного неприятеля, окружавшего его с трех сторон и несколько раз завязывавшего рукопашный бой с застрельщичьими цепями и их резервами, и между тем выносить своих раненых. Здесь в особенности отличались своею хладнокровною храбростию командующий 3-ю мушкетерскою ротою Его Светлости полка подпоручик Калантаров и полковой аудитор 13-го класса Смирнов. Последний, командовавший, за недостатком офицеров, частью любой цепи, при этом случае сильно ранен в ногу.
Хотя начальник арьергарда полковник барон Врангель с похвалою выполнил свою обязанность, но я[440]440
Журнал велся от имени начальника отряда – ген. – лейт. Галафеева.
[Закрыть] не менее того счел за необходимое послать 1-й баталион Куринского егерского полка в подкрепление ему, после чего арьергард начал выходить из леса на поляну; чеченцы с исступлением выскочили было на него, но встреченные картечью из двух орудий, заранее для сего приготовленных, они скрылись снова в лес. Выйдя на полянку, все войска заняли прежний свой боевой порядок и начали подаваться вперед.
Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой. Правый берег был более открыт, по левому тянулся лес, который был около дороги прорублен на небольшой ружейный выстрел, так что вся эта местность представляла нечто в виде бастионного фронта с глубоким водяным рвом.
Подойдя к этому месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного выстрела не сделано с неприятельской стороны, ни малейшего движения не было видно. Местность казалась совершенно ровною, не было видно ни малейшего следа оврага, и казалось, что дорога не пересекалась. Уже сделано было распоряжение двинуть в каждую сторону по одному баталиону с тем, чтобы, по занятии леса, люди оставались там до тех пор, пока не протянется весь обоз. Дабы обеспечить пехоте занятие леса, весь отряд двинулся еще вперед; артиллерия подошла уже на ближайший ружейный выстрел; цепь, выдвинутая вперед, находилась от леса на пистолетный выстрел, но с неприятельской стороны сохранено то же молчание. Едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы со всех сторон открыли убийственный огонь против пехоты и артиллерии. В одно мгновение войска были двинуты вперед с обеих сторон дороги. В лес на правой стороне дороги направлены были первые полубаталионы трех баталионов Куринского полка под командою майора Пулло; в лес же по левой стороне все вторые полубаталионы тех же баталионов под командою майоров Витторта и Бабина. Сюда же был двинут вскоре после и первый полубаталион Мингрельского егерского полка под командою капитана Грекулова. Храбрый и распорядительный командир Куринского полка, полковник Фрейтаг, сам впереди вел на кровавый бой своих куринцев; с быстротою обскакал он ряды их; везде слышен был ободряющий голос его, и в виду целого отряда он с неимоверным хладнокровием распоряжался атакою. Добежав до леса, войска неожиданно остановлены были отвесными берегами речки Валерика и срубами из бревен, за трое суток вперед приготовленными неприятелем, откуда он производил смертоносный ружейный огонь. Тут достойно примечания, что саперы, следовавшие в авангарде за 3-м баталионом Куринского полка, увидевшие, что войска остановлены местным препятствием, без всякого приказания бросились к ним на помощь, но они не были уже нужны храбрым егерям: помогая друг другу, они перебирались через овраг по обрывам, по грудь в воде, и вскочили в лес в одно время с обеих сторон дороги. В лесу они сошлись с чеченцами лицом к лицу; огонь умолк на время; губительное холодное оружие заступило его. Бой продолжался недолго. Кинжал и шашка уступили штыку. Фанатическое исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной храбрости русского солдата! Числительная сила разбросанной толпы должна была уступить нравственной силе стройных войск и чеченцы выбежали на поляну на левом берегу реки Валерика, откуда картечь из двух конных орудий, под командою гвардейской конной артиллерии поручика Евреинова, снова вогнала их в лес.
В лесу снова начали раздаваться весьма частые ружейные выстрелы; но это не был уже бой, а походило более на травлю диких зверей! Избегая смерти с одной стороны и пробираясь между кустами, чеченец встречал ее неожиданно с другой стороны.
Между тем, когда войска начали вдаваться далее в лес, с правой стороны лежащий, часть чеченцев, коих отступление совершенно было отрезано, бросилась к опушке леса и начала бить в обоз; против них я двинул второй полубаталион Мингрельского полка под командою корпуса жандармов майора Лабановского, и чеченцы вмиг были подняты на штыки. Другая партия, также оттесненная немного подалее к опушке, вышла на равнину вперед позиции и начала бить в обоз с правого фланга. Заметив это, я поставил против них два конных орудия, под командою поручика Евреинова, и поскакал к 2-м сотням донских казаков, чтобы приказать им идти в атаку; но князь Белосельский-Белозерский, прибыв с другого края, предупредил меня и двинул тех казаков вперед. Чеченцы, поражаемые картечным огнем и видя приближающуюся кавалерию, стремглав бросились опять в лес, где весьма немногим из них удалось спастися от поражения нашей пехоты…
Мало-помалу бой начал утихать; в лесу остались одни только мертвые, и войска начали вытягиваться с другой стороны поляны, чтобы обеспечить переправу, которую разрабатывали саперы, с трудом отозванные из лесу, где они нашли пищу для своей необыкновенной храбрости.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии][441]441
Отрывок из «Журнала военных действий» за 11 июля был напечатан в «Русской Старине», 1891 г., № 8, стр. 358–363.
[Закрыть]
Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне, в котором были мечиковцы, жители Большой и Малой Чечни, бежавших надтеречных и всех сунженских деревень, с каждого двора по одному человеку, удивительное хладнокровие, с которым они подпустили нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи – все это вместе могло бы поколебать твердость солдата и ручаться им за успех, в котором они не сомневались. Но эти солдаты были те самые герои, которые не раз проходили по скалам Кавказа, эти солдаты были ведомы теми же офицерами, которые всегда подавали им благородный пример редкого самоотвержения, и чеченцы, не взирая на свое отчаянное сопротивление, были разбиты. Они в сем деле оставили на месте боя до 150 тел и множество оружия всякого рода. Потеря с нашей стороны в этот день состояла из убитых 6-ти обер-офицеров, 63 нижних чинов; раненых: двух штаб-офицеров, 15 обер-офицеров и 198 нижних чинов; контуженных: 4 обер-офицеров и 46 нижних чинов; без вести пропавших: 1 обер-офицер и 7 человек нижних чинов; 29 убитых и 42 раненых лошадей.
По переходе через речку Валерик войска следовали далее по направлению к деревне Ачхой, не будучи обеспокоиваемы более неприятелем. Прибыв к речке Натахы, я расположил отряд лагерем по обоим берегам речки. Тут я узнал от взятой в плен женщины, что чеченцы имели полную надежду воспрепятствовать переходу отряда через реку Валерик и что поэтому еще многие семейства находились до самого появления наших войск на полевых работах.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии]
Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров Его Светлости полка: [перечисление]… Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон-Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапною смертию.
[Из Журнала военных действий отряда на левом фланге Кавказской линии]
…Я жизнь постиг.
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу:
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их Пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы, ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу; сердце спит,
Простора нет воображенью,
И нет работы голове…
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз.
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне:
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам,
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам.
И вижу я неподалеку,
У речки, следуя Пророку,
Мирной татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз;
И вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их томный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу! – дальний выстрел… прожужжала
Шальная пуля… Славный звук!..
Вот крик – и снова все вокруг
Затихло… Но жара уж спала;
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой…
Шум, говор… «Где вторая рота?» —
«Что вьючить?» – «Что же капитан?» —
«Повозки выдвигайте живо!» —
«Савельич!» – «Ой-ли!» – «Дай огниво!» —
Подъем ударил барабан,
Гудит музыка полковая;
Между колоннами въезжая,
Звенят орудья; генерал
Вперед со свитой проскакал…
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке – два и боле;
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит;
Он машет, кличет – где отважный?
Кто выйдет с ним на смертный бой?..
Сейчас… Смотрите: в шапке черной,
Казак пустился гребенской,
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко… выстрел… легкий дым…
«Эй вы, станичники, за ним!
Что? ранен?» – «Ничего! безделка!..»
И завязалась перестрелка…
Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало:
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет…
Раз – это было под Гихами —
Мы проходили темный лес.
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на бранный зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом,
И дым их то вился столбом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса:
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, – дело началось.
Чу! в арьергард орудье просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей…
И вот из леса, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки…
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан… Впереди же
Все тихо… Там, между кустов
Бежал поток; подходим ближе;
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись, – молчат…
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало,
Потом мелькнуло шапки две, —
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье!..
Недолго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп… глядим: лежат рядами…
Что нужды? – Здешние полки
Народ испытанный… «В штыки!
Дружнее!» – раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня…
«Ура!» – и смолкло. – «Вон кинжалы!..
В приклады!» – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился; резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь;
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня), – но мутная волна
Была тепла, была красна…
На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью. На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась; но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно. Он шептал:
«Спасите, братцы! тащат в горы…
Постойте! где же генерал?..
Не слышу»… Долго он стонал,
Но все слабей, и понемногу
Затих – и душу отдал Богу.
На ружья опершись, кругом,
Стояли усачи седые
И тихо плакали… Потом
Его останки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли… Тоской томимый,
Им вслед смотрел я, недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло все; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом,
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
В своем наряде снеговом,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек…
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем, —
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?..
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу, – он был
Кунак мой. Я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик, —
А перевесть на ваш язык,
Так будет – речка смерти; верно,
Дано старинными людьми». —
«А сколько их дралось примерно
Сегодня?» – «Тысяч до семи». —
«А много горцы потеряли?» —
«Как знать? зачем вы не считали?» —
«Да! будет, – кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый».
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал…
Лермонтов. Из поэмы «Валерик»
Эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли, а были вредны коренным деятелям, офицерам постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большей частью остававшимся в тени.