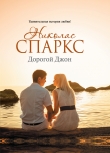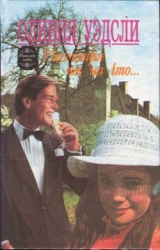
Текст книги "Несмотря ни на что"
Автор книги: Оливия Уэдсли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Глава VI
О, горечь, скрытая в упоенье!
О, оборвавшееся пенье горлинки!
Быстры крылья у любви, и шаги ее – шаги пантеры.
Свенберн.
Первая ваша речь, если вы политический деятель; первый подписанный вами приказ, первое отданное распоряжение, если вы – глава фирмы; первое художественное произведение, вами прочитанное, – такие вещи не забываются.
Запомнится даже, какая была погода в тот день, когда свершилось это чудо, как вы были одеты, запомнятся волновавшие вас ощущения.
Первое выступление Джона произошло в помещении Хлебной Биржи, густо набитом разного рода людьми.
Были тут и рабочие с суровыми лицами и мозолистыми руками; и простоватые торговцы и ремесленники, склонные к многословию, и громкими криками одобрявшие то, в чем они весьма смутно разбирались; были и присяжные оппоненты, гордые своей репутацией «людей, которые не сдаются», – орешки, которых не разгрызть, потому что тщеславие сделало их очень твердыми.
В Хлебной Бирже было одновременно и душно, и сыро. На улице шел дождь. Сорванные ветром красные листья, занесенные сюда сапогами слушателей, валялись на грязном полу.
– Они меня осмеют, разобьют в пух и прах, – говорил себе Джон, облизывая пересохшие губы и прислушиваясь к бесстрастному голосу лорда Кэрлью, звучавшему с трибуны, к его уверенным словам, быстрым и метким ответам на возражения противников. Присутствие толпы, настроенной деловито и воинственно, вызывало в ораторе некоторый ответный задор. Но он говорил спокойно и смело, сохраняя свою обычную манеру. Джон же казался себе ничтожнее самого ничтожного из этой толпы. Толпа представлялась ему как бы одним человеком, с ухмыляющейся красной физиономией, с голосом, подобным реву быка, с шуточками, жалящими, как крапива, с глазами, устремленными в упор на него, Джона, и полными уничтожающего презрения.
Он пытался поднять в себе упавший дух. «Черт возьми, ведь я не олух какой-нибудь! Мозги у меня не хуже, чем хотя бы у этого молодца, что возражает сейчас Кэрлью. И подготовка, надеюсь, тоже! Хотел бы знать, чем он занимался всю жизнь, черт его побери?!»
Но как он ни хорохорился мысленно, остатки его уверенности таяли быстро под тучей язвительных стрел, которые сыпались на лорда Кэрлью и которым предстояло скоро удариться о щит, гораздо менее надежный!
Джон должен был говорить о проекте фабричного закона. Он собрал факты, хорошо изучил тему, но все вылетело у него из головы в ту минуту, когда он поднялся на трибуну.
Он видел ряды лиц, поднятых к нему с выжидательным выражением.
Обернулся – и позади были те же ожидающие лица. Он с каким-то напряжением вгляделся в находившийся прямо перед его глазами добела накаленный щит и заметил дыру посередине. Сощурился, ослепленный светом. И вдруг голос – рев того «сборного» человека с веселой красной физиономией – прозвучал, обращенный к нему:
– Ну, что же, проснись, парень!
Аудитория, довольная шуткой, зааплодировала. Джон вскипел.
– Это всем вам не мешало бы проснуться! – загремел он. – И постараться, чтобы это было поскорее! Вы так сладко дремали все годы, что теперь у вас нет никаких законов, охраняющих ваши интересы на фабриках, а если бы и были, вы бы не сумели их защитить. Вы тихонько жалуетесь, вы скулите или выкрикиваете бессильные проклятия – и только покорно смотрите, как ваши дети начинают ту же самую каторгу, которую вы клянете всю жизнь. Встряхнитесь же, довольно вы спали, я думаю! Вы слышали, что говорил предыдущий оратор…
Джон теперь говорил плавно и с жаром, потому что слова «душили» его и потому что видел в них метательные снаряды, бросая которые, спасаешься от атаки противника. Он имел успех, безотчетно сумел сыграть на настроении толпы.
Речь лорда Кэрлью не тронула их; он их убеждал, но мало убедил. Горячность же Джона, презрительный вызов, брошенный им, понравились сразу.
– Эге, вот это парень так парень! С изюминкой! – говорили слушатели, подталкивая друг друга и широко ухмыляясь. – Как его звать-то? Теннент? Так это тот самый?
Речь Джона была короткой. Он вдруг сразу остановился, как бы очнувшись. Пережил минуту болезненного ужаса, когда ему казалось, что он осрамился, потом оправился и окончил так же полупрезрительно, полувызывающе, как начал:
– Итак, вам предоставляется на выбор – либо позволять и впредь помыкать собою, либо начать, наконец, действовать. Вам решать – и вам нести последствия своего решения!
Он сошел и сел на свое место при дружных одобрительных хлопках. Он верно рассчитал эффект.
Лорд Кэрлью искренно поздравил его с успехом. Он был втайне изумлен: ожидал от Джона добросовестной академичности, но никак не такого уменья угадать настроение толпы и использовать его. Было ясно, что он никогда не будет оратором классическим, но несомненно будет популярным!
Маркс, кандидатуру которого они защищали, в теплых выражениях поблагодарил Джона.
– Замечательно, дорогой товарищ, – сказал он восторженно, – вы сумели прекрасно подойти к ним!
Маркс был известный адвокат, еврей. Он попросил Джона и в следующие два вечера выступать в нескольких местах от имени его партии.
Джон поехал обратно в гостиницу вместе с лордом Кэрлью. Ноги и руки у него были как лед, голова горела. Он все вспоминал свою речь и дорого бы дал за то, чтобы она не была сказана. Он уже стыдился своего возбуждения и железным усилием воли сдерживал его. Но, приехав в отель и увидев, что еще только одиннадцать часов, не вытерпел и позвонил Кэро.
Пришлось долго дожидаться, пока соединили с Лондоном. Наконец, чей-то едва слышный голос шепнул:
– Алло?
– Кто это? – спросил Джон. – Это мисс Кэрлью?
Шепот стал явственнее:
– Милый мой, где же ваше седьмое чувство, что вы не сумели узнать моего голоса? Вы звоните по делу, вероятно?
– Нет, разумеется, нет, – поторопился сказать Джон. Он горел желанием сообщить ей, что выступал в первый раз и имел огромный успех.
– Так вы позвонили только потому, что захотелось поговорить со мной? Тронута!
– Знаете, Кэро, я… Маркс предоставил мне сегодня вечером выступать в защиту его кандидатуры.
– А! И вы хорошо говорили?
Обычный тон, обычные слова нарушили торжественность момента. Джон поговорил немного о других вещах и простился.
В довершение обиды местные газеты не привели его речи и хотя упомянули имя оратора, но мельком, да к тому же еще переврали его!
В Джоне разыгралась кровь бойца. Он забыл о Кэро, о Лондоне, о любви; забыл о письмах. Он жил только митингами, объезжал районы, ведя всюду предвыборную агитацию, знакомясь с техникой своего ремесла.
Маркс получил большинство голосов – и этим в значительной мере был обязан Джону, с его усердием и терпением, всегда поднятой головой и веселым смехом, с покорявшими избирателей пылкими речами.
Благодарный Маркс поговорил о Джоне с Мэннерсом, специальностью которого было – запоминать и отличать.
Миссия Джона была выполнена и ему оставалось отойти в сторонку и смотреть, как другие занимают те места, о которых он мечтал. Это ему совсем не нравилось. Он жаждал «настоящей» деятельности.
Начался осенний сезон в «свете» и ему пришлось сделать ряд визитов вместе с Кэролайн и ее матерью. Они с Кэролайн решили венчаться перед Рождеством. Поэтому у Джона было много хлопот: надо было подыскать дом, меблировать его, а выбор мебели отнимал уйму времени, потому что Кэро было нелегко угодить. Они хотели к Новому году уже переселиться к себе, так что времени на все приготовления оставалось слишком мало. Джон попросту изнемогал. Лавки антиквариев стали кошмаром его существования.
Дом, приобретенный им, находился на Саус-Одли-стрит. Это был, собственно, не дом, а домик, небольшой, четырехугольный, очень уютный на вид; окна гостиной выходили на премилые балкончики, а за домом был довольно большой сад. По настоянию Кэро входная дверь была из красного дерева и снабжена молотком флорентийской работы. Во всех мелочах отделки сказывался экзотический вкус Кэро. Дом Джона стал притчей во языцех, предметом остроумных шаржей и статеек.
Внутри имелись «черная комната», «золотая комната», «нефритовая комната». Кэролайн выглядела прелестно на фоне каждой из этих комнат, Джон – ни в одной из них.
Он как будто был здесь не на месте. И чувствовал себя в этой обстановке так же, как бык – в посудной лавке. Люси прибыла из Шропшира «хозяйничать» и, войдя в первый раз в дом, откровенно объявила, что «все здесь как-то не по-людски».
Джон водил ее по всему дому, указывая на его красоты и удобства.
В «египетской комнате» с фризами в человеческий рост Люси не выдержала и заворчала что-то себе под нос.
В эту минуту пришла наверх Кэролайн. Инстинкт ли, или врожденный такт подсказали ей, как надо обращаться со старой нянькой Джона. В Рэксхэме, имении Кэрлью, все арендаторы обожали Кэролайн. Она прекрасно запоминала всех и все, умела каждому сказать подходящее слово и обладала той великолепной непринужденностью, которая располагает людей.
Через пять минут Люси значительно смягчила свою критику, а вид кухни, выложенной белыми плитками, с усовершенствованной плитой, со всеми приспособлениями, какие только можно придумать, заставил ее окончательно смягчиться.
– Вы сумеете хорошо ухаживать за мистером Теннентом, – сказала приветливо Кэролайн. – Я так много о вас слышала. Люси.
Польщенная Люси просияла. Воспоминание о «египетской комнате» несколько утратило свою остроту. «Эта знать уж всегда чудит, – рассуждала Люси про себя. – Что простым людям кажется сумасбродством – им приходится по вкусу».
Люси обосновалась в этой замечательной кухне и была довольна, что ее прямые обязанности не требуют частого пребывания наверху, в спальнях, а особенно в этой ужасной черной комнате или в той, где на обоях изображены пляшущие женщины!
За неделю до свадьбы Кэро схватила инфлюэнцу. Она была в ярости. Болезнь она рассматривала как нечто в высшей степени унизительное для человека.
– Нет, не смейте ничего откладывать! – заявляла она не допускающим возражения тоном.
Джон навещал ее ежедневно. Он все еще был не в своей тарелке. Эти недели, оторвавшие его от недавней деятельности, полные сумятицы и вместе с тем пустые, очень его утомили.
Он очень жалел Кэролайн. Но когда ее болезнь, в конце концов, вынудила их отложить свадьбу, он остался странно равнодушен к этому факту. Он только тревожился о Кэро и занялся разными мелочами, связанными с отсрочкой венчания.
Чип взял на себя значительную часть хлопот, и у Джона оставалось много досуга, который он проводил у постели Кэро.
В постели она казалась еще более юной, чем всегда, со своим золотым ореолом кудрей вокруг белого личика. Их с Джоном очень сблизили эти мирные зимние вечера, когда снег заглушал стук колес снаружи, а в каминах огонь напевал свою хриплую песенку. Они болтали о тысяче вещей, и в их отношениях бурная страстность уступила место радостной интимности.
Джон казался менее замкнутым, менее поглощенным собою, Кэролайн – менее требовательной.
К тому времени, как она стала поправляться, секретарь Леопольда Маркса был вызван в Буэнос-Айрес, где ему досталась какая-то земля, и Джону предложили занять его место.
За месяц до этого Маркс вошел в состав правительства.
Рождество миновало, новому году было десять дней от роду. Джон набросился на работу с прежней жадностью.
В короткое время успел стать неоценимым помощником для такого занятого человека, каким был Маркс. Маркс, и сам обладавший поразительной трудоспособностью, признавал, что Джон перещеголял его.
Кэролайн пришлось выздоравливать в одиночестве. Впрочем, этого не надо понимать буквально. Джон посылал ежедневно цветы и письма, навещал ее каждое утро по дороге в Гамильтон-Плэйс. Он был преданным и примерным женихом. И все же он отсутствовал.
Бледные щеки Кэролайн пылали огнем, не имевшим ничего общего с обыкновенной лихорадкой.
Однажды она вызвала Джона, и он пришел после чая.
Обнял ее, укутав предварительно в белое, шелковое, на гагачьем пуху, одеяло, и говорил о своей любви и о своей работе.
Он не спросил: когда же ты станешь моей женой? Но заметил вскользь, что хотелось бы, чтобы она поскорее поправилась и они могли, наконец, устроиться у себя в новом доме.
Он поцеловал ее волосы и закрытые глаза и посмотрел на часы.
– Мне пора двигаться, моя крошечка, – сказал он. – Маркс хочет, чтобы… – И снова пошли сообщения о Марксе и работе.
Кэролайн задвигалась в его объятиях, открыла смеющиеся глаза. Она совсем не казалась рассерженной, как опасался Джон.
– Итак, значит, теперь дело только за моим выздоровлением? О, мы скоро устроимся у себя! Новый доктор уверяет, что мне с каждым днем все лучше. Давай обвенчаемся ровно через месяц, третьего марта, хорошо?
– Отлично, – отвечал Джон, поцеловав ее снова и осторожно укладывая на подушки.
Часы пробили шесть.
– Скажи, что ты меня обожаешь! – прошептала вдруг Кэролайн, и в глазах ее засверкали слезы. – Встань вот тут на колени и скажи!
– Мне надо было к шести быть уже в Палате, солнышко, – сказал Джон. Он нагнулся и поцеловал ее в губы. – Конечно же, я обожаю тебя! Кто бы мог не обожать тебя, если бы увидел сейчас? Ты чудо какая хорошенькая в постели!
Он смеясь простился с нею – и через секунду Кэро услышала, как он мчится вниз по лестнице, перескакивая через три ступеньки сразу, потом – как отъехал его автомобиль.
Она села в постели и, сорвав телефонную трубку с подставки, назвала номер.
Двадцать минут спустя Рендльшэм входил в ее комнату.
Он подошел к камину и стал греть озябшие руки.
– Вы приехали один, без шофера? – спросила Кэролайн.
– Я отпустил его на час-другой и, когда вы позвонили, он еще не вернулся.
– Право, очень мило с вашей стороны, что вы пришли, Гуго.
– Почему же?
Он посмотрел на нее и сардоническое выражение его лица сменилось вдруг мягкой улыбкой.
– Разве такая уж заслуга сделать то, чего хочется? Этак вы, пожалуй, премируете эгоизм, а? Зачем вы вызвали меня, Лукреция? – через минуту осведомился он спокойно. (Он тоже изучал Венецию вместе с Кэролайн, но годом раньше Джона.)
– Затем, что вы нужны мне, Козимо!
– Нужен вам?! – повторил он. В его голосе больше не было спокойной уверенности.
Он подошел к кровати и остановился, глядя вниз на Кэролайн.
– Черт возьми, что вы хотите этим сказать, Кэро?
Кэро смотрела на него в упор, красивые ее глаза были полны слез. Рендльшэм наклонился ближе, словно желая проверить, не ошибся ли он.
– Милая… – начал он мягко.
Она резко и отрывисто засмеялась.
– Ради Бога, не надо нежностей, я сыта ими по горло!
Она прикрыла глаза длинными ресницами:
– Когда-то вы не были таким… бесчувственным деревом.
– И вы когда-то не были… собственностью Теннента.
– Собственность – основа законов. Но пока я еще не принадлежу Джону.
Рендльшэм нагнулся еще ниже, опустился на колени у кровати. Его лицо было теперь на уровне лица Кэро.
– Дайте же мне посмотреть вам в глаза! В чем тут дело? Вам надоел Теннент? Или вы так влюблены, что хотите больно ранить его за какую-то вину? Какую замысловатую дьявольскую штуку вы задумали на этот раз, моя милая?
– Хочу быть любимой… мне нужно отомстить за себя.
Рендльшэм захохотал, но смех этот звучал неуверенно.
– Ага, истина понемногу выясняется! Так Теннент вам не угодил? Или неверен вам? Которое из двух?
– Я собираюсь обвенчаться с ним третьего марта.
Рендльшэм стиснул ей руку так больно, что она вскрикнула.
– Этот фокус мне знаком, – промолвил он сквозь зубы, – вы то же самое проделали когда-то со мной. Слушайте, Кэролайн: вы хотите уязвить Теннента, и я должен быть орудием мести, так, что ли? Бедняга, должно быть, был недостаточно пылок, или наскучил вам, или совершил какое-нибудь другое столь же непростительное преступление? Что же, я вам помогу, но на этот раз не позволю играть собою. Либо вы, как только встанете с постели, выйдете за меня замуж, либо больше меня не увидите! Я вас любил когда-то без памяти, слишком безрассудно, может быть, и сейчас именно так люблю, но не намерен вторично стать игрушкой. Выбирайте сейчас же. Я видел с первой минуты, как встретил вас после обручения, что вы не удовлетворены. Когда любишь женщину так, как я люблю вас, то всегда угадываешь, счастлива ли она. Я не хочу знать, что сделал или чего не сделал молодой Теннент, – просто хочу услышать ваше решение.
Он приподнял ее и сказал шепотом, крепко сжимая ее плечи и близко глядя в лицо:
– Я люблю вас. Я бы мир перевернул, чтобы дать вам минутку радости. Я люблю вас, как сумасшедший, как последний дурак, а вы этого не стоите. Я бы на пытку пошел за то, чтобы обладать вами, иметь на вас некоторые права. Обвенчайтесь со мной, Кэро! Согласитесь на мои условия – и клянусь всем, что для меня свято, я буду носить вас на руках. Я терпел адские муки все эти месяцы с тех пор, как узнал о вашей помолвке. Зачем вы это сделали? Как могли забыть прошлый год? Ведь был же я чем-то для вас, иначе вы не позвонили бы мне сегодня… меня – первого из всех… Кэро… Кэро…
Он целовал ее сначала робко, потом все торопливее и более страстно. Он обжигал ей губы, стискивал до боли ее хрупкое тело, прижимая его к себе. Кэро просунула свою тонкую руку между его и своими губами, чтобы остановить его.
– Гуго, пожалуйста…
– Вы меня позвали, – бормотал он дико, – и я пришел. Не прогоняйте же меня снова, если в вас есть хоть что-нибудь хорошее! Если вы это сделаете, то, Бог свидетель, больше меня не увидите, я не буду больше вашей послушной игрушкой. И буду ненавидеть вас так же сильно, как теперь люблю. Знаю я вашу псевдожизнь с ее выдуманными ощущениями, где и грех, и добро – все в «полутонах», а «любить», «ненавидеть» – слишком обыкновенные, будничные слова. Но когда я говорю их – то вкладываю в них глубокое содержание. Выбирайте же свое будущее. Вы играли мною, как играли Уорреном или этим несчастным молокососом, Тони Стэнтоном, а теперь хотите точно так же оставить в дураках Теннента. Но со мною это больше не пройдет – вы заплатите за это! Я пойду прямо отсюда к Тенненту и расскажу ему вею правду, и к горечи, которую вы чувствуете к нему, прибавится стыд. Я вел себя честно по отношению к Тенненту до сих пор, не искал встреч с вами, даже избегал их, несмотря на ваши записки, на то, что я желал вас по-прежнему. И был похож на умирающего от жажды, который так слаб, что не может уже добраться до искрящегося невдалеке источника. Я было уже заставил себя примириться с вашим замужеством. Но тут стало известно, что оно откладывается, – и вдруг вы посылаете за мною и намерены использовать меня, чтобы наказать Теннента! Не будь это все для меня трагедией – я бы, вероятно, умер со смеху, так все это комично! Так вот оно – последнее слово современной любви, которое требуется для вашей притупленной чувствительности? Но мы с вами, моя милая, лучше оставим этакие развлечения втроем и будем старомодны. Эти штуки вы забудьте! Я готов дать себя ослепить и искалечить ради вашей любви, но будь я проклят, если вам удастся повязать мне ленточку на шею и заставить плясать, как медведя, чтобы потешить ваше тщеславие или насытить вашу жажду мести. Я хочу, чтобы вы были моей женой, но только в том случае, если вы любите меня. В прошлом году вы любили меня, пока не увидели, что я влюблен сильнее, чем вы. Я запомнил урок. Мы либо сойдемся с вами на таких условиях, либо разойдемся теперь уже навсегда. Если вы скажете, что не любите меня – вы освобождаетесь от меня, но и от Теннента. Вы послали за мною, когда вам понадобилось оскорбить Теннента, а что я страдал и страдаю – вам дела нет! Теннента вам удастся ранить глубоко, не сомневаюсь: в этом порукой юность и ослепление бедняги. Но и вы тоже уплатите долг! На сей раз я выйду победителем – и вы либо навсегда вычеркнете нас обоих из своей жизни, либо станете моей женой на будущей же неделе!
Он вдруг отошел от Кэро и вернулся на прежнее место у камина.
– Итак? – спросил он снова после паузы.
Голос был ровен, лицо в слабом свете камина хранило непроницаемое выражение. Только пальцы, скрещенные за спиной, он стискивал так, что суставы побелели.
– Выходит как будто, что у меня нет выбора? – промолвила Кэро протяжно.
Рендльшэм что-то невнятно пробурчал в ответ и дошел уже было до двери, когда его остановил умоляющий голос, которому испуг придал странную выразительность:
– Гуго, я не это хотела сказать. О, Гуго, вернитесь! Я так устала от всего, от себя самой и от Джона тоже, устала жить и все чего-то бесплодно добиваться! Я вас любила год назад, но, чтобы удержать мою любовь, вам следовало подчинить меня, а вы допустили, чтобы я вас подчинила себе. Может быть одинаковая любовь, но не бывает одинаковой силы: один из двух любящих всегда властвует, другой – покоряется. Я так несчастна теперь… я хочу… мне все на свете противно, потому что Джон обидел меня…
Она остановилась на миг, прерывисто дыша: слабость после болезни еще давала себя знать.
– Гуго, я обещаю выйти за вас, если вы согласитесь, чтобы я объявила о нашем обручении сама, когда найду нужным, но не позднее чем через две недели.
Она смотрела прямо в лицо Рендльшэму, хмуро, с каким-то злым огоньком в глазах.
– Не дурачите ли вы меня снова? – спросил жестко Рендльшэм.
Кэролайн вдруг расплакалась, уткнувшись в подушку. Она плакала, как ребенок, беспомощно, жалобно, все ее худенькое тело тряслось, короткие золотые кудри растрепались.
С минуту Рендльшэм стоял неподвижно, глядя на нее. Потом бесшумно опустился на колени, подсунул руки под спрятанное в подушку личико и тихонько приподнял его.
Кэролайн открыла умоляющие, залитые слезами глаза. Губы у нее дрожали.
Рендльшэм вдруг вспомнил с мучительной яркостью ту минуту, когда видел ее плачущей в последний раз. Она тогда плакала, лежа в его объятиях, а затем, с шутливой непринужденностью, сказала ему, чтобы он уходил, что все кончено.
Он невольно резко отодвинулся.
– Гуго, отчего… куда же вы? – сказала Кэро тихо. Глаза ее спрашивали, искали ответа в его лице, и нашли, наконец.
– Что пользы мне говорить с вами, как можем мы снова быть друзьями, если вы все время будете вспоминать старое? – сказала она с упреком. – О, лучше вам уйти. Я не выйду за Джона, не беспокойтесь, и вы тоже совершенно свободны и можете уходить.
– Я никогда не буду свободен, – возразил хрипло Рендльшэм, не в силах отвести взгляда от ее губ.
Она наклонилась немного вперед. Коснулась головой его плеча. Их губы встретились.
Тонкая белая рука Кэролайн обвилась вокруг шеи Рендльшэма. Она притягивала ближе его голову.
Огонь в камине догорал. Все предметы в комнате виднелись, как сквозь тускло-золотую вуаль.
Кэролайн, торжествующе усмехаясь, слушала бессвязные, полные отчаяния и обожания нашептывания Рендльшэма.
– Победитель! – промолвила она, когда он поцеловал ее, наконец, в последний раз, прощаясь, – и та же загадочная усмешка притаилась где-то глубоко в ее глазах.