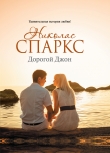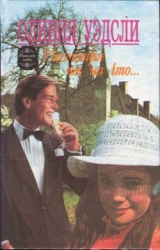
Текст книги "Несмотря ни на что"
Автор книги: Оливия Уэдсли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Чей-то голос окликнул Джона по имени. Он тупо поглядел на остановившийся рядом автомобиль. Из окошка высунулась миссис Сэвернейк. Ее лицо было отчетливо видно.
– Садитесь-ка ко мне. В такую ужасную ночь поломка автомобиля – неприятная штука, не правда ли? Входите же!
Джону хотелось отказаться. Он начал было бормотать бессвязное извинение, но шофер уже открыл дверцу. Двигаясь, как автомат, он встал и перешел в автомобиль миссис Сэвернейк. Шофер захлопнул дверцу, и они покатили.
– Ну, конечно, вы совсем промокли! – заметила спутница Джона. – Неприятности всегда обрушиваются на нас все вместе. Победа лорда Мэйнса, и этот дождь, и поломка автомобиля.
Джон ничего не отвечал. Она же продолжала болтать самым простым и естественным тоном.
– Мне придется послать Куртиса раздобыть что-нибудь на ужин, – сказала она, когда они въехали в ворота «Гейдона». – Вы не откажете заглянуть ко мне на минутку? Он сейчас вернется и отвезет вас домой.
Ни звука о Чипе, ни намека на то, что она с ним встретилась, ни одного вопроса, ни слова сожаления или сочувствия.
Джон, пробормотав что-то в ответ, помог ей выйти.
В маленькой гостиной их встретили алые отблески огня в камине, чудесная теплота, сандвичи и вино на круглом столике. На темном дереве блестел кофейник.
– Не сварите ли вы кофе, пока я буду снимать пальто? – попросила хозяйка. – Вы, верно, умеете обращаться с этими новыми машинками?
Джон выслушал и тут же забыл, о чем его просили. Он стоял, глядя в огонь. От его мокрого платья шел пар.
Голос миссис Сэвернейк заставил его очнуться. Он сильно вздрогнул.
– Бессовестный! Кофе не сварен, а я умираю от желания выпить чашечку.
Джон все еще молчал, но бушевавшая в нем буря, как будто лишившая его дара речи, немного улеглась, пока он следил за руками миссис Сэвернейк, зажигавшими спиртовку, разливавшими кофе, расставлявшими все на столе.
Он взял свою чашку и, забыв отпить из нее, промолвил вдруг:
– Я полагаю, вы уже слышали?..
Миссис Сэвернейк вся ушла в свое кресло. При вопросе Джона она подняла глаза и встретила его взгляд.
– Слышала, да…
– Ну, что же, продолжайте, – с горечью поощрил он.
– Хорошо, я буду продолжать. Я хочу рассказать вам одну историйку. О мужчине и женщине. Женщина была на волосок от того, чтобы поступить так же, как поступила Кэролайн Кэрлью. Но она этого не сделала, потому что… да отчасти потому, я думаю, что была трусихой, а отчасти и потому, что у нее имелись так называемые идеалы. И она вышла замуж за героя этой истории, – и он кончил тем, что возненавидел ее. Это я – та женщина. И с тех пор я расплачиваюсь за ошибку.
– Вы… Вы поступили… хотели поступить со своим мужем так, как Кэро – со мной?!
Во взгляде Джона было горькое презрение.
– Да, я хотела разойтись с ним до свадьбы, а потом… я имела слабость не сделать этого. Вы избежали большего несчастья. Джон, будьте благодарны судьбе.
– Зачем вы все это говорите мне?
– Чтобы помочь вам трезво взглянуть на случившееся, снова прийти в равновесие. В ваших глазах я только что прочла осуждение. Это вы напрасно, Джон! Меня толкала отказаться от брака с Сент-Джюстом та безоглядная, слепая любовь, какою мы любим лишь в ранней юности. Я была в нерешимости… колебалась, – и он победил. А эта его победа разбила две жизни – потому что между нами не было настоящей любви. Я рада, что у вас с Кэролайн вышло по-другому. Она вам оказала услугу.
Она вдруг поднялась. На побледневшем лице глаза ее казались совсем черными.
– Вы молоды, – промолвила она немного дрожащими губами. – Перед вами – весь огромный мир, все, что стоит завоевывать. – Глаза ее вдруг заблестели слезами. – Ваше «завтра» – на пороге. Я знаю, вы встряхнетесь и пойдете ему навстречу.
Во дворе послышался мягкий стук колес. Автомобиль вернулся.
Джон смотрел прямо в глаза говорившей.
– Вы привезли меня сюда нарочно, – пробормотал он, – и говорили все это с целью утешить меня. Я очень вам признателен, но… но, видит Бог, я не знаю… мне все противно, вся жизнь. Мне никто не может помочь!..
Прощаясь, он на миг удержал ее руку в своей, и пожатие как будто открыло миссис Сэвернейк всю силу той горечи, того озлобления, что терзали его.
Джон вышел и прикрыл за собой дверь. Одно короткое «Спокойной ночи». Ни слова благодарности. Не взглянул, не помедлил на пороге. Олицетворение воинствующей молодости, гнева, неукротимого возмущения против страданий.
Миссис Сэвернейк продолжала стоять у камина, неотступно глядя вниз, словно ее омраченные глаза видели в пламени того, о котором она думала: его намокшую одежду, потемневшие от дождя волосы, его измученное лицо. Было в Джоне что-то, имевшее непонятную власть волновать ее даже тогда, когда Джона не было с ней.
Куда девалось ее ясное спокойствие? Что-то в ее сердце, что она считала мертвым, просыпалось от обманчивого сна.
Она завидовала молодости Джона, тому, что он воюет, страдает, что так стремительно и безрассудно набрасывается на жизнь.
Она вдруг подняла глаза и быстро оглядела свою красивую комнату.
Вещи… вещи. Красивые, драгоценные, редкие и – мертвые.
Вся жизнь прошла только в собирании этих вещей. Сегодня все они как будто издевались над ней.
Она сердито сказала себе, защищаясь, что ведь это составляет существенный интерес в жизни столь многих, особенно в ее возрасте.
Но мысли не слушались, толпились в беспорядке, опережая одна другую.
Она могла бы любить и быть любимой – это от нее зависит. А вещи – совсем не главное в ее существовании. Размышляя так, она двигалась по комнате, гася лампы, ставя на место книги, оправляя подушки. В доме была томительная тишина. Пустая ночь подстерегала Виолу. А вслед за ночью – спокойный, безрадостный рассвет. Биения жизни – вот чего не хватало в нем.
Она задержалась у рояля. Ее охватило сильное желание звуками музыки нарушить мирное оцепенение комнаты и свое холодное одиночество. Звуками, в которых живет радость, и мука сожаления, и даже презрение к себе.
Она играла рубинштейновский «Каменный Остров». И казалось, что колокола жизни, чей звон неустанно слышится в великолепном ритме мятежной юности, заливаются громче, победнее, словно вырвавшись на волю бурными, ликующими, золотыми перезвонами.
Миссис Сэвернейк казалось, будто мелодия, выливавшаяся из-под ее пальцев, шла прямо из ее сердца: те же страстные призывы – и та же усталая примиренность в конце.
Она встала, захлопнула крышку рояля и поднялась наверх, в спальню. И там топился камин, было мирно и красиво, повсюду кружева, серебристый мягкий шелк, великолепное старое дерево. Кровать в стиле ампир, резная и золоченая, была чудом искусства.
Пока девушка помогала ей переодеваться и все готовила на ночь, миссис Сэвернейк, рассеянно глядя в зеркало, все еще слышала тот колокольный звон. И чудился ей жадно внимающий этим звукам, весь ушедший в них душой – Джон.
Она бессознательно играла для него. Это он разбудил в ней тоску по жизни, по утраченной молодости.
– У миссис сегодня усталый вид, – робко заметила горничная.
Миссис Сэвернейк грустно улыбнулась.
– Миссис становится старой, Агнесса, – сказала она с жесткой нотой в голосе. – Но и вы, и другие называете это усталостью – из вежливости.
Глава Х
Для тех, кто не являются участниками трагедии, но стоят настолько близко к герою, что не могут не реагировать на случившееся с ним, самое мучительное – это неловкость положения. Если вы улыбнетесь, вы спохватываетесь и чувствуете, что это неприлично. А уж обедать с обычным аппетитом при таких печальных обстоятельствах представляется вам просто преступлением. Вы чувствуете, что вести себя так, как всегда, с вашей стороны просто оскорбление для бедного героя трагедии. А между тем, увы, ни улыбка ваша, ни аппетит ни на йоту ничего для него не изменят. И совершенно очевидно, что вы можете выть от смеха и уничтожать десяток обедов – несчастный попросту не заметит этого.
Однако ваше «чувство приличия», этот верх глупой условности, связывает вас по рукам и ногам.
Уайльдной, Корнли, все те же чужие люди, с которыми Джону приходилось встречаться, обращались с ним так, словно он был выздоравливающим после тяжелой болезни. Некоторые даже голос понижали, говоря с ним.
Один только Чип держал себя естественно. Он ел и пил, как обычно, и воздерживался от всякого разговора о случившемся, если Джон не заговаривал сам.
Надо было сообщить Туанете. Это Чипу пришлось взять на себя.
Туанета примчалась к миссис Сэвернейк с побелевшим, как мел, лицом и глазами, метавшими молнии.
– Это неправда, этого не может быть! – сказала она, едва переводя дух. – Никто не вправе сделать такую вещь!
Миссис Сэвернейк, как умела, изложила теорию свободы личности, но это ничуть не смягчило негодования Туанеты. Ее короткая верхняя губка вздернулась еще выше, пока она слушала.
– Мило, нечего сказать! – заметила она с необычным для нее цинизмом. – Значит, каждый может сделать, что ему вздумается, хотя бы это были низость и эгоизм, а потом ведь всегда можно сказать, что сделал это, желая добра другому! Вот поистине удобный выход: звучит оно преблагородно, затыкает всем рты, потому что никто не знает, в чем эта «будущая польза» другого заключается. А уж Кэро-то, думается мне, беспокоилась только о себе; ей надо следовать всегда своим капризам, а другой пусть расхлебывает!
К Чипу, в смущении теребившему свой рукав, Туанета приступила с настойчивыми расспросами.
– А что, он очень расстроен, Чип? – спросила она, дрожа от волнения.
– Это скверная история, – коротко отвечал Чип.
Но женское сердце Туанеты жаждало подробностей, точных сведений.
– Да, я знаю. Но, Чип, у него сердце окончательно разбито, как ты думаешь?
В эту минуту Джон вошел в гостиную и Туанета умолкла, зардевшись, объятая ужасным смущением. Она украдкой осмотрела долгим взглядом Джона, который, кинув ей ласковое: «А, девчурка, здравствуй!», уселся у стола и погрузился в чтение газеты.
Он был только очень бледен, и больше ничего. Не похож совсем на героя трагедии!
Туанета была окончательно сражена, когда Джон обернулся и сказал своим обычным тоном Чипу:
– Вот, прочти телеграмму, которую мне прислал Маркс по поводу выборов. Очень любезно с его стороны, правда?
Думать и говорить о выборах в момент любовной драмы! Туанета была прямо-таки шокирована. Но что сравнится с ее разочарованием, когда позже «страдающий от любви» Джон даже упомянул вскользь имя Кэролайн в каком-то деловом разговоре. Туанета отправилась «домой», к миссис Сэвернейк.
– Завтра мы все едем в Лондон, – объявила она. – Чип заедет за мной в одиннадцать. Ух!.. Сегодня вечером мне кажется, что нет ничего постоянного на свете.
Наутро заехал проститься Джон. Миссис Сэвернейк была в огороде, где робкое весеннее солнце вело неравную борьбу с поздними морозами.
– Что, уже обратно в город? – спросила она, стаскивая с маленькой ручки огромную садовую перчатку. – Я и сама через недельку-другую буду уже на Одли-стрит.
– На Одли-стрит и мой дом, – сказал Джон, уверенно глядя ей в лицо.
Она, очевидно, ничего не слыхала об этом футуристическом жилище, которое он приготовил для Кэро, потому что отозвалась совсем просто:
– Вот как! Значит, мы будем соседями. Вы навестите меня, надеюсь?
– Спасибо. С большим удовольствием.
Какая-то натянутость чувствовалась в разговоре. Оба словно выдавливали из себя нужные слова.
Джон, глядя на миссис Сэвернейк, вспоминал ту, другую женщину, которую он видел накануне, ночью, – а она все еще была во власти глухого беспокойства, проснувшегося в ней этой ночью.
– Вы были очень добры ко мне, – сказал с официальной вежливостью Джон.
– Вы что же, хотите, чтобы я чувствовала себя в роли милосердной самаритянки?
– Я, во всяком случае, лежу поверженный у дороги к политической карьере, – заметил Джон угрюмо. – Так что ваша роль вполне походит на роль самаритянки.
Оба они, говоря это, думали о другом ударе, более личного свойства. Миссис Сэвернейк поспешила отойти подальше от опасной темы.
– Но вы, разумеется, выставите свою кандидатуру в случае новой вакансии? Я с вашего разрешения приеду наблюдать сражение.
– Конечно, благодарю вас. И, надеюсь, тогда вы уже сможете меня поздравить с победой.
Он попрощался как-то церемонно и зашагал прочь, между серых кустиков лаванды и пышных тисов. Высокий, светловолосый, словно застывший, – не только от резкой свежести февральского утра, но и от холодной горечи разочарования.
Он был признателен миссис Сэвернейк за ее сдержанность. Подумал с некоторым пренебрежением, что застрахован от увлечения ею и не нуждается ни в чьей поддержке и сочувствии, как бы деликатно они не были предложены.
Джон возвращался в Лондон, к прежнему существованию, так резко, однако, изменившемуся теперь. Его пугало это возвращение, но ни за что не отложил бы его ни на один день. Поехал прямо к Чипу, не прочитал ни одного из писем, ожидавших его, переоделся, известил о приезде Леопольда Маркса и отправился в клуб обедать. В своем воображении он тысячу раз видел, как входит, представлял себе пересуды присутствующих, ту неловкость, какую и он, и они будут ощущать.
Он появился в столовой довольно поздно и, хотя ни один взгляд не встретил его твердого, вызывающего взгляда, ему казалось, что все смотрят на него.
Поздоровался с несколькими знакомыми, выслушал соболезнования по поводу неудачи в Броксборо, поговорил с минуту о пустяках и сел за свой стол. Он, казалось, слышал слова, которые при нем не произносились, чувствовал на себе взгляды, которые совсем не останавливались на нем.
Старый Джон Уайнокс, должно быть, сказал про него: «Он хорошо переносит это, хорошо». И потом стал в сотый раз выкапывать из могилы старые скандалы, любовные драмы, давно забытые всеми:
– Помню, как Чарли Кэрлью (который тогда еще был Чарли Хендс, это было еще до того, как он унаследовал титул) был помолвлен точно так же, как этот малый… как его? – Да, Теннент. – Помолвлен с одной из барышень Форнан, – Розали, красивой, как картинка, но настоящим чертенком, – и она дала ему форменную отставку точно так, как сейчас маленькая Кэрлью! И скажу вам, сэр, Чарли Кэрлью вошел сюда в клуб, пятьдесят лет тому назад, совершенно так же, как этот малый Теннент сегодня, с такой же дьявольской надменностью! Честь ему и слава!
Джон словно слышал каждое слово, и оно падало, как едкая капля, на открытую рану его самолюбия.
Он заставил себя есть. Окончив, перешел в курительную. Мужчины улыбались ему, либо неуверенно, либо чересчур приветливо.
Он вступил в разговор с тремя, которые сидели поближе, и стал рассказывать анекдоты о выборной кампании. Выходя, сказал себе: кажется, у Меня это вышло хорошо.
Когда за ним захлопнулась дверь, в курительной наступило молчание. Потом кто-то сказал: «Славный малый, этот Теннент», и все снова заговорили.
На лестнице Джон столкнулся с только что пришедшим лордом Кэрлью. Оба инстинктивно остановились.
– Я проиграл в Броксборо, сэр, – сказал ровным голосом Джон.
Лорд Кэрлью судорожно схватился за черную ленту своего монокля. Рука его показалась Джону как-то особенно старчески белой и увядшей. У него сжалось сердце.
– Надеюсь, я вас не испугал, сэр? – спросил он, и в первый раз за последние дни в голосе его была мягкость.
– Нет… нет… Но я не знал, что вы вернулись, Дж… Теннент.
– Вернулся и буду ждать следующего состязания, – бросил беспечно Джон. – А пока работаю у Маркса, как раньше.
Он простился и прошел мимо. А лорд Кэрлью подождал, пока он скрылся из виду, и, вызвав свой автомобиль, уехал обратно домой.
Маркс при первой встрече сразу же заговорил о делах, сообщил новости интересовавшего обоих мира и не сказал ни слова соболезнования. Он беседовал с Джоном, усевшись глубоко в кресле, сложив праздно на коленях тонкие руки, с дешевой папиросой в зубах.
А Джон, которому он так тактично облегчил встречу, весело улыбался, даже рисовался немного, а потом увлекся разговором и забыл о себе. Он вернулся домой уже немного успокоенный, без прежней горечи.
В спальне рукой несентиментального или просто нерадивого лакея фотографии Кэро были расставлены на старых местах. Джон увидел их сразу, как только зажег свет.
Он прислонился спиной к дверям и смотрел на них. Подумал, что в таких случаях полагается изорвать их в клочки.
В первый раз за эти дни он дал себе волю и подумал о Кэро, как о женщине, которую любил. До сегодня она была для него кем-то, кто сделал ему ужасное зло, ее образ был связан с представлением о низком предательстве. Но теперь она снова была его Кэро, тоненькая, золотоволосая фигурка с нежным и звонким голосом, со сводящей с ума причудливой грацией. Ни инстинкт самосохранения, ни обида больше не спасали от тоски по ней.
Он выбежал из комнаты и ходил по улицам до рассвета. Вернулся такой утомленный, что в первый раз ему захотелось спать.
Но сначала он вынул фотографии из рамок и запер их в стол; и только потом, как был, одетый, повалился на кровать и уснул.
Глава XI
После усилия наступает реакция. Любая поза, если она является средством самозащиты, становится мучительным бременем.
Джон работал, танцевал на балах, смеялся; кажется, не было человека веселее и беззаботнее его. Но никогда не заживающей раной в его памяти остался тот день, когда Кэро должна была стать его женой, и день, когда ему пришлось пойти в дом на Одли-стрит.
Он сдал внаймы весь дом, с египетскими фризами, золотыми и алыми украшениями, со всем, что в нем находилось, какой-то француженке-актрисе. Но до того, как она въедет, надо было обойти еще раз дом вместе с Люси. Джон уже снял комнаты в Сент-Джемсе и рассчитывал оставить у себя Люси и лакея. Он сообщил об этом Люси, когда они ходили по пустому, сверкающему пышностью дому.
Услышав это, Люси повеселела. Она любила Джона, и его унижение, его страдания глубоко отозвались в ее сердце. Она даже простила ему несправедливость к матери. Путешествуя из комнаты в комнату, она меланхолически делала критические замечания относительно деталей обстановки.
– Той даме, что переедет сюда, это, может быть, и придется по вкусу, мастер Джон, потому что она – француженка. Такие плоские ванны, верно, не в диковинку там.
«Там» означало все страны за пределами Англии; обитатели этих стран, по глубокому убеждению Люси, жили в условиях полуварварских, настоящее же благополучие царило лишь на благословенном острове британцев.
Джон задержался на минутку в комнате, о которой Кэро говорила: «Это будет только наша комната, Джон, здесь ты будешь отдыхать или мы будем вместе работать – и никому из посторонних сюда не будет доступа». О, жалкая пустота человеческих слов!
Джон был рад, когда очутился, наконец, на улице и повез Люси смотреть новую квартиру.
С устройством ее пришлось повозиться; работы у Маркса было много. Но Маркс неожиданно заболел, и Джон оказался предоставленным самому себе.
Мучительное страдание первых дней ожило в нем, когда он случайно столкнулся с Кэролайн и Рендльшэмом, которые оказались проездом в Лондоне: они направлялись в Ливерпуль, чтобы сесть на пароход. Злополучный случай привел Джона в маленький мало посещаемый ресторан, – и тут в ярко-синей шелковой шляпке, веселая, хорошенькая, сидела Кэролайн и, смеясь, разговаривала с Рендльшэмом. Они выглядели счастливой парой.
Джон торопливо вышел из ресторана, то сжимая, то разжимая руки, тяжело переводя дух.
Чип был далеко, в Лейстершире. Маркс болен. Не к кому было пойти.
Джон пошел домой; но ему показалось нестерпимым сидеть в четырех стенах. Он снова вышел.
Много говорят об облагораживающем влиянии страданий. Может быть, оно так и есть, но непосредственным следствием пережитой бури является чаще всего упадок духа, пренебрежительное равнодушие ко всему в жизни.
Маркс, выздоровев и вернувшись к работе, нашел нового Джона. Такого же усердного секретаря, но совершенно индифферентного ко всему человека. Он не удивился: ожидал этой перемены и ничем не показал, что замечает ее. Ни о чем не расспрашивал Джона, только раз как-то осведомился о Чипе и Туанете. Оказалось, что Джон и сам очень мало знал о них и давно с ними не виделся.
Неожиданно, с первым веянием весны, насыщенным запахом цветущего миндаля, появилась в Лондоне миссис Вэнрайль.
В один прекрасный вечер она пришла на квартиру к Джону и, так как его не было, уселась дожидаться. Руки, поднявшиеся, чтобы развязать вуаль, заметно дрожали.
Люси сказала торопливо и немного растерянно:
– Вы стали снова такой, как были когда-то, мисс Рэн! Ну, совсем как барышня!
– Мне и кажется иной раз, будто я снова прежняя, Люси. Во всяком случае, я стараюсь… Ах, Люси, скажите мне: что, он очень переменился, очень убит?
– Переменился-то переменился, мисс Рэн, – сказала как-то неохотно Люси. – А убит ли? Право, не могу сказать. Он не дает себе потачки.
Вошел Джон, не подозревая о присутствии матери, и увидел ее: Ирэн сидела у окна, и голова ее четко вырисовывалась на фоне абрикосового заката.
– Ах, мама! Здравствуй! – вымолвил он с усилием.
– Мы… я… я была в Париже, милый. И подумала, отчего бы мне не съездить сюда повидаться с тобой.
– Очень, очень мило с твоей стороны. – Голос Джона звучал все так же холодно. – А где ты остановилась?
Она назвала отель. Совсем близко отсюда.
– Мы пообедаем где-нибудь вместе, а вечером в театр, хорошо? – предложил Джон.
– Мы бы могли обедать здесь… и побыть только вдвоем, – сказала мать с робкой улыбкой.
Джон вынужден был согласиться.
Во время обеда он трещал без умолку, почти не слушал ее ответов. Во взглядах, которые он украдкой бросать на мать, в его обращении с нею была какая-то смесь застенчивости и наглости.
– Я хотела бы, чтобы ты приехал в Париж, – сказала мать. – И отец, и я – оба очень тебя об этом просим. Он сейчас там.
То, что вырвалось сейчас у Джона, он никогда не способен был бы произнести до истории с Кэролайн.
– Будь я проклят, если поеду! – сказал он недоброжелательно.
Они были одни за кофе. Джон курил.
При последних его словах Ирэн поднялась. И старая, и новая боль проснулись в сердце Джона и подхлестывали его:
– Мне нет до него никакого дела! – продолжал он грубо. – Да и откуда взяться нежным чувствам? Ты перевернула мою жизнь, а теперь приходишь, рассчитывая, что все будет по-прежнему. Если бы не случилось того… что было летом, я бы…
Мать подошла к нему совсем близко.
– Джон, так ты меня осуждаешь? Отвечай же!
– Ах, осуждаю, не осуждаю – не все ли равно сейчас? Я только и делаю, что расхлебываю все время, а ты можешь стоять в стороне и считать, что ты тут ни при чем. Кэро, без сомнения, тоже утверждает, что она ни в чем не виновата: я не подходил ей, и она меня бросила, ради моего же блага, во имя истинной любви, которой не было между нами, и так далее, и так далее. О, знаю я все эти доводы, я на тысячу ладов переворачивал их в уме! До тебя, видно, дошли слухи об этой истории, вот ты и примчалась спасать меня! Милая мама, я не собираюсь падать духом, а, наоборот, еще более полон надежд, чем был, значит, и беспокоиться обо мне нечего!
– Да, очевидно. И жалеть тебя – тоже.
– Это уж как тебе угодно.
Он подал ей мех, перчатки, вуаль.
Но, дойдя уже до двери и открыв ее, Ирэн вдруг обернулась и крепко-крепко обвила руками сына.
– Когда-нибудь, – услышал Джон ее шепот, – когда-нибудь, когда ты сам будешь нуждаться в прощении – ты научишься прощать.
Через минуту она исчезла на лестнице.
На следующее утро Джон пришел к ней, чтобы сказать (с нарочитой небрежностью), что он, пожалуй, поедет в Париж, если ей этого хочется. «Что же, новое ощущение, любопытно!» – думал он про себя с ядовитым цинизмом.
* * *
Вэнрайль встретил их на пристани в Калэ.
Обменялся рукопожатием с Джоном и как будто сразу забыл о нем, сосредоточив все внимание на жене.
– Ваша мать, видно, очень устала, – сказал он Джону почти с сердцем. Джон, рисовавший себе несколько иначе эту первую встречу обидчика с обиженным, почувствовал, что теряет почву под ногами.
Отец был ниже ростом, чем Джон, но имел видную внешность и полные достоинства манеры. Он был так внимателен к жене, ничуть не подчеркивая этого, что в большой его любви к ней нельзя было усомниться.
Когда они с Джоном стояли одни на перроне и курили, Венрайль сказал:
– Лучше бы ваша мать не приезжала из-за океана, чтобы повидать вас. Боюсь, что это путешествие подорвало ее силы.
В Париже у них были сняты комнаты в «Бристоле». Джону отвели номер на другом этаже. Пока он принимал ванну и переодевался к обеду, его неотступно мучила мысль о нелепости ситуации.
Отец первый заговорил об этом, когда они прохаживались вдвоем по бульвару. (Миссис Вэнрайль ушла к себе тотчас после обеда.)
– Я полагаю, вы находите свое положение довольно любопытным? – сказал он со своей обычной манерой – бесстрастно и лаконично.
– Почему же? – спросил осторожно Джон.
Его отец коротко рассмеялся:
– Во всяком случае, оно ново!
И затем снова неожиданно спросил:
– А собственно, для чего вы приехали? Я догадываюсь, хотя ваша мать не говорила мне ни слова, что ее визит доставил и ей, и вам мало радости.
– Приехал я только из любопытства и от скуки, – в тон ему отвечал Джон.
– Надеюсь, первое удовлетворено, – сказал благодушно Вэнрайль.
Негодуя на Джона, он в то же время ловил себя на желании расположить его к себе. Голос крови давал все же знать себя.
– Послушайте, Джон, я ценю вашу откровенность, если не то чувство, которое вызвало ее. Мне кажется, что вы приехали сюда, чтобы уйти от самого себя. В этом вы очень нуждаетесь, как я вижу. Теперь, если вы ничего не имеете против, я бы хотел услышать что-нибудь об этой девушке, Кэролайн Кэрлью, и о том, как вам рисуется ваше будущее.
Никто до сих пор не заговаривал с Джоном о Кэро. Кровь бросилась ему в лицо.
– Обе эти темы не располагают к красноречию, – сказал он холодно. – Ни то ни другое меня в данный момент не занимает. С одним покончено, другое еще весьма туманно.
Судья Вэнрайль усмехнулся.
– Значит, два пункта долой, не так ли, Джон? – сказал он. – Извини, намерения у меня были самые лучшие. Я думаю, от вас, молодежи, не укрывается та нервность и неуверенность, с какой мы, старшие, порою подходим к вам. Твое отношение к нашему родству меня ни капельки не трогает, но я бы желал, если это возможно, сойтись с тобой на другой почве.
Во время дальнейшей прогулки он говорил о политических делах Америки, о своих друзьях в Англии, о других вещах, интересовавших одинаково обоих. Джон слушал, отвечал, был явно увлечен разговором.
Он лег в два часа ночи, утомленный, растерянный, но спал крепко, чего давно уже не случалось.
Вэнрайль, читая в душе Джона, усмехался про себя.
– Постарайся забыть о своей обиде, Джон, и давай будем друзьями, – сказал он однажды вечером.
Джон невесело засмеялся.
– А разве мы уже не друзья, сэр?
– Нет, еще не совсем.
Вэнрайль наклонился вперед. Обычно бесстрастное выражение его лица вдруг стало удивительно мягким.
– Джон, что нас, собственно, разъединяет?
– Ах, да все вместе! – разразился вдруг Джон. – Вопросы этики, моя старая обида, то, что вы и мама так спокойно принимаете все дело, – коротко говоря, тот факт, что некоторые люди расплачиваются до последнего цента, а другие – ничуть об этом не беспокоятся.
– Другими словами, твоя мать и я согрешили против морали и все же сейчас берем от жизни то, что в ней есть лучшего, – так где же справедливое наказание? Так, что ли?
– Вот именно, где же оно? – подхватил уничтожающе Джон.
– О, отчасти мы понесли уже его, отчасти – несем еще теперь. Твое поведение доставляет нам мало радости. Как видишь, искупление может принимать самые различные формы, оно даже может носить маску счастья, и благополучия, и любви. Если мое спокойствие возмущает твое «чувство справедливости», то рекомендую утешаться следующим фактом: твоя мать до сих пор не может простить мне того, что я являюсь причиной вашего разрыва.
– Какой абсурд! – пробормотал Джон вспыхнув.
– Тем не менее, это так. Никто никогда не остается безнаказанным, мой милый мальчик. И напрасно ты так сильно беспокоишься, как бы мы с Ирэн не увильнули от расплаты!
Джон поднялся и машинально стал смотреть в окно.
– Тут такая дьявольская путаница, – сказал он не оборачиваясь. – Жизнь ваша и ее в разлуке, потом вместе… моя жизнь за последние полгода…
– А все дело в том, что тебя не приучили платить свои долги. В этом твоя беда.
Джон медленно обернулся. Они скрестили взгляды.
– Я так и думал, что рано или поздно увижу это молчаливое признание, – сказал мягко Вэнрайль. – Жаль, что так поздно, потому что мы давно могли быть добрыми друзьями.
Джон вернулся в Лондон более уравновешенным, почти примиренным.
На подзеркальнике в передней лежала целая груда приглашений.
Отвратительное чувство «отрезанности» от людей исчезло. Он стал менее замкнут, менее эгоцентричен.
Старый Лондон словно помолодел. На улицах и в парках смеялась весна. Деревья были усыпаны светло-зелеными почками, трава тянулась вверх не по дням, а по часам.
Джону вспомнился первый вечер в Лондоне, почти год назад, в доме Чипа. Его потянуло к Чипу. Быстро взбежал он по лестнице. Чип вышел навстречу здороваясь.
Они обедали вместе в первый раз за много недель. Чип не был из числа тех, кто с некоторого времени составлял общество Джона. Но казалось, что снова возможна между ними прежняя близость. Джон рассказал о Вэнрайле, о матери.
– Это тип настоящего мужчины: энергичный, дельный, – сказал он, описывая Вэнрайля. – Я почти гордился им. Господи, какая у нас всех мешанина внутри, Чип, не правда ли? Я, например, не стал бы ни за что носить его имя сейчас, я бы отказался от этого, – а между тем не могу ему простить, что он предоставил мне оставаться его незаконным сыном. Он проявил черт знает какое любопытство ко всем моим делам, но очень хорошо это у него выходило. И, во всяком случае, маму он просто обожает.
– Невелика заслуга! – вставил Чип. – Если это его главное достоинство, то он уж не такой герой, каким ты его изображаешь.
Он встал, чтобы зажечь папиросу, и сказал, держа наготове спичку:
– Я собираюсь к миссис Сэвернейк. Пойдешь со мной?
– Так она уже здесь? А я и не знал. Буду очень рад опять увидеть ее.
Чип стоял к нему спиной – и все же Джона что-то как будто осенило.
– Чип…
Чип обернулся.
– Что?
Джон мысленно обругал себя дураком.
– Ничего. Я хотел спросить, давно ли миссис Сэвернейк в Лондоне?
– Три недели с лишним.
– Ты часто встречался с нею?
– Так часто, как только мог.
– Вот уж до чего дошло? – засмеялся Джон.
У Чипа лицо стало темно-кирпичного цвета.
– Да, вот до чего дошло, – повторил он серьезно.
Джон сказал себе: «О Боже!» Это было так забавно, просто ошеломительно. Мэйнс, а теперь и Чип…