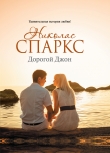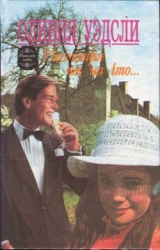
Текст книги "Несмотря ни на что"
Автор книги: Оливия Уэдсли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Она протянула руку к его руке, и при этом движении свет луны упал прямо на ее лицо, обрамленное заплетенными на ночь косами. Она казалась поразительно молодой, эта женщина, которой он, не задумываясь, со спокойной совестью, отвел место за пределами кипучих интересов жизни, ее живого трепета. Да, совсем молодой, прекрасной и нежной. А он хотел лишить ее любви, в душе отрицая ее право любить и быть любимой. Он заклеймил это словами – «нелепость», «неприличие».
Мать наклонилась еще больше вперед. Она улыбалась ему.
– Кажется, еще недавно ты был совсем малышом, – сказала она дрожащим голосом. – Не можешь ли ты снова стать на минуту тем прежним моим мальчиком и… помириться со мной, милый?
Джон пробормотал что-то невнятное, и когда она притянула к себе его голову, почувствовала вдруг на глазах у него слезы.
Глава II
Вокзал железной дороги – малоприятное место. Конечно, он может казаться прекрасным путешественнику, который мечтал о прибытии сюда, или наоборот, горит нетерпением уехать. Но когда вам предстоит сказать «прощай» человеку, которого любите, любой вокзал покажется гнуснейшим местом. Поезда, не имеющие к вам никакого отношения, пронзительно свистят всякий раз, когда вы пытаетесь сказать вслух что-нибудь значительное; а поезд, которому предстоит умчать того, кого вы провожаете, кажется, никогда не отойдет! Вы жаждете, чтобы этот момент, наконец, наступил, – и вместе с тем думаете о нем с тоской и ненавистью. Какая-то натянутость, тупое безразличие владеют вами и тем, кого вы провожаете. Все, что нужно было сказать, уже сказано – и при повторении звучит как-то нехорошо. А когда, наконец, поезд уходит – в мире вдруг сразу становится пусто.
Джон в конце концов все же остался и поехал провожать мать. Он не сказал ей истинной правды. Только туманно упомянул, что «надо еще позаботиться о целой куче вещей». Он стоял у двери вагона с беспечным видом и говорил о предстоящем празднике на озере, о том, как, должно быть, злится Тревор, которому пришлось дожидаться его в Шартрезе.
Они с Ирэн завтракали сегодня вместе, как всегда, и болтали о тысяче вещей, старательно избегая того, что интересовало обоих.
Для Джона это было настоящей пыткой. В нем все время боролись желание простить и глухое озлобление, а ничто так не разъедает душу, как подобного рода борьба.
Он то примирялся, чувствовал прежнюю нежность к матери, – то вдруг, снова ужаленный воспоминаниями, начинал бунтовать в душе. И напрасно взывал к своему чувству справедливости.
Он сознавал, что мысли и чувства, владеющие им, низки, что он играет возмутительную роль, но не мог ничего поделать с собой.
Немногие из нас настолько неэгоистичны, что способны простить от души. Большинство прощает только на словах и довольны собой, что смогли сделать хоть это.
Простить – это больше, чем понять. Это – суметь жить жизнью другого человека, вместе с его грехами, это – с искренней любовью и теплотой разделить его страдание. Простить – это значит не помнить. Прощение не уживается с воспоминанием. Одно должно вытеснить другое. И немногие из нас настолько великодушны, чтобы забыть, если это нужно ради успокоения другой души. А до тех пор, пока вы не забыли тех, кого вы, по вашим словам, простили, они будут продолжать чувствовать себя как перед судилищем.
Ничто не разделяет так людей (даже людей, связанных крепкой любовью), как прощение, которое помнит.
Какая-то напряженность, натянутость появилась в отношениях Джона и матери. Одна спрашивала себя с трагически бессильным удивлением: «Как может он быть таким?» Другой: «Как может она держать себя так, словно ничего не случилось?»
Оба украдкой поглядывали друг на друга и притворялись, что их интересует все происходящее вокруг.
Время шло. Оставалось только десять минут до отхода поезда.
Газетчица, пронзительным голосом предлагавшая прессу, остановилась у открытой двери вагона.
– Дайте, пожалуйста, «Нью-Йорк-Херальд», – сказала миссис Теннент. И Джона словно что-то ужалило в самое сердце.
Мать развернула газету.
– Твой отец, оказывается, избран в сенаторы на прошлой неделе, – заметила она очень спокойно, протягивая Джону страницу, на которой был помещен портрет мужчины. При этом она перевела глаза с фотографии на черты сына, словно сравнивая обоих. У старшего было красивое, несколько суровое лицо, прямой и пронзительный взгляд.
И тень той же неумолимой жестокости сквозила в узком загорелом лице Джона, в его светло-голубых глазах с выражением какого-то почти дерзкого хладнокровия.
«Он несравненно красивее, чем его отец был в молодости», – подумала Ирэн. Кое-что сын получил и от нее. Он был высок ростом, как все в ее роду, изящно сложен и белокур, как настоящий саксонец.
Незаметно любуясь им, мать подумала, что никакая любовь к другому, ничто в мире не вытеснит его из ее мыслей, никакое счастье не заставит забыть о том, что он несчастлив, никогда уважение других людей не вознаградит за его осуждение.
Для нее Джон оставался все тем же ее малышом, существом, которому она необходима, чьи выходки, даже когда больно ранят, не могут не забавлять немножко и вызывают у матери умиление. Она посмотрела на него сквозь набегавшие на глаза слезы. А Джон украдкой поглядывал на часы. Неловкость положения становилась ему нестерпима. Хотелось, чтобы поскорее прошли последние минуты.
– Когда же ты снова приедешь в Европу? – спросил он.
– Я думаю, сначала следует тебе приехать к нам в гости, – возразила мать.
– Да, пожалуй, так будет правильнее, – согласился Джон, но тон у него был отрывистый и неискренний. – Не знаю только, когда именно. Я не засижусь долго в Шартрезе. Чип, вероятно, уже придумал для нас какую-нибудь экскурсию в горы. А потом, полагаю, мы с ним вместе поедем прямо в Лондон. Я решил: не возьму тот дом на Понт-стрит. Сниму себе комнаты или квартиру. Ужасно мило с твоей стороны, что ты мне оставляешь Люси.
Это обсуждение деталей будущего устройства было крайне неприятно обоим, но лучше было бы говорить о чем угодно, только не о предстоящем через минуту расставании.
Раздались крики кондукторов: «Отправляемся!»
Джон вошел в купе матери и обнял ее. Страшно хотелось сказать ей на прощание что-нибудь приятное, но слова вдруг словно превратились в свинец и не могли отделиться от губ.
Мать взяла его голову обеими руками и поцеловала. Губы ее дрожали совершенно так же, как вчера, во время их разговора.
И снова, как в то утро, которое казалось таким далеким, хотя это было только вчера, когда она стояла в оранжерее, вся залитая бледным золотом солнечного света, Джон словно впервые увидел ее по-настоящему.
Маленькая изящная шляпа, темно-синий костюм, жемчужины в маленьких ушах, светлая блузка, оставлявшая открытой нежную шею. И благоухание каких-то духов, в котором смешивались запахи различных цветов. На одну секунду Джон забыл, что эта женщина – его мать, и заметил то, чего как будто никогда не замечал – исходившее от нее очарование, характерное для нее застенчивое достоинство, ее красоту. Пока она была привычной и неотделимой частью родного дома, это никогда не бросалось Джону в глаза так, как сейчас, когда она уходила от него.
Поезд двинулся.
Он торопливо поцеловал ее руку.
– Счастливого пути!
Спрыгнул на платформу и бежал рядом с вагоном. Донеслись слова матери:
– Храни тебя Бог, родной!
Поезд скрылся за поворотом. Последний раз мелькнула рука в белой перчатке… Уехала.
Из темноватого туннеля Джон вышел на яркий свет летнего утра. Он чувствовал себя одиноким, брошенным. Совсем забыл, что если бы не переменил своего первоначального намерения, то в эту минуту уехал бы он, а мать осталась бы здесь одна. Предстоящий впереди день пугал его бесконечностью.
Он медленно поехал по направлению к вилле, утешаясь тем, что завтра уедет отсюда и он.
Полотняный тент над террасой, оранжевый с белым, был низко спущен; на плетеном столике лежала небольшая пачка писем.
Джон распечатал их одно за другим без всякого интереса. Никаких особенных новостей не ожидал найти в них; кроме того, он все еще был под тяжелым впечатлением расставания на вокзале.
Но при виде одного из конвертов, надписанного изящным и четким почерком, он бросил другое письмо, которое начал было читать, и торопливо вскрыл его.
Один из его бывших преподавателей в колледже занимал сейчас видный политический пост. Джон считался в колледже одним из лучших учеников и особенно увлекался историей. В нем дремали задатки политического деятеля, и, бессознательно повинуясь этой бившейся в нем «жилке», он усердно предавался изучению истории, видя в ней широкое поле для игры, называемой политикой.
Лей Коррэт, учитель Джона, восторгался его успехами, всячески его выдвигал, поощрял в нем честолюбивые стремления. Теперь он писал Джону, что имеет возможность предоставить ему кое-какую работу. «Правда, – добавлял он, – это пока еще самая черная работа, работа дворника, но если вы будете мести и чистить усердно, то перед вами откроется дорога к более широкой деятельности на пользу стране».
Что же это за работа? Всего вероятнее, какая-нибудь незначительная должность секретаря. Или, может быть, составление речей для какой-нибудь «важной особы»?
Джон закурил папиросу и принялся перечитывать письмо. Он взволнованно поднялся было с места, но тотчас, вспомнив что-то, снова опустился на стул с хмурым лицом. Не к кому побежать с этой новостью, некому порадоваться вместе с ним тому, что его считают многообещающим молодым человеком, что ему пишут такие письма!
Он сунул письмо в карман и поплелся в свою комнату.
Там Люси укладывала чемоданы.
– Ну, что, уехала благополучно? – осведомилась она, стараясь кашлем замаскировать всхлипывание.
– Да, конечно… Эх. Люси, что за проклятая и странная штука наша жизнь!
– Это мы сами делаем ее такой, мистер Джон, когда не хотим, чтобы другие люди путались в наши дела… Господи, сколько у вас носков! На одной коробке проставлена цена… Право, просто грех тратить столько денег, мистер Джон!
Джон захохотал весело, по-мальчишески, но смех тотчас замер у него на губах, и он в упор посмотрел на старую Люси.
– Скажите, Люси, вы когда-нибудь видели… мистера Вэнрайля?
– Видела, мистер Джон.
– Расскажите, каков он?
– Точь-в-точь вы, только покрепче сшит, да не такой красавец и не такой проворный, как вы.
– Спасибо на добром слове! Но я не о том вас спрашиваю, Люси. Я хотел знать… Что, он – человек порядочный?
– Если вы этим хотите спросить, был ли он добр к вашей маме, мистер Джон, то скажу вам – других таких мужей, как он, на свете нет. Это – просто святой. Он, кажется, рад был целовать землю, по которой она ходила. Приезжал сюда только раз, когда вы родились, я ему и дверь открывала. Он был похож на слепого, и лицо у него было серое, как пепел. «Как она себя чувствует?» – сказал он. А я говорю: «Слава Богу, отлично, сэр». И не успела я это вымолвить, как он уже взлетел по лестнице, как стрела, и бросился в ее комнату. Я шла за ним вслед, и дверь была открыта. Вижу – он стоит на коленях у постели и оба они с мисс Рэн плачут и смеются; а тут вы проснулись, да как заревете благим матом, – я и подбежала, чтобы вынуть вас из колыбели, мистер Джон, но мистер Вэнрайль подоспел раньше меня и взял вас на руки. «Наш сынок», – сказал он и поглядел на вашу мать. А потом отдал вас мне и снова встал на колени возле нее и говорит, да так, словно сердце у него разрывается на части: «Вот что ты дала мне, а я… Боже мой, Ирэн, что я дал тебе?» (Не стану скрывать, мистер Джон, – я стояла за дверью и подслушивала, потому что была в такой тревоге за них обоих!) А мама ваша и отвечает: «Ты любил меня и я любила тебя, Ричард, – и даже теперь я благодарю Бога за это».
Сколько было между ними споров и сцен раньше, чем мистер Вэнрайль уехал, не приведи Бог! Целые ночи напролет он умолял и уговаривал ее, но она стояла на своем. Много толковали они насчет того, хорошо это или дурно, – и мисс Рэн одержала верх. И отослала его прочь. Он так и сказал, я слышала, на лестнице, возле цветов: «Ты гонишь меня прочь – и я уйду, потому что покоряюсь каждому твоему желанию, но мир для меня будет теперь пуст». Он уехал в таком маленьком кэбе, в каких ездили тогда, потому что в те времена не было еще таксомоторов. Летом это было и, как сейчас помню, занавески у кэба были белые с желтым, а из-за них выглядывало лицо вашего отца, серое, как земля. Кэб покатил прочь, а мисс Рэн следила за ним сначала снизу, потом из самого верхнего окна, чтобы подольше видеть его. Долго она стояла там, а потом пришла в детскую, взяла вас на руки и принялась целовать. С самого того дня и до нынешнего она только вами и дышала. Один только денек в году они оба виделись, да и то, когда уж бывало станет известно, что вы не приедете домой, и что, стало быть, она вам будет не нужна. И готовилась же она, бывало, к этому дню, словно невеста! Непременно новое платье приготовит, новую шляпу… И так хлопочет, чтобы все было красиво и к лицу. Это она-то, которая никогда не была щеголихой и не возилась с тряпками! И всегда в этот день она надевала маленькую брошку с жемчугом и бирюзой – первый его подарок.
Рассказывая. Люси продолжала методически укладывать книги и бумаги. Некоторое время она работала молча. Джон задумался, рисуя себе картины этого прошлого, о котором она говорила. Он даже вздрогнул от неожиданности, когда Люси вдруг снова заговорила.
– Росту он был в те времена не очень высокого, мистер Вэнрайль то есть. Во всяком случае пониже вас и худощавый такой. И такой тихий, спокойный. Он тогда в адвокаты готовился. А нынче, говорят, так богат, что уж богаче нельзя, и видный человек и все такое… Там в Америке они сделали его судьей… Что же слава тебе, Господи, теперь у меня за нее душа спокойна, мистер Джон! Она будет жить, как подобает. А если бы она оставалась здесь, да вы женились – все было бы совсем иначе. Сколько раз мы, бывало, с нею обсуждали, как будем жить тогда и куда денемся. Барыня все строила планы, что снимет маленький коттедж неподалеку от Лондона, чтобы можно было ездить по железной дороге в театры и разные места, – и все же иметь сад и какой-нибудь доход от него. Потому что все состояние сбережено для вас, это вы, верно, давно знаете.
– Нет, я узнал только вчера, – сказал Джон тихо.
Он подошел к окну и, перешагнув через низкий подоконник, остановился на галерее, опершись на железные перила и заглядевшись в парк.
Люси проницательно посмотрела на него и, поднявшись, наконец, с полу, где производила укладку, заметила:
– Все хорошо, что хорошо кончается, – если даже на душе не очень легко. Ну, а теперь я пойду приберу все у вас в комнате.
– Погодите минутку, – сказал Джон. – Нельзя ли это сделать потом, попозже, а?
Он прошел по галерее к спальне матери и, войдя, притворил окно за собой. В комнате еще оставался слабый и тонкий запах духов, какими всегда душилась Ирэн. Большая в оборках подушка хранила след ее головы. Красивый беспорядок, царивший здесь, казалось, говорил о том, что хозяйка не вернется. От этой опустевшей комнаты, где чувствовалось, что здесь жила женщина с яркой индивидуальностью, с изящными вкусами, сказывающимися в каждой мелочи, – повеяло холодом в душу Джона. Снова вспомнился опустевший перрон, пронзительный свист и быстро исчезавший из виду поезд.
Вчера еще он считал, что жизнь его испорчена. Но потом признал, что в этом был неправ. Оставалась внутренняя перемена, от которой он сильно страдал. С этим он уже ничего не мог поделать. И не хотел. То новое, что вошло в его душу, было прощение и вместе с тем – глухая обида.
Глава III
Рассуждать там, где нужно чувствовать – свойственно душам слабым и ничтожным.
Бальзак.
Милосердное провидение решило, что в человеческом обществе должно существовать достаточное количество субъектов вроде Чипа Тревора, которые вносят что-то смягчающее в жесткую неумолимость жизни и, высоко неся знамя рыцарства, своими поступками, сами того не ведая, учат тех, кто в этом нуждается, познавать эту редкую добродетель. Но если вы вздумаете утверждать что-либо в беседе с одним из этих избранников, не ведающих, что они избранники, то он, по всей вероятности, с ужасом уставится на вас и начнет яростно возражать против такого утверждения.
В этих бессознательных рыцарях живет смутное убеждение, что «следует быть хорошим», должное почтение ко всем женщинам и известное мерило, с которым они подходят к мужчинам всех сортов, которое дает им право карать и направлять на путь истинный тех, кто не способен подняться на требуемую мерилом высоту. Представителей этого типа обыкновенно квалифицируют, как «заурядных людей».
Надо заметить, что «заурядность» бывает двоякого типа. Одна выражается в соблюдении условностей и приличий во всех областях, другая – есть сочетание изумительных и вместе с тем самых будничных и обыкновенных качеств с необъяснимой и потому еще более очаровывающей простотой. Человек явно не глуп и как будто должен видеть известные вещи не хуже других, а между тем это никогда не мешает ему отдавать лучшее в себе и никогда не меняет его отношения к другу, который чем-нибудь согрешил.
Заурядный человек первого типа всегда готов шуметь повсюду о том, как он огорчен за вас, если с вами что-нибудь случилось. Человек же второго типа не навязывает вам своей снисходительной жалости, не требует, чтобы вы исповедывались перед ним.
В девяноста девяти случаях из ста им из всех гимнов известен только один единственный «Голос, что звучит в Эдеме», и то только потому, что им частенько приходится быть шаферами и они испытывали не раз чувство огромного облегчения, когда венчание подходит к концу и с хоров раздаются звуки этого гимна. Они способны любить с молитвенным преклонением, и у них есть инстинктивное уменье разговаривать с ребенком или собакой.
В их глазах женщины, даже самые грубые, примитивные, всегда окружены каким-то мистическим ореолом. Эти мужчины видят их такими, какими им бы следовало быть.
Служба солдата, тяжкие незаметные труды в самых глухих углах страны – удел именно таких «заурядных» людей. Это из их среды выходят пионеры, прославляющие свою родину; а попробуйте им сказать это – и они только удивятся и рассердятся. Получив какой-нибудь знак отличия, они всегда начинают вам доказывать, что другие заслуживают его больше, чем они.
Они упрямы и жестоко прямолинейны в борьбе с гнусностями – и обладают самым нежным сердцем на свете.
Джон и Чип подружились еще во время пребывания в Итонской школе. Повсюду бывали вместе, вместе проводили каникулы. Вряд ли надо говорить, что Чип восхищался талантами Джона и при этом искренне верил, что умело скрывает свои чувства к приятелю, тогда как эти чувства были совершенно очевидны не только для Джона, но и для всех посторонних.
Чип ожидал приезда Джона на вокзале в Клюз. После оглушительного звона колокола в течение целых пяти минут появился начальник станции и сообщил ему, что поезд опаздывает. Чип тихо выругался на родном языке, потом сказал в ответ «Bon» [1]1
Хорошо, ладно (франц.).
[Закрыть]– единственное иностранное слово, которое знал, и, усевшись на скамейку, вступил в беседу с хромой собачонкой, приковылявшей за ним от самой деревни.
Собачонка была не большим лингвистом, чем Чип, и понимала только свою родную французскую речь, но они вдвоем с Чипом изобрели некий собачий «эсперанто», на котором объяснялись друг с другом вполне удовлетворительно.
Пес Раймонд, которого Чип переименовал в «юного Соломона», неделикатно намекая на форму его носа, позволил осмотреть свою больную лапу. Оказалось, что на ней потрескалась кожа, и Чип не преминул сообщить об этом своему собеседнику, прибавив несколько слов о том, как опасно бегать слишком быстро по сухим и раскаленным дорогам.
Он купил абрикосы и шоколад у старой торговки и предложил и то и другое Раймонду. Раймонд выбрал шоколад и дружелюбно положил лапу на колени к Чипу, с рассеянным видом жевавшему свою долю.
Чип назвал его «славным малым» и отдал ему остатки угощения.
Чип и внешность имел самую заурядную. Волосы – обыкновенные темно-русые, глаза – обыкновенные серые и заразительная улыбка.
У него было, как он сам говорил, «до трогательности много денег», и не было родных, за исключением молоденькой сестры, воспитывавшейся в монастыре.
Неукротимый колокол снова поднял трезвон, и начальник станции оповестил Чипа, что поезд подходит.
Чип сказал «Bon» и вышел на перрон, чтобы присутствовать при его прибытии.
Вышли только четверо пассажиров: Джон и три торговки.
– Что это у тебя за компаньон? – спросил Джон, глядя на Раймонда.
Чип не отрывал глаз от Джона и ответил не сразу. Через минуту сказал со своей обычной беспечностью:
– О, это приятель, с которым мы сейчас вместе угощались шоколадом. Он отрекомендовался мне, как член общества трезвости.
Экипаж из гостиницы дожидался их снаружи. Джон бросил свой багаж на заднее сиденье, затем они с Чипом забрались внутрь и уселись позади кучера.
Шартрез в Верхней Савойе был некогда монастырским владением. Теперь приезжающие в отель путешественники ночуют там, где жили некогда «монсеньоры», в маленьких квадратных домиках под конусообразной крышей. Каждый домик стоит посреди огороженного стеной сада, полного аромата цветов и плодов.
Дорога в гору как раз настолько широка, чтобы по ней могла проехать повозка, и совсем не огорожена, ничто не помешало бы вам, если бы вы захотели перекувырнуть свой экипаж через край пропасти и направить путь в бесконечность через необозримые леса, бегущие все вниз и вниз и скрывающие неприступные скалы и быстрые ледяные потоки.
Кучер-баск, мужчина могучего сложения и, видимо, большой физической силы, брал опасные повороты с невероятной смелостью. Это был один из тех возниц, чья рука, словно по волшебству, превращает простую повозку в олимпийскую колесницу, а сидящих в ней пассажиров – либо в обалдевших от страха идиотов, либо в напряженно улыбающихся, как игрок перед решительной ставкой, любителей сильных ощущений; кроме того, дает хлеб насущный жандармам всех наций и крупный бакшиш государству в случае катастрофы.
Для Джона и Чипа это путешествие в повозке в горы было огромным наслаждением. Дорога была местами прямо великолепна. Направо вздымались горы, налево зияла пропасть. На одном очень крутом повороте они налетели на стадо коз, и пастух, замешкавшийся среди своих животных, забравшись, наконец, на скалу у дороги, с этого безопасного пункта осыпал градом проклятий бесстрашного возницу.
Показалась маленькая деревушка. Они промчались мимо лесопилки, распространявшей сильный запах свежераспиленного дерева, мелькнула пенящаяся вода, потом, подальше, безобразная маленькая церковь с квадратным белым домом священника позади, – и, наконец, глазам наших путешественников открылся монастырский отель. Внизу, среди длинных монастырских переходов помешалась контора, а в старинной трапезной – столовая для гостей.
Джону отвели просторную келью с каменными стенами. Потолок был из резного ореха. Маленькое узкое ложе затерялось в углу просторного помещения.
Вошел Чип, насвистывая.
– Ну что, не похоже на твою уютную спаленку дома? Не напоминает это тебе «Бристоль» или «Карльтон»? А там, где поместили меня, в стене устроена решетка, так что получается впечатление маленького ящика с решетчатой крышкой. Старикашка, что там жил, получал еду сквозь эту решетку… Если хочешь покарабкаться по горам, после чая отправимся в одно великолепное местечко неподалеку, которое называется «Ром». Зеленое, как изумруд, плато, и когда стоишь там, то кажется, что видишь весь мир, как на ладони. Охотник ты до таких экскурсий?
Он потащил Джона пить чай и познакомил его с миловидной француженкой, женой известного парижского адвоката, приезжавшей со своими детьми в Шартрез каждое лето на два-три месяца. При появлении Чипа оба малыша отошли от своей бонны и стали застенчиво, бочком подвигаться к нему.
Джон почти со злостью наблюдал безмятежное довольство Чипа. Оно как будто увеличивало тяжесть, лежавшую у него на душе. Молодые люди напились чаю в компании Леона и Луи и их хорошенькой томной мамаши, все время очаровательно улыбавшейся Джону. Было уже около шести часов, когда Джону и Чипу удалось, наконец, выступить в путь к изумрудному плато, откуда можно увидеть «весь мир».
Они молча взбирались в гору. Серебряное эхо колокольчиков пасшихся где-то коров донеслось до них откуда-то издалека. Один мелодичный трезвон, потом, после паузы, другой.
– Моя мать выходит замуж, – промолвил вдруг Джон отрывисто.
Чип продолжал карабкаться вверх. Сказал через плечо:
– Господи, какой счастливец тот, кого она полюбила! Кто он?
Чип был знаком с миссис Теннент вот уже пять лет. Он всегда проводил каникулы вместе с Джоном.
– Он – американец, – объяснил Джон сдержанно. – Судья в Нью-Йорке. Его фамилия – Вэнрайль.
– Да что ты?! – отозвался Чип. – Настоящий американец? И, наверное, патриот, а? Вашингтон, всякие новые реформы и так далее?.. Впрочем, ты все это знаешь лучше меня.
– Ничего я о нем не знаю, – отвечал все так же угрюмо Джон.
Они достигли между тем плато. Ром лежал по другую сторону глубокой долины. Необозримое зеленое пространство, простиравшееся далеко за горы, испещрено было, словно точками, деревушками, тенистыми долинами, где в лучах заката ярко пылали нивы; немногие тропинки, бежавшие по склонам гор, походили на полосы матового серебра.
– Почему ты с таким ожесточением относишься к тому, что твоя мать снова выходит замуж? – спросил неожиданно Чип, внимательно взглянув на товарища.
Одну минуту Джону страшно хотелось все рассказать Чипу. Но есть вещи, о которых мужчина ни за что не станет говорить, если дело касается женщины, все еще дорогой ему.
К счастью, у порядочных людей существует какой-то кодекс чести, иначе Бог знает, до чего дошла бы устрашающая несдержанность в разговоре двух людей, чья любовь превратилась во вражду. Перефразируя известную пословицу, можно было бы сказать: «Жизнь коротка, а память об изжитой любви – еще короче».
Постороннему наблюдателю иной раз кажется невероятным, что два человека, добивающиеся, чтобы закон освободил их от уз брака, и не останавливающиеся в этой борьбе перед самыми язвительными оскорблениями, некогда любили друг друга, льнули друг к другу в темноте, смеялись вместе при свете дня, жили душа в душу. Вы с болезненным ужасом и омерзением слушаете разоблачения, отрицания, отвратительные обвинения, которые каждый из этих двух рад возвести на другого. И их произносят те самые уста, которые некогда нежно целовали, которые находили наш земной язык слишком бедным для влюбленных!
Джон не отвечал ничего на вопрос друга. Чип постучал по траве каблуком тяжелого ботинка. Он лежал на спине и смотрел на сизые облака.
– Когда же ты увидишь судью Вэнрайля? – спросил он, помолчав.
Джон пожал плечами.
– Понятия не имею. Мои планы все еще так туманны. Скорее всего возвращусь вместе с тобой в Лондон. Вчера я получил от Коррэта вот это письмо.
Он порылся в кармане и перебросил письмо Чипу.
– Это я называю удачей! – воскликнул, прочитав его, Чип со своей привлекательной улыбкой. – Да, это удача несомненно! Старый Коррэт оказался толковее, чем я думал. Вот так приятный сюрприз, а? И как это у него тонко вышло насчет «метлы»… Когда открывается снова сессия парламента? Недельки через три, как будто, не так ли? Мы успеем еще пошататься немного по Италии, из Бриндизи махнуть обратно морем – и ты поспеешь в Лондон как раз к тому времени, когда надо будет взять в руки метлу… Да, да, итак, ты приступаешь к деятельности, Джон! Чувствую, что следует и мне взяться за что-нибудь. Единственное, чем я охотно бы занялся, это – хозяйством на свободной земле. Но старик Дэвис так давно уже служит у нас управляющим, что для него было бы трагедией, если бы я его уволил. И, кроме того, он так прекрасно знает свое дело! Одна надежда на тебя, Джон. Покажи свои таланты, становись поскорее видным человеком, а тогда тебе, конечно, пригодится такой секретарь, как я. – который звезд с неба не хватает, но работать будет добросовестно и охотно. И жалованья не потребует.
– У меня будут очень приличные средства для начала, – сказал Джон. – Мать очень благородно поступила со мной в этом отношении.
– Да, Вэнрайлю можно позавидовать, – снова заметил Чип как бы вскользь. – Знаешь, когда я смотрел на твою мать, всегда думал о том, что любовь, должно быть, восхитительнейшая штука в мире, если это любовь к такой женщине, как она. Я думаю, в ней есть то, что называют «женскими чарами», но она всегда держала себя просто и серьезно, а это предполагает в женщине желание нравиться или, по крайней мере, сознание своих чар. А ничего такого я не замечал в твоей матери. Казалось, что она совсем забыла о своей красоте, о том, что и она – человек, и интересовало ее только то, что касалось тебя. Она, должно быть, принадлежит к тому сорту женщин, которыми увлекаются все мужчины, но которые никогда не дают повода говорить о себе. Таких немного. Этот Вэнрайль, я думаю, первого сорта малый, раз он сумел внушить ей любовь.
Чип ни разу не посмотрел на Джона, пока говорил. Он упорно размышлял о том, почему Джон совершенно незнаком с человеком, которого любит его мать. Но это – дело Джона, и он не собирался спрашивать об этом. Своей болтовней он хотел только помочь Джону, а может быть, и вызвать его на откровенность. У него вдруг мелькнула догадка, что Джон ревнует мать к тому, другому, которого она любит. Чип с его лояльной натурой не мог допустить такой мысли, она показалась ему нелепой. Однако, если отвергнуть и это предположение, что же остается? Отчего Джон так явно расстроен, просто на себя не похож?
Переодеваясь к обеду, Чип в сотый раз задал себе этот вопрос и пожалел в душе, что перемена в Джоне совпала как раз с их каникулами. Это помешает наслаждаться от души.
По дороге вниз он заглянул к Джону. Тот как раз собирался выйти из комнаты.
Он держал в руке несколько писем. Одно из них протянул Чипу.
– Это тебе, – сказал коротко. – Оно было вложено в письмо, которое мать написала мне из Шербурга. Она пишет, чтобы я передал его тебе, если захочу. Отдаю, как видишь. Но не стоит читать сейчас, прочти лучше вечером в твоей комнате, а завтра потолкуем.
– Ладно, – отвечал Чип, пряча письмо в карман.
Обед был подан в трапезной. На каменном возвышении, где когда-то во время трапез один из монахов читал вслух жития святых с целью создать высокое настроение при выполнении такого низменного акта, как еда, теперь два скрипача и виолончелист исполняли вещи Дебюсси и Финка. Мадам Ройян, бледная и восхитительная, в платье, составленном из полос черного тюля, плотно обернутых вокруг ее фигуры вплоть до стройной белой шейки, беседовала с Джоном, перегибаясь через свой стол, находившийся по соседству со столом, за которым обедали Джон и Чип.