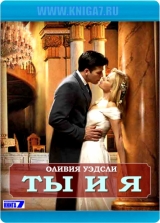
Текст книги "Ты и я"
Автор книги: Оливия Уэдсли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава XVII
"Я могу освободиться, я заставлю Алтею дать мне свободу", – твердил про себя Темпест, возвращаясь домой под слепящим глаза снегом, и в душе у него разыгрывалась буря.
В один миг разлетелись принятые решения, и он, как соломинка, отдался силе ветра.
Куда прибьет его ураган?
В душе сейчас заговорило все, что в ней было лучшего, самого нежного, самого бескорыстного; все неисчерпанные запасы любви он хотел излить на Тото, служить ей опорой и защитой.
Она ответила на его чувство, о чем он и не мечтал никогда. Она так щедро давала – на это способна лишь молодость, которой только и хочется давать, давать как можно больше.
Тото в любви своей нетронутая, едва проснувшаяся. Ее поцелуи, как весенние цветы, такие же нежные, такие же пьянящие. Он еще слышит ее шепот: "Целуй, целуй еще…"
Он шел по снегу, ничего не замечая вокруг, полный воспоминаниями о Тото.
И такая чудная крошка вошла в его искалеченную жизнь! Он до боли остро почувствовал собственное ничтожество.
Он освободится. Теперь это вопрос формальностей, соглашений, уступок.
Лучше, пожалуй, немедленно выехать в Англию. Или предоставить своему адвокату carte blanche? Или написать отцу?
В случае надобности можно выхлопотать у папы согласие на расторжение брака. Не может же Алтея быть столь нечеловечной? Теперь она старше и, верно, терпимее. Война разрушила тысячи религиозных предрассудков, которыми дурачили моралистов.
Ехать ему сейчас в Англию? Не будет ли это самым быстрым способом?
Он вдруг сообразил, что забрел совсем в другую сторону; до его квартиры отсюда несколько миль. Он оглянулся – не видно ли такси или остановки трамвая. Попал наконец в трамвай; но было уже поздно, когда он добрался до дому и, приняв ванну, переодевшись, взялся за телефонную книжку, чтобы отыскать номер телефона Скуик. В книжке было несколько сот Майеров, видимо пользовавшихся телефоном, но никто из них не жил в том квартале огромных домов с мелкими квартирками.
Он принялся писать своему адвокату и письмо за письмом уничтожал, так как они казались ему недостаточно настойчивыми.
С последней ночной почтой пришли два письма, которые он не вскрыл: красивый, но расплывчатый почерк на бледно-серых конвертах был ему хорошо знаком; с минуту он молча разглядывал его, потом бросил оба письма в огонь. С этой стороной жизни он покончил раз навсегда.
Тут он внезапно вспомнил Марту Клэр; он проводил с ней тот вечер, когда впервые встретил Тото – "взрослую", как она выразилась тогда.
И вспомнился ему стремительный вывод Марты: "Вы увлечены, мой друг! Вечная юность околдовала вас!" и зашевелившееся у него при этом неприязненное чувство к Марте – не потому, что в ее словах был вызов, а потому, что она вообще осмелилась говорить о Тото.
Так хотелось тогда, чтобы молодость, ликующая и беззаботная, поделилась с ним своей радостью жизни. При виде Карди он разом перенесся в Канахан; воображению представилась ночь после грозы и серебром подернутое небо, по которому мчатся обрывки пролившихся туч, и почему-то казалось, что Тото овеяна тем же мягким, прохладным ирландским ветерком, который играет в ветвях шепчущихся тополей и душистых лип.
С этого вечера начиная, он почти совсем забыл о существовании Марты; и даже не давал себе труда доискаться причины.
Какой чужой стала вдруг Тото тогда… под вечер… в маленьком сосновом леску, когда он в небрежном тоне заговорил об отъезде Карди! И как страшно хотелось ему вернуть ее прежнее доверчивое отношение!
Он мог бы и тогда догадаться!
Но он думал о многом другом. Помнится, он находил ее прелестной и прощался с ней очень неохотно.
Странно… продолжаешь жить по инерции, и вдруг словно молния осветит все…
Он понял уже многое в то утро, когда они с Тото купались вместе, а потом Тото варила кофе в маленькой душной гостиной, где, несмотря на прикрытые ставни и ранний час, все раскалилось от зноя. Было так уютно! И на время его охватило такое непривычно мирное настроение!
Да, все-таки лучше тотчас отправиться в Ирландию, покончить, решить все. Безумное волнение охватывало его при мысли, что он вернется к Тото свободным!
Они поскитаются месяца три; он два года не брал отпуска – ему дадут три месяца. Из Вены можно проехать в Будапешт, – летом там чудесно, – потом спуститься к Эгейскому морю и поплавать вместе… вместе!
Он поднялся и заходил по комнате, закуривая одну папиросу за другой. Он распахнул окно, и снег ворвался в комнату.
Как глупо, что он не освободился уже несколько лет тому назад, не заставил Алтею дать ему свободу! Он мог бы сразу жениться на Тото и увезти ее куда-нибудь на солнце; их совместная жизнь началась бы гораздо раньше.
Он вспомнил, как она прижимала его руку к своему сердцу, – как шептала, касаясь губами его губ: "Крепче! Крепче!"
Глава XVIII
– Это ускорит дело! – говорил Ник.
– Сколько времени ты проездишь?
– Недели две, может быть, месяц!
Тото сидела на маленькой скамеечке у ног Ника. Тут она встала на колени и заглянула ему в лицо.
– А если… если ты не поедешь и предоставишь все адвокатам – на сколько времени может это затянуться… пока ты не будешь свободен?
– Не знаю, радость моя…
Тото чуть улыбнулась.
– Все мое настоящее сейчас в моих объятиях – вот только кусочек спины не могу захватить, а если ты уедешь – настоящего у меня совсем не будет, и будущее – самое неопределенное.
– Я хочу быть свободным, хочу иметь право добиваться твоей руки, хочу жениться на тебе, чтобы ты была со мной всегда – в настоящем и в будущем, – торопливо убеждал Ник.
– Сейчас для нас такое чудесное, дорогое-дорогое время, – мечтательно продолжала Тото, – я просыпаюсь и знаю: в четыре часа или в три, если это скучное английское правительство сможет обойтись без него, он будет здесь… И мы начнем с того, что будем целоваться, потом будем говорить, говорить, потом будем пить чай со Скуик, а чай он пьет с двумя кусками и с ломтиком лимона – иноземный фрукт, очень-очень дорогой в разоренной войной Австрии, – но он на это и внимания не обращает, – ужасно беспечный человек, когда дело касается лимона! Потом чай кончен, стемнело, и Скуик засыпает, и мы шепчемся, и он закуривает папироску, а я обозреваю, все ли мои владения в целости! Вот, например, ямочка на затылке, где такие густые волосы? Благополучна ли она? Надо спросить, не носил ли он чересчур тесные воротнички? Они всегда сидят на нем так прекрасно, что я начинаю тревожиться, понимаете? О, Ник, я кажусь тебе совсем дурочкой, да?
– Вот это замечание первое вызывает у меня сомнение в твоей мудрости; ну, продолжай, рассказывай, что бывает дальше?
– Несколько похоже на наставления, которые даются на нотах шопеновских ноктюрнов: con passione, molto sehtimentale! Почему гораздо легче говорить откровенно, ничего не тая, в сумерки, чем утром или днем? Отчего в темноте два человека чувствуют себя такими близкими-близкими? Кажется, в полдень я бы не решилась сказать тебе, как говорю сейчас: "Я люблю тебя, я люблю тебя, каждый мой кусочек любит тебя, хочет тебя… И мои мысли идут к тебе, все желания связаны с тобой. Я обожаю тебя… я чувствую каждое твое прикосновение…"
Скуик молча признала сложившееся положение. Она была очень слаба и хотела лишь одного: чтобы Тото была счастлива, а Тото так и излучала счастье.
Появление Темпеста освободило старуху от многих тревог, главное – от подавляющего чувства ответственности, которое не покидало ее с того момента, когда Тото, доверчивая и радостная, свалилась ей как снег на голову.
И Темпест так помолодел, так искренне был увлечен, такой был красивый!
Тото скоро обнаружила, что Скуик тайно восхищается наружностью Ника, пришла от этого в восторг и стала затем усиленно распространяться на эту тему, теша себя так же, как и Скуик.
– Знаешь, Скуик, – серьезно говорила она, – волосы у него растут удивительно: не спускаются чересчур низко на шею и не отходят чересчур далеко от висков, и пробор – узюсенький, такие они густые! Он не мажет их брильянтином, а чем-то смачивает, и пахнет от них чудесно – немножко кедровым деревом и немножко повиликой! А его ресницы! Совсем непохожи на девические – густые и короткие! И знаешь, когда его целуешь – он всегда такой прохладный… вначале!
Скуик обычно лежала с закрытыми глазами, когда Тото присаживалась к ней на кровать и принималась обсуждать то, что она называла "голыми фактами".
– Бэби, похожий на Ника!.. О, Скуик, ведь ты бы обожала его? Я ни за что бы не стала распускаться раньше времени, как бы плохо себя ни чувствовала. Я заказала бы себе платья с напуском спереди, широкие, но красивые. Помнишь, когда мы были в Лондоне, как злилась тетя Бриджет, когда узнала, что у нее будет бэби? А я так прямо и сказала Нику, что ужасно обожала бы своего.
– Ты сказала это мистеру Темпесту? – простонала Скуик.
– Да… Отчего же было не сказать? Ведь это будет и его бэби.
– А он что сказал? – спросила Скуик (любопытство оказалось сильнее стыдливости).
– Он сказал, что у меня, конечно, должен быть бэби и с такими же зелеными глазами, как у меня. И пусть у него подбородок дрожит, как у меня, когда я смеюсь.
– Der liebe Himmel! – воскликнула Скуик, откидываясь назад на подушки.
– Ты будешь его бабушкой, и мы будем поручать его тебе, когда захотим удрать – мы, наверное, захотим удирать! Ты будешь его единственной бабушкой! Вот-то Верона разозлится! Но дэдди тоже будет любить его, я знаю. Странно, Скуик, что мы так давно не получаем писем!
– Твои родители путешествуют, – заметила Скуик, что не потребовало от нее особых умственных усилий, так как чета Гревиллей уже полгода как путешествовала более или менее непрерывно.
– Конечно, но в путешествиях ведь не атрофируется способность держать перо в руке, – возразила Тото.
Но долго огорчаться она не могла: через час придет Ник.
Он пришел, и вид у него был усталый и расстроенный.
– Мне надо ехать в Рим, бэби, этой же ночью. Я вернусь, как только смогу. Пришлю, конечно, телеграмму. Ты меня встретишь. Сегодня мы пообедаем где-нибудь вместе, потом потанцуем.
Они поехали к Фишеру, обедали там, и все глазели на Тото, которая на время забыла, что Ник сегодня уезжает, жила настоящей минутой и радовалась всей душой.
Ник хотел отвезти ее домой, но она упросила, чтобы он позволил ей проводить его на вокзал: "Будто мы уже в самом деле женаты; то же такси отвезет меня потом домой; зато я не потеряю ни одной минуточки, которую могла бы провести с тобой. Да?"
В автомобиле они прижимались друг к другу и целовались, как это до них проделывали миллионы людей в этих укромных тряских убежищах. Нечто в этом роде подумал Темпест, когда Тото, смеясь, прошептала у самых его губ: "Меня никогда еще не целовали в такси!"
Темпест с горькой усмешкой и с нежностью по адресу Тото подумал, что из всех женщин, которых он целовал, она одна могла этим похвалиться!
И она вдруг показалась ему такой маленькой, такой беспомощной, нуждающейся в любви и защите.
Он крепко прижал ее к себе, торопливо заверяя:
– Я вернусь при первой возможности.
Он сговорился с шофером, который должен был отвезти Тото домой, и они рука об руку вошли в помещение огромного вокзала. Локомотив экспресса шумно пыхтел, на платформе толпился народ, прошла с пением и музыкой кучка молодых людей – студентов-чехословаков, в каракулевых шапках, сдвинутых на затылок, с розетками из лент в петлицах пальто.
Тото вдруг задрожала, почувствовав себя чужой, затерянной, и отчаянно вцепилась в руку Ника:
– Я не в силах расстаться с тобой, дорогой.
И раньше уже – раза два – сердце его сжималось тревогой за нее, когда он видел, как глубоко и остро она все переживает; пустяки поднимали целую бурю – то он не успел заехать за ней, как обещал, то Скуик стало хуже, – помнится, это омрачило даже радость свидания в тот день.
Ник крепко обнял ее.
– Крошка моя любимая! Будь мужественна. А то мне очень тяжело уезжать. Позволь мне усадить тебя в такси. Не могу примириться с тем, что ты останешься тут, на платформе, одна.
Но Тото не хотела уходить.
– Хочется побыть с тобой до последней минуты. Любименький, ты, наверное, захватил все, что нужно? Бутылку с горячей водой?
– Никогда в жизни не брал с собой, бэби!
Он засмеялся, стараясь рассмешить Тото, но широко раскрытые зеленые глаза темнели и не улыбались.
– Не знаю… у меня такое чувство… будто "кто-то прошел по моей могиле", как говорила моя старая няня. Ник, тебе не приходило в голову хоть разочек за те дивные часы, что мы провели вместе… не приходило в голову на одну секундочку, что умри мы – ты и, я, – никто бы не мог помешать нам любить.
Темпест решительно повернулся к ней и сказал очень ровным голосом:
– Послушай, голубка, это не годится! Что за мрачные мысли! Ты просто устала. Я усажу тебя в такси, и ты покатишь прямо домой, а там – бутылка с горячей водой, допустим, и – это приказание! – успокаивающее лекарство, которое Уэбб должен прописать тебе завтра. Обещаешь?
– Обещаю, – ответила Тото.
Ник усадил ее в автомобиль и стал целовать, прощаясь.
С вокзала доносились к ним голоса студентов, которые пели какую-то народную песню, проникнутую тоской изгнания.
Слезы закапали на губы Ника.
Он отшатнулся.
– Тото, Бога ради, не плачь.
У него вдруг явилось безумное желание сказать:
"Поедем со мной" – и, будто угадав его мысли, Тото зашептала:
– Возьми меня с собой! О, возьми меня с собой! – Громко прозвучал колокол.
– Мне надо бежать, радость моя, – заторопился Ник. – Не отпускай меня со слезами. – Улыбнись своей милой улыбочкой. Прощай, крошка моя, достань же лекарство.
– Адрес, твой адрес!.. – крикнула Тото, но он уже скрылся в дверях вокзала.
Такси затрясся в холодной ночи, свинцовая тяжесть легла на душу Тото. Она дала шоферу баснословную сумму, обещанную Ником, и устало взобралась по лестнице: лифт испортился – это переполнило чашу.
В холле было темно; в квартирке царило глубокое молчание.
Она двигалась бесшумно; если Скуик устала, она не станет будить ее, хоть ей и нужно утешение.
Но из-за двери в кухню, чуть приоткрытой, пробивался свет.
Скуик сидела спиной к дверям, в качалке; Тото сразу заметила, что огонь потух, и сказала, стараясь казаться веселой:
– Скуик, дорогая, зачем же ты упустила огонь, это нехорошо, это…
Она замолчала. Какая-то страшная тишина царила в маленькой душной комнате с ее арсеналом пестро расцвеченной глиняной и фаянсовой посуды и крытым клеенкой столом, над которым Тото так часто подтрунивала.
Она подошла к качалке. Скуик сидела спокойно, понуря голову и опустив руку, в которой она держала английскую газету "Таймс". Тото вспомнила, что Ник принес ее, сказал, что сам не успел прочесть, но захватил на случай, если Скуик или Тото захотят прочитать.
– Скуик, дорогая, – громким шепотом позвала Тото, – Скуик… – Она опустилась на колени и с безумной мольбой заглянула в доброе, склоненное лицо. – Скуик… прошу тебя… прошу тебя…
Голос ее оборвался, не вставая с колен, она нагнулась вперед; голова ее слегка дергалась, дыхание вырывалось с трудом.
Медленно-медленно поднялась она с колен. Обвела невидящими глазами комнату, сделала несколько шагов, пошатнулась и вдруг, спотыкаясь, задыхаясь, рыдая, выбежала из комнаты, бросилась по коридору к дверям, распахнула их и стала не переставая кричать: "Фари! Фари!.."
Фари еще не спала; она появилась на пороге своей комнаты в веселом изумрудно-пунцовом кимоно, с такими же пунцовыми губами. Тото подбежала и ухватилась за нее. Говорить она не могла.
– Иду, иду, – мягко сказала Фари. – Успокойся, малютка, Фари идет.
Возможно, она догадалась; во всяком случае, она поняла, как только вошла в кухню. Она усадила Тото в кресло.
– Посидите здесь и не оборачивайтесь минутку, – сказала она.
Немного погодя она подошла к Тото.
– Она умерла, голубка. Умерла, верно, так спокойно, как только можно желать. Вот что надо сделать. Пройдите ко мне и позвоните доктору Уэббу; я побуду здесь. И не торопитесь возвращаться. Там у меня горит еще огонь – я собиралась пить кофе, уже налила себе чашечку, выпейте ее за меня. Номер телефона Уэбба – Пратер, 014. Звоните, пока не – дозвонитесь.
Тото вернулась с лицом почти ничего не выражающим. Она ходила за Фари по пятам, куда бы та ни направилась. Скуик положили в спальной. Она лежала такая спокойная, будто спала здоровым, нормальным сном.
Адриан Уэбб сначала держал себя как профессионал, потом размяк. Обнял Тото.
– Тото, послушайте, не надо так расстраиваться. Я не хотел говорить вам, но фрау Майер, бедняжка, не могла уже поправиться, жила бы инвалидом. А смерть была легкая, без всяких мучений, это я знаю наверное. Разве вас это не радует?
– Да, – беззвучно ответила Тото. – О да!
Газета, которую Скуик держала в руках, лежала в кухне на столе.
Адриан Уэбб сказал беспечно:
– Интересно знать, не прочла ли фрау Майер что-нибудь такое, что разволновало ее?
Он машинально, как это обычно делается, отыскал список умерших и, не подумав, стал громко читать; одно имя тотчас привлекло его внимание: "Теренций Гревилль… Это не родственник?.." – и остановился, проклиная самого себя, взбешенный собственной несообразительностью.
Тото взяла из его рук газету и прочла. Подняла глаза на Уэбба.
– Это Карди… это дэдди… – запинаясь, проговорила она. – Это Карди… Как вы не понимаете!.. – Голос ее замер, она сделала над собой усилие и уже совсем неразборчиво произнесла:
– Черно… холодно… Карди… – И упала на руки Адриана Уэбба.
Глава XIX
Молодость страдает адски, спускается в бездонные бездны мук, но – на то она и молодость – в конце концов, одним смелым взлетом возвращается к жизни, к свету.
Скуик похоронили. Тото об этом и не знала; она лежала у Фари на кровати, совсем разбитая, и молча смотрела прямо перед собой широко раскрытыми глазами.
На шестой день она в первый раз заговорила с Фари. Неожиданно сказала уже под вечер:
– Мы с Карди долго-долго беседовали. Я не сошла с ума, я не брежу, это правда, – мы говорили с ним. Я видела его в моем любимом синем костюме, со старым синим галстуком. Нам казалось, будто мы никогда не расставались, будто вовсе не было Вероны.
Уэбб перепугался больше чем следовало и напугал Фари, которая сама едва держалась на ногах, измученная бессонными ночами.
Фари знала об отношениях Тото и Темпеста, писала в посольство и получила учтивый, но неопределенный ответ. Наконец, ей удалось достать через Рейна его римский адрес. Она тотчас телеграфировала и в тревоге ждала ответа. Ответа не последовало, и бедная Фари взяла еще один фунт взаймы у Рейна.
Она ни за что не оставила бы Тото, но Тото нужны были такие дорогие вещи! Уже кончалась Брандовская эссенция – баснословно дорогой в то время в Вене продукт.
Фари жила одним луком и черным хлебом и сильно худела. Спасение пришло в виде телеграфного перевода Карди; деньги уже некоторое время лежали в посольстве, и Адриан Уэбб случайно узнал об этом.
Он с трудом уговорил осторожного секретаря выдать ему деньги для Тото и принес пятьдесят фунтов. Карди перевел двести, но ревностный служака нашел более благоразумным разбить выдачу доверенной ему суммы на несколько месяцев.
Наконец пришло и письмо от Ника из Англии. Пылкое, любовное письмо, полное обожания, нежности, надежды; все шло прекрасно. В Риме он был принят папой, который отнесся к его просьбе очень благосклонно; на Алтею это сильно повлияло.
За письмом следовала телеграмма, пришедшая с опозданием:
"Только что узнал о твоей утрате, голубка; разделяю твое горе, люблю. Адрес: Париж, авеню Ставрополь".
Тото сидела у окна. Морозы наконец кончились; весна робко вступала в свои права.
Тото поднялась, очень высокая, но такая худенькая и бледная, что жалко было на нее смотреть. В первый раз глаза ее чуть оживились.
– Фари, – сказала она, – я еду в Париж, я должна ехать.
– Что же, оставаться здесь вам, само собой, не приходится, – согласилась практичная Фари. – Скучновато мне будет без вас, это верно. До чертиков стану скучать. Когда думаете ехать?
– Сегодня ночью, – сказала Тото. – Я попаду еще на экспресс, он отходит в полночь. Поеду прямо к Нику.
Фари кивнула головой. Она сидела, скорчившись, на полу у окна, повернув к закату свою остроконечную мордочку.
– Должно быть, мы с вами больше не свидимся.
Она оглянулась, и взгляд с нежной лаской остановился на тоненькой фигурке Тото в мрачном черном платье.
Тото перехватила ее взгляд и слегка зарумянилась. Она подошла к Фари и опустилась рядом с ней на колени.
– Я напишу в посольство, чтобы они выдали вам остальные деньги, мне они больше не понадобятся. И вы… вы можете уехать с ними на ферму и выйти за Ульриха, да?
Фари судорожно обхватила ее и заговорила сквозь слезы охрипшим и прерывающимся голосом:
– Скоро весна. Хлеб уже высеян. Я увижу, как он станет всходить. И овцы скоро начнут ягниться. Ульрих сможет теперь нанять работника и привести в порядок дом – длинный, одноэтажный дом. Крыша совсем плоха стала, ее можно будет починить. Вы даете двум простым людям возможность начать жизнь сызнова. Ульрих… он меня любит, а сам он большой, и глупый, и краснорожий… а только сердце у него чистое и нет у него никогда ни одной скверной мысли. Тото, о Тото!
Немного погодя Тото сказала:
– Вы должны забрать себе и мебель Скуик.
– Они выберут Ульриха бургомистром, вот что я вам скажу! – не помня себя от радости воскликнула Фари. – Подумать только: деньги и диван, и зеркало, и чего только тут нет!
Она уложила вещи Тото, наготовила ей сандвичей.
Длинный поезд изогнулся, поворачивая, и Тото в последний раз увидела Фари, неистово махавшую платком.
Тото разом постарела, умудренная горем, умудренная страшным сознанием бесповоротности и мыслями, которые начинались со слов "больше никогда…" и разбивались о непреодолимую преграду вечного молчания. Она искала спасения в воспоминаниях о Нике. Когда зловещие волны бездонного моря уже захлестывали ее, она ухватилась за единственную оставшуюся ей надежду на будущее, как утопающий хватается за соломинку. Она цеплялась за свое непрочное счастье, повторяя про себя слова чудесного письма Ника: "Пока я пишу это, мне кажется, что я держу тебя в своих объятиях и целую, целую без конца… "Победно запело сердце. Но она тотчас спохватилась, испуганная, пристыженная: "Какая она бессердечная, что может еще радоваться… А все же… а все же".
Наступила весна. В открытые окна купе влажный ветерок приносил запах набухающих почек, прорастающих семян, раскрывающей свое лоно земли. Вековой экстаз, которому все мы подвержены, – как бы мы ни устали, ни изверились, ни истрепались, – захватил и Тото, когда она почувствовала, что в воздухе запахло весной. Невозможно грустить, раз весна будоражит кровь, невозможно грустить, раз она едет к Нику.
Жизнь снова коснулась Тото своим многоцветным крылом, снова легким мимолетным прикосновением пробудила в ней прежнюю способность сильно чувствовать, благодаря которой дни и ночи Тото были полны щемящего и сладкого упоения.
Она не могла уснуть – слишком натянуты были нервы, слишком чудесной казалась ей эта поездка. Она сидела, поджав под себя ноги, и ждала зарю.
Вот розовая щелка прорвала фиолетовую гряду. Еще немного, и хлынули солнечные лучи. Они разогнали и тень, омрачавшую душу Тото. Исчезла тревога, будто она предает Карди, Скуик и свою любовь к ним тем, что счастлива.
Словно рассвет радостно закрепил за ней право свободно идти к Нику. Через день или день с лишним она увидит Ника. Возьмет его за руку, взглянет ему в глаза. Они поцелуются.
В Париже она остановится… где-нибудь; может быть, у мадам де Торренс. Важно лишь то, что они с Ником будут встречаться каждый день.
Сон подкрался к ней внезапно и властно, как к ребенку.
Она скользнула вниз на подушки, подложила руку под голову и спала долго. Полусонная, отвечала она таможенным досмотрщикам – суровым баварцам в красных кепи, – которые засыпали ее вопросами, покручивая усы а ля кайзер, и скоро удалялись.
Германия. Мелькают уютные, выкрашенные в розовое крестьянские домики; белоголовые крепыши – мальчики и девочки – машут руками и что-то кричат вслед поезду.
В Германии тоже весна. В одном крошечном садике распустилось миндальное деревце – розовый язычок на фоне бледно-голубого полуденного неба!
А вот и пруд, на нем утки!
И вспыхнуло воспоминание. Верона пела песенку "Четыре утки на пруду" в тот вечер, в последний вечер перед ее отъездом в школу! Она сказала тогда Нику: "Я буду помнить этот вечер всегда-всегда…"
Память хранит много таких пустяков. И, думая о людях, вспоминаешь прежде всего какие-нибудь мелочи, связанные с ними: вязаный платочек Скуик, синий бант Скуик; то, как Карди заламывал шляпу, как он смеялся, полузакрыв темные глаза, так что в уголках их собирались морщинки; манера Ника дергать головой, вверх и немного набок, будто освобождая шею из воротничка. Случилось, кто-то другой так же дернул головой при Тото, и она рассердилась, разволновалась.
Но такие мелочи запоминаешь только в людях, которые совсем-совсем твои; и они связывают неразрывно – вот как шепот любви, который долго-долго еще отдается в. сердце, хотя сказанное уже, может быть, и забыто.
– Третий ленч! – прокричал служитель, проходя коридором, и Тото прошла, покачиваясь, в вагон-ресторан и позавтракала, а поезд мчался по стране, из-за которой Франция и Германия воевали в первый раз еще за шестьсот лет до мировой войны, по стране, где, говорят, цветы расцветают так пышно, потому что земля здесь удобрена прахом героев, цветом молодости.
Колеса вагонов всегда напевают. Тото слышит, как они твердят: "Париж – Париж, скоро Париж и Ник, Париж – Париж, скоро Париж и Ник…"
Время стало тянуться медленно, будто на свинцом налитых ногах.
Тото закурила и вспомнила, что вот уже несколько недель не брала папиросы в рот.
Прошло почти семь недель с отъезда Ника.
Тревога, беспокойство овладели ею. Попробовала читать, но это стоило ей таких усилий, что она отказалась от этой мысли.
Купе превратилось в душную тюремную камеру. О, скорей бы ночь прошла, скорей бы настало утро, и она приехала в Париж!
Час ушел на обед, а там стемнело. Лишь огненные точки выдавали мелькавшие мимо дома, да свет из окон вагонов порой выхватывал из мрака телеграфные провода и словно тащил их вниз…
Большая станция, буфет, продолжительная остановка. Кучи французских и бельгийских, иногда так называемых немецких, солдат в новой форме.
Тото оглянулась в обширном Вартэзале. И в два часа ночи он был переполнен. Она выпила кофе с булочкой, слушала французскую речь и чувствовала себя уже как дома.
Потом сон под грохот и стук колес, шум и тряску, и, наконец – наконец, окрестности: большие матрацы, вывешенные для проветривания на чугунные решетки балкончиков, маленькие шато – белые и серые, бесконечные ряды стеклянных колоколообразных банок, под которыми сеянцы овощей робко поднимают головки и озираются на голодный мир.
Париж!
– Отель "Ритц", – сказала Тото, усаживаясь в такси.
Она останавливалась там с Карди. Сейчас ей нужна комната всего на день, чтобы переодеться и отдохнуть. Ей отвели комнату в сторону рю Камбон, с двумя большими окнами, выходящими в мощеный сад, где летом публика завтракает под громадными, белыми с желтым, зонтиками. Мягко отсчитывали минуты часы в стиле ампир, вделанные в стену цвета крем с золотыми украшениями. Покрывало на кровати было бледно-голубое, драпировки на окнах – бледно-голубые, а ванная комната… Сердце Тото дрогнуло, когда она заглянула туда: в Вене ванна была для нее каждодневным испытанием, каждодневным разочарованием.
Она глубоко вздохнула, присела к письменному столику и написала записку мадам Ларон с просьбой выдать подателю ее вещи.
Когда мальчик-рассыльный ушел с запиской, она побежала в ванную комнату.
О, краны, которые без всяких усилий с твоей стороны подают горячую воду! Несколько минут, и ванна наполнена до краев! А полотенец, полотенец-то сколько!
"Я никогда в жизни не ценила так полотенца, как сейчас!" – подумала Тото.
Она лежала в ванне, временами высовывала одну белую ножку из воды и помахивала ею от избытка радости жизни.
Когда она вышла из ванной, горничная развешивала вывернутые платья. Тото накинула черное крепдешиновое платье с нефритовой пряжкой на поясе, натянула маленькую черную шляпку на свои огненные волосы и отправилась к парикмахеру – вымыть, надушить и уложить волосы.
– Жасмин де Коти, – назвала она свои любимые духи и вышла от парикмахера, напоминая курчавую и гибкую веточку жасмина.
Наконец, вернувшись к себе, она вызвала номер Ника.
– Алло, алло…
Молчание. Снова – алло… Сердце Тото бешено колотилось. Казалось, если Ник заговорит с ней, она не в состоянии будет слова сказать, так пересохло у нее во рту.
Ответил всего только слуга.
Оказалось, что мсье нет дома.
– Мсье Темпест в отъезде?
– Мсье возвращается сегодня из Лондона.
Тото, дрожа, поблагодарила говорившего. О, придется еще ждать! Сейчас всего три часа. Три часа десять минут, в сущности; но что считать минуты?
Надо будет дать ему время, чтобы переодеться и пообедать. В девять часов она отправится на авеню Ставрополь – звонить не станет, а прямо войдет и спросит Ника.
Не пойти ли гулять? На Енисейские поля хотя бы… Там она посмотрит, как дети катаются на осликах или кружатся на маленьких каруселях.
Был солнечный день; небо синее и белое, с пушистыми белыми облаками. Деревья стояли серебристо-зеленые или того нежного зеленого оттенка, в котором есть уже намек на изумрудный.
Казалось, все милые крошки Парижа высыпали на воздух. Тото наблюдала, как они тряслись на маленьких пони, выставив в стороны толстые ножки, с торжественным выражением на мордочках, явно проникнутые важностью момента и своих успехов.
Какие они все хорошенькие! Какая у них нежная, чистая кожа, какие шелковистые волосики! Можно ли их не любить!
Тото вспомнила вдруг, как была шокирована Скуик, когда она сказала: "Я хочу бэби, точь-в-точь похожего на Ника".
Глядя на этих малюток, она снова думала, как было бы чудесно иметь крошку, похожего на Ника как две капли воды и принадлежащего им обоим, – живой символ счастливых часов, живое напоминание о любви, которая обессмертила себя творчеством.
И еще думала:
"Нет, не такая шапка – это чересчур взрослая, а пышная белая шапочка с большим помпоном, а на зиму – белая меховая шубка, и шапка с наушниками, и такие славные крошечные белые мокасины, как те, что я видела сегодня у Пине".
Она нарядила бэби Ника от рубашки до пальто, самым экстравагантным образом.
Проезжавший мимо в автомобиле мужчина замедлил ход, повернул, поравнялся с ней. Лицо его осветилось радостью, когда он выскочил из автомобиля и бросился к ней.
– Тото!
Это был Чарльз Треверс, вылощенный, приятный, как всегда.








