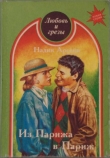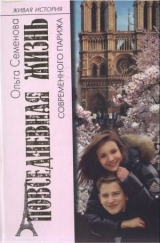
Текст книги "Повседневная жизнь современного Парижа"
Автор книги: Ольга Семенова
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Отвоевали место на французской эстраде и чернокожие певцы – знамениты поющий в стиле блюз Силь, Абдель Малик, рэпер Пасси и бывший теннисист – метис Яник Ноа. Молодой африканский певец Тикен Жан Факоли выпустил в 2007 году альбом «Африканец». Самая грустная песня в нем называется «Африканец в Париже».
Мама, я думаю о тебе и пишу,
А в небе зажигаются звезды.
Ты не должна волноваться,
Ведь у меня крыша над головой и немного денег.
Мы живем здесь все вместе
И почти ни в чем не нуждаемся.
Я тружусь от воскресенья до воскресенья,
И, видимо, скоро получу документы на жительство.
Мама, ты всегда так волнуешься из-за пустяков,
Не переживай, если здесь сгорит отель.
О, мир в изгнанье,
Я – иностранец в вашем городе,
Я – африканец в Париже.
Глава девятнадцатая РУССКИЙ ПАРИЖ
Французы любят русских и Россию. Были ли французы очарованы государем Александром I, настолько галантно вошедшим со своей армией в Париж, что происходившее напоминало скорее визит вежливости, чем войну? Или запомнились тогдашним парижанкам безудержная щедрость и обходительность русских офицеров и казаков? Или, может, в национальной памяти отпечатались восторженные письма из России бесчисленных французских гувернеров и гувернанток, ставших там абсолютно своими? Или объединила нас похожая яростность революций и кровавость последовавших за ними термидоров? Или французские интеллектуалы, попав в добровольный плен к русской литературе, безоглядно полюбили породившую ее страну? А может, всё вместе? Одно очевидно – Россия и все русское Парижу милы и близки. Это хорошо заметно по количеству русских названий улиц: улица Баланчина, улица Евпатория, улица Крым, улица Нева, улица Москвы, улица Сергея Прокофьева, бульвар Севастополь, проспект Римского-Корсакова, сад Рахманинова, площадь Кандинского, площадь Стравинского. Иногда остановишься и думаешь: да в Париже ли я? А в левых предместьях к тому же никто и не думал менять названия проспектов Сталинграда и Ленина.
…Русские, приехавшие в Париж в 1990-х годах, шокировали французов жлобским поведением. Сперва появились братки, новые хозяева жизни, выпущенные на волю царственно-небрежным мановением руки нетрезвого строителя. Они, развалившись, сидели в ресторанах, гогоча, рассказывали друг другу похабные анекдоты, а официант терпеливо стоял рядом в ожидании заказа. «Работали» братки во французской столице российскими методами смутного времени. В 1995 году похитили украинского карикатуриста, потребовали выкуп. Держали его в квартире 11-го округа, пытали, прижигая сигаретами и кромсая ножницами. Полиция опростоволосилась при передаче выкупа. Карикатуристу пришлось бы совсем плохо, но он сумел сбежать. Подобные истории происходили часто – воля, беспредел.
На смену браткам пришли более воспитанные люди в хороших костюмах. Они арендовали или покупали красивые квартиры и дома, ездили с шофером, но погибали так же запросто, как и их предшественники. Одно из самых страшных убийств произошло в дорогом парижском предместье Лувесьен. Здесь, вечером 26 февраля 1995 года, в красивом доме, окруженном раскидистыми деревьями, раздалось множество выстрелов. Полиция обнаружила шесть трупов: главы семьи – делового человека Евгения Полевого, его жены Людмилы, ее престарелых родителей и супружеской пары, приехавшей их навестить. Не тронуты сын Полевого от первого брака шестнадцатилетний Алексей и двухлетняя дочка Наташа. На Калашникове обнаружены Алешины отпечатки пальцев. Полиция увозит паренька в комиссариат, и на следующий день он признается в убийствах. Почему? Отец был с ним излишне суров, избивал. Но уже через несколько дней следователи и психологи начинают сомневаться в виновности мальчика. Если он был обижен на отца, то почему убил еще пятерых? Отчего не помнит, сколько сделал выстрелов? По какой причине не может показать на следственном эксперименте, как стрелял? Через год после начала следствия Алексей расскажет о загадочном человеке в черной маске. Это он убил всю семью, он забрал из отцовского сейфа красную папку с надписью «тридцать миллионов долларов», он приказал ему признаться в убийстве: «Не возьмешь мокруху на себя – пристрелю сестру и мать в Москве». Озадаченные оборотом дела французские следователи еще тщательнее принялись изучать прошлое Евгения Полевого. Не там ли скрывалась правда о его гибели?
…Выпускник МГИМО Евгений Полевой начал переводчиком в секретном лагере в Туркменистане – там тренировались алжирцы, в начале 1980-х работал в Министерстве морского флота, в самом начале перестройки создал с приятелем, Вячеславом Деревягиным (он тоже будет застрелен с женой в Лувесьене), агентство путешествий «Совтранстур». Но у амбициозной второй жены Евгения планы идут дальше. При помощи друга ее родителей – бывшего ответственного сотрудника КГБ в отделе экономического контршпионажа Василия Скидана приятели получают большой кредит и сотни гектаров сибирского леса. Основанный тремя подельниками кооператив начинает работу: пронзительно визжат электропилы, падают с сухим треском вековые деревья, едут нагруженные лесом многотонные грузовики. Прибыль Полевого, Скидана и Деревягина колоссальна. Скидан остается в России вести дела, Полевой уезжает во Францию. При помощи двух фиктивных фирм – зарегистрированной в Париже в 1990 году «Sofriex» и основанной в Люксембурге в 1992 году «Rigel SA» – вся прибыль от российского бизнеса оседает в Европе. Но если на счету французской фирмы «всего» десять миллионов франков (меньше двух миллионов евро), то на счет фирмы в Люксембурге «ложатся» значительно большие суммы. Дела фирмы ведет некий Серж Либенс. Полевой постоянно ездил к нему в Люксембург и за месяц до гибели отвез все касающиеся фирмы архивы.
После смерти Евгения делами компаний занялся его брат Дмитрий. Он приехал к Либенсу с просьбой ознакомиться с архивами, но тот показать документы категорически отказался. Тогда-то Дмитрий и заговорил о незаконной деятельности Либенса – дескать, фирма получает не только «лесные» доходы, но и деньги от наркобизнеса, имея свой филиал в Туркменистане. Достается и Скидану – Дмитрий обвиняет партнера в том, что на следующий день после гибели Евгения он присвоил колоссальную сумму. «У меня есть письменные доказательства. В следующий мой приезд в Париж я вам их покажу», – обещал он парижским следователям. Но Парижа Дмитрий больше не увидел. Накануне отъезда его изрешетили пулями в Белоруссии. Это случилось в декабре 1996 года. По сегодняшний день счета и архивы фирмы «Rigel SA» правосудием проверены не были…
А как же Алеша? Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Поскольку суд состоялся в 2001 году, то сидеть Алексею пришлось недолго – учитывалось пребывание в заключении во время следствия. Были ли уверены присяжные в его виновности? Нет, но в интересах парня решили сделать вид, что не сомневаются. Русская мафия хочет, чтобы он был признан виновным? Пожалуйста! Виновен! Главное, не надо больше Калашниковых, трупов и крови. Хватит. Алексея выпустили досрочно. Он учится, встречается с девушкой и категорически отказывается давать интервью.
…Женщины, приезжавшие во Францию в то время, были под стать мужчинам. Или сеяли беспокойство и раздор, или оказывались абсолютно потерянными и несчастными. Покупая однажды гречку в русском магазине «Гастроном», торгующем пирожками, соленьями, селедкой и черным хлебом, я взяла на кассе из стопочки рекламок листок с телефонным номером: «Русский парикмахер Наташа». «Может, хоть она сможет подобрать нужный мне оттенок?» Наташа оказалась маленькой жгучей брюнеткой. Родилась на Украине, там и выросла. В конце 1990-х вышла замуж за француза, приехала в Париж, родила прелестного мальчика. Развелась. «Разлюбила!» – коротко объясняет она причину развода. Живет на алименты и парикмахерский талант. Взгляд на парижскую жизнь славянок у нее мрачный. «Скольких же манекенщиц я причесывала! Все начали с дефиле, а закончили в ночном клубе стриптизершами, или похуже!» Женщины наши соглашались на любую работу. Те, кто по убеждениям, возрасту или фигуре не могли дефилировать или танцевать, становились нянями и уборщицами. И сейчас у православных парижских церквей висят объявления: «Женщина-врач ищет домашнюю работу, глажку, уборку, посидит с детьми и пожилыми людьми». Но это постепенно меняется. Сегодня ни один дорогой ювелирный или парфюмерный магазин не обходится без русской продавщицы. Красивые, ухоженные, европейские – они настоящая гордость бутиков. Многие работают преподавателями языка или переводчицами, кто-то устроился в фирмы. Вышедшие замуж становятся хорошими хозяйками и матерями, водят детей в русскую церковь.
…Собор Александра Невского на улице Дарю, неподалеку от парка Монсо, недавно отреставрирован. Улица тихая, не широкая. Напротив храма русский магазин, на витрине которого в лубочном стиле нарисован бравый офицер на фоне идиллического имения. Магазин уже давно принадлежит арабским коммерсантам, но стоит зайти в церковный двор с несколькими березками, как сразу чувствуешь себя в России. К храму ведут высокие ступени. Справа, на стене хозяйственного дома вывешены объявления о праздниках общины, о работе, жилье – перед ними в воскресенье после службы всегда толпятся прихожане. Слева, в таком же невысоком домике каждую среду раздаются звончайшие детские голоса и полный доброжелательного терпения баритон отца Анатолия – здесь разместилась приходская школа, где каждую среду дети учат историю, Закон Божий, совершенствуют русский язык. Хочешь не хочешь, учась с восьми утра до пяти вечера во французской школе, родной язык дети начинают забывать и, не будь этих занятий, большинство из них говорило бы на русском с акцентом.
Еще двадцать лет назад сюда приходили внуки эмигрантов послереволюционной волны, имевших крепкую веру, а теперь батюшке приходится начинать с нуля, большинство учеников – дети недавно приехавших атеистов. Нынешняя руководительница школы Елизавета Сергеевна Оболенская – стройная дама с внимательным и спокойным взглядом карих глаз и нежным, как на женских портретах Боровиковского, румянцем. В ее княжеском роду были ученые, декабристы, герои Сопротивления. Одной из самых ярких фигур Елизавета Сергеевна считает археолога Уварову. Жила и работала она в Поречье, после революции уехала, умерла в Сербии. В лучших семьях в XIX веке хорошим тоном считалось обучать молодых людей какому-нибудь ремеслу, и один из предков Елизаветы Сергеевны славился особым талантом закройщика. В Париже семья Оболенских осталась верна трудовым традициям – среди ее членов крупные государственные чиновники, одаренные педагоги. Елизавета Сергеевна более двадцати лет отдала русской школе при соборе Александра Невского. Первый раз приехав в Россию в 1965 году, она сразу почувствовала себя дома. И хотя живших в Москве родных повидать не удалось из-за наших драконовских порядков, Елизавета Сергеевна до сих пор вспоминает ощущение счастья, оттого что все вокруг говорили по-русски. И чувство ностальгии ей, родившейся во Франции, знакомо. Ведь ее родители воспитывали своих детей в русской культуре. «Хотя надо признать, – твердо говорит Оболенская, – культура у нас двойная. Мы и здесь – дома, даже если с родителями и между собой говорим по-русски»… В семье их было шестеро – пять девочек и один мальчик. Жили вместе с бабушкой в доме в 14-м округе, каждое лето ездили в Ниццу к родителям папы. Там собиралась вся родня: три тетушки с отцовской стороны, тетушка с материнской, и у всех дети – вот было весело!
«С самого детства нам читали сказки по-русски, потом Толстого, Пушкина, Ахматову. Обязательно учили стихи и на все юбилеи и праздники их декламировали. И традиция эта продолжается – совсем недавно мы отпраздновали юбилей моего отца – ему исполнилось 90, и все внуки прочли по стихотворению. Как же он радовался!»
Сергей Сергеевич Оболенский всю жизнь заботился об Экспедиционном корпусе, прибывшем во Францию еще в 1916 году, о стариках, о церкви, о Союзе славян. И первые контакты с Москвой тоже он завязал. Когда Елизавета Сергеевна говорит о своем отце, лицо ее светится любовью и уважением: «Понимаете, когда мы оказались здесь после революции, у нас ничего не было, а отец сделал так, что остальные славяне и французы нас зауважали. Он поставил русскую культуру на достойное место. И традиции дворянства мы благодаря ему сохранили, и детей воспитали в культуре».
Я слушаю Елизавету Сергеевну и думаю, каким же терпением и волей надо было обладать ее отцу и его современникам, чтобы не сломаться и сделать то, что они сделали. Об атмосфере тех лет интересно писал Геннадий Озерецковский в книге «Русский блистательный Париж»: «Парижская префектура того времени, через которую все русские должны были пройти, проявила столько безразличия, невнимания, – словно русские были скотиной, а не людьми. Они по несколько дней стояли в хвосте на лестнице, чтоб только попасть внутрь. А там у „русского окошка“ сидел армянин. Русские были объединены вместе с армянами, и префектурное начальство посадило этого армянина, так как он, наверное, знал и русский язык Какое это было издевательство над русскими. Армянин (нарочно?) говорил только по-французски, кричал, хамил, когда его плохо понимали, требовал документов, грозил и отсылал обратно. А что это значит, „назад“? Никакого пропуска он не давал, что означало: снова днями стоять на лестнице в толстом длиннейшем хвосте, а чиновник выходил и говорил:
– Остальные придете после обеда или завтра.
– Но мы уже день стоим! – слышались слабые голоса.
– Завтра!
А над этим мрачным учреждением стояло: „Свобода. Равенство. Братство“. И была также специальная надпись: „Для выходцев из англосаксонских стран особая дверь“. И никакой там очереди, и любезность… Заграничные и русские дипломы не признавались, никакой заботы, внимания проявлено не было, а жить оставляли как хочешь, как можешь, знаменитое: „дебруй туа“ [6]6
Выкрутись (фр.).
[Закрыть]».
На последнюю, «учащуюся», волну эмиграции Елизавета Сергеевна смотрит, как и большинство «старых русских», с сочувственной любовью – так смотрят на детей, поправляющихся после долгой болезни, и говорит: «Мы с ними друг друга дополняем. Учим их сохранившемуся у нас прежнему русскому языку, а они нас – новому».
Каждое Рождество для сотни своих веселых, шумливых и энергичных учеников от 4 до 18 лет Елизавета Сергеевна устраивает елку. Проходит она в мэрии 17-го округа, на улице Батиньоль. В зале собираются нарядные родители. Царит чуть нервное возбуждение. Пробегают стайки девочек в кокошниках и сарафанчиках, снуют карапузы в расшитых рубашках и шароварах. Елена Сергеевна с раскрасневшимися от волнения щеками дает последние указания и проверяет готовность артистов за подергивающимися кулисами. Собрались все классы: им. Пушкина, «Радуга» и «Богатыри» Н. С. Филатовой и И. А. Шагубатовой, класс «Русалка» Е. С. Иванжиной, класс им. Билибина Т. Н. Ивановой, классы «Ромашки» и «Матросики» Н. Н. Макаренко, класс им. А. Толстого и старший класс отца Владимира Ягелло, класс «Любознательные» Н. В. Кругловой. Наконец воцаряется тишина, раскрывается бархатный занавес и начинается представление. Сначала хор ребят под управлением отца протодьякона Александра Кедрова поет тропарь Рождества и колядки. Потом дети читают отрывок из Жития святого Александра Невского, басню «Стрекоза и муравей», разыгрывают сценки: Жванецкого «Из средней школы», «Маланья-голова баранья» Н. С. Лескова и «Петербургский ростовщик» Н. А. Некрасова.
Некоторые малыши говорят по-русски абсолютно чисто, будто живут и учатся не в Париже, а в России, другие с заметным акцентом, но у всех одинаково блестят глаза и звенят голоса во время декламации. Видно, с каким удовольствием готовили они спектакль. Помигивают глазки родительских камер. Елизавета Сергеевна стоит, замерев, в глубине зала. Но вот спектакль закончен, до боли в ладошах нахлопались зрители. Раздаются подарки. Собирается веселая говорливая толпа у буфета. Глядя на улыбающихся «старых русских» и бегающих вокруг них маленьких «новых», я думаю о том, какое важное дело делается в русской приходской школе, где детям передаются вера, знание и наполняющее сердце созидательной гордостью чувство принадлежности к великой культуре. А жить с таким багажом, что бы ни уготовила судьба, проще и радостнее.
…Барон Алексей Алексеевич Тизенгаузен принадлежит по отцу к древнему роду немецких аристократов, несколько столетий назад осевших в России и давших ей военных и политиков, по маме – к Шаховским, чей род восходит к Рюрику. После революции до 1939 года дед по отцовской линии жил в своем польском поместье, потом переехал во Францию. Первое время семья бедствовала, баронесса, имея двоих детей, подрабатывала уборщицей. Потихоньку встали на ноги. Здесь 45 лет назад Алексей Алексеевич и увидел свет. Блестяще учился, легко поступил в престижное высшее учебное заведение – Школу политических наук (ее закончил Жак Ширак), теперь работает в Лондоне. По-русски говорит с той же легкостью, что и по-французски и по-английски, одет с небрежной элегантностью, по-юношески строен. В свободное от работы время готовит к изданию книгу о Преображенском полке.
– Ощущаю ли я себя русским? – переспрашивает меня барон Тизенгаузен. – Конечно, хотя и понимаю, что я ложный русский. Да-да, все мы, эмигранты, представляем русское общество, которое больше не существует. Впервые приехав в Россию двадцать лет назад, я осознал, что русские, жившие за границей, не понимали того, что в ней происходило.
– А как ощущали себя ваши дедушки, бабушки и родители?
– Папин папа сразу включился во французскую жизнь, много трудился и мне сказал: «Алеша, у тебя имя – уважай его, но помни, что все достигается работой». А родня по маминой линии 40 лет сидела на чемоданах. Деда буквально заставили стать французом, чтобы он мог получить пенсию. Культура у них была необъятная, но жили они в мечтах…
Вечером едем с бароном в ближайшее к Парижу предместье – городок Курбевуа. Останавливаемся на тихой улочке Сен-Гийом с небольшими особнячками. Алексей Алексеевич звонит в дверь одного из них, и через секунду на пороге появляется всклокоченный рыжебородый человек с широко распахнутыми голубыми глазами на круглом лице. Он спешит к калитке, широко ее распахивает, улыбается барону, а затем устремляет вопросительный взгляд на меня.
– Виталий, эта дама хочет посмотреть дом, я ей покажу.
Бородач дружелюбно кивает головой и ведет нас к входу.
Преодолеваю три высокие ступени и… оказываюсь в совсем русской атмосфере: на всех стенах до самого потолка старинные русские гравюры, портреты русских военных, шпаги, изображения битв.
– Этот дом много лет назад купили несколько старых семей, – поясняет Алексей Алексеевич, – здесь мы храним все военные регалии, а Виталий присматривает за порядком.
– У нас даже плащ императрицы Марии Федоровны есть! – с гордостью добавляет Виталий.
Пока я осматриваю достопримечательности, Алексей Алексеевич тихонько обсуждает с бородачом организационные детали: «Вот тут деньги. Мама сказала, что тоже зайдет через две недели и принесет».
Музей содержится только на средства нескольких семей, в том числе и Тизенгаузенов. И это не блажь состоятельных людей (достаток большинства нынешних русских аристократов не превышает достатка средней французской семьи), а убежденность в том, что такой музей необходим для всех тех, кто дорожит русской историей. Обращая мое внимание на очередное полотно, Тизенгаузен с тревожной нежностью, как Штольц на Обломова, поглядывает на отошедшего хранителя и доверительно шепчет:
– Виталий замечательный парень, живет здесь уже пятнадцать лет, написал прекрасную книжку о юнкерах, мог бы сделать еще больше, но… ленив.
Осмотр закончен. Барону надо спешить, в Париже он проездом, повидать маму, сейчас летит по работе в Москву, затем к родне жены Алии в Казахстан (ее папа – тамошний министр).
– Казахи еще «хуже» нас, русских, – улыбается он, – родственные чувства развиты настолько, что нас каждый раз заваливают подарками, закармливают и запаивают. Проблема состоит в том, чтобы успеть навестить всех родственников, иначе не избежать обиды, но с моим рабочим графиком это крайне сложно. А вам обязательно надо познакомиться с дочерью графа Татищева Марией Дмитриевной Ивановой – она наш «последний из могикан» и расскажет массу интересного о жизни русской общины за последние семьдесят лет…
Мария Дмитриевна Иванова, урожденная графиня Татищева, встречает меня солнечным апрельским утром на пороге светлой уютной квартиры в 14-м округе Парижа. Высокая, стройная, с безукоризненной осанкой, с ясными голубыми глазами, эта не скрывающая свой возраст 78-летняя дама в изящной юбке и блузке, с ниткой жемчуга на шее по-настоящему красива. Мария Дмитриевна провожает меня в гостиную: на стенах гравюры Петербурга, портрет государыни Екатерины И, на книжных полках русские издания, в том числе о предке Марии Дмитриевны («Много раз пра», – шутит она) Василии Татищеве, на низком столике фотографии ее четырех детей и мужа. Из соседней комнаты доносится негромкая классическая музыка, переплетающаяся с сердитым чириканьем воробьев на улице и испуганным попискиванием каких-то невидимых птах во внутреннем садике, в который выходят окна кухни. Мария Дмитриевна изящным жестом приглашает меня присесть, сама легко опускается на стул и с интересом берет в руки мой подарок – выпущенный одним московским издательством сборник воспоминаний внуков о бабушках, в который включены и мои воспоминания. Молниеносно, как много читающий человек, проглядывает оглавление, благодарит и с улыбкой, осветившей ее значительное породистое лицо, говорит:
– А у меня тоже есть для вас подарок, – и достает с полки книгу.
Теперь уже я с интересом смотрю на обложку: Вильерс О. А. «Воспоминания русской бабушки».
– Ольга Алексеевна Вильерс, сестра моей мамы, вышла замуж за англичанина, – поясняет Мария Дмитриевна, – она урожденная Капнист, дочь контр-адмирала графа Алексея Павловича Капниста. Деда вместе с другими заложниками в 1918 году в Пятигорске убили большевики, но о его гибели в книге рассказано коротко – у нас в семье не принято плакаться. Сперва Ольга Алексеевна написала ее для своих внуков по-английски, а уж затем, для российского издательства, по-русски.
– Подпишете?
– Обязательно, в конце встречи.
Книгу эту, оказавшуюся замечательной, я прочла в тот же вечер, залпом. Написанная живым, объемным языком, она пестрит уникальными подробностями жизни всех родственников семьи Капнист: тут Трубецкие, Кочубей, Лопухины, Оболенские, Гагарины, Осоргины, и даже Чичерины, один из которых, по выражению автора, «отошел от семьи и связался с анархистами» – речь идет о первом советском министре иностранных дел! Талантливо описаны подробности последних месяцев многих русских аристократов в России: здесь и преданная семье французская гувернантка, спасающая пятерых графских детей от верной смерти; и голод; и холодящее душу уплотнение, когда ЧК расположилась на первом этаже домика, где ютилась семья Капнистов; и трагикомичный, но, к сожалению, пророческий разговор по-французски между гувернанткой и князем Урусовым: «Что говорят в городе, князь?» – «В городе говорят, что меня расстреляли». – «Ах, князь!» Тут же и вероломное предательство друзей; и мытарства за границей; и мастерские словесные портреты генерала Деникина, гордости России, оказавшегося на чужбине в страшной нужде, и похожих на стервятников холеных спекулянтов, перекочевавших из Новороссийска в Константинополь, чтобы делать деньги на несчастьях соотечественников…
Верю, что найдутся талантливые сценарист и режиссер, которые сделают фильм по воспоминаниям О. А Вильерс, честный и увлекательный, как и сама книга. О смерти графа Капниста в Пятигорске вместе с двумя князьями Урусовыми, Шаховским, Багратионом-Мухранским, графом Бобринским и многими другими рассказано, действительно, строго и просто. Их, пережидавших смутное время, несправедливо обвинили в подготовке контрреволюционного переворота и в ночь на 31 октября 1918 года закололи штыками у горы Машук. («Расстрел был бы подарком», – со сдержанной горечью замечает Мария Дмитриевна.) В последнем письме жене и детям граф Капнист пишет: «Очень крепко вас обнимаю и целую. Я здоров, но мне очень скучно без вас. Скорее бы с вами увидеться и уехать куда-нибудь подальше отсюда». Увы, ему уехать не пришлось – через шесть дней наступила расправа, спаслась лишь жена с детьми…
Хочу задать первый вопрос и начинаю его словами:
– Вы представительница одной из лучших семей русского зарубежья…
Мария Дмитриевна тихо, но решительно меня прерывает:
– Не было лучших или худших. Все русские, которые здесь оказались, одинаково пострадали, одинаково тосковали, и им было одинаково трудно. А те, кто остался в России (в том числе и члены моей семьи, с которыми я недавно познакомилась), пережили тяжелого даже больше, чем мы здесь. И это были не только аристократы и интеллигенция… Революция тоже была сделана русскими людьми, да… И каждый несет в своей душе ответственность за то, что было. Так что надо очень осторожно говорить насчет лучших и худших, понимаете?
Мария Дмитриевна мгновение по-учительски строго смотрит на меня, а затем продолжает:
– Как Вы видите, я – Мария Дмитриевна Иванова, мой муж был сыном армейского офицера Иванова, не аристократа, а его мать родилась на Дону, в семье казачьего атамана Антонова. (По-русски Мария Дмитриевна говорит без малейшего акцента, слегка картавит и заменяет русскую «свекровь» на французскую «бельмэр», что придает ее речи удивительный, дореволюционный шарм. – О. С.)Антоновы тоже не были аристократами, но столько своей крови оставили на земле русской! Атаман с одним из сыновей погиб в первом же бою с немцами в 1914 году. Другой его сын погиб в Великую Отечественную под Сталинградом. Еще. один сын, кадет Белой армии, погиб в Новочеркасске. Он был ранен и привезен в лазарет. Ночью город заняли красные, вытащили всех раненых на двор и закололи штыками. Моя бельмэр, учившаяся там в институте, об этом узнала и той же ночью пошла переворачивать тела, чтобы найти девятнадцатилетнего брата. Наутро начальница института увезла девушек на юг, а затем в Сербию, потому что ее предупредили: «Если не хотите, чтобы девочки были изнасилованы, то уезжайте скорей». По пути за границу, все еще находясь под присмотром своей воспитательницы, бельмэр и встретила будущего мужа – Иванова, офицера Белой армии и подполковника… Муж мне часто жаловался: «У тебя тут масса родственников, а я, после смерти родителей, один на свете». И после перестройки мой сын, которому бабушка рассказывала про свое житье на Дону, решил написать в ее станицу, чтобы найти семью. Писал буквально «на деревню к дедушке», но через два месяца из Москвы пришел ответ: «Получили ваше письмо, мы – Антоновы и, по нашим сведениям, я двоюродный брат вашего отца». Сын поехал в Россию, его встретило двадцать человек родственников, а его двоюродный дядя был на одно лицо с моим мужем, поэтому сын его моментально узнал! Оказалось, что в 1929 году их раскулачили, одних убили, других с Дона прогнали, они разъехались по России, но потом оказались в Москве. Началась перестройка, и двое сыновей сестры моей бельмэр решили поехать на пару недель в отпуск на Дон, посмотреть, где когда-то жили их родители. Именно тогда туда и пришло письмо моего сына! Все эти люди – не аристократы – полили по тем или иным причинам своей кровью землю русскую, и поэтому-то говорить про худших или лучших я не могу…
Муж Марии Дмитриевны, Юрий Александрович Иванов, родился в 1923 году в Югославии, на шахте города Костолаца, как говорила его мать: «…по дороге из России». В 1925 году семья оказалась во Франции, где его отец нашел работу на заводе в городе Безансон. Вскоре родители Юрия Александровича развелись и воспитывался он отчимом – Владимиром Януарьевичем Сулейман-Улановским – сыном генерала Сулейман-Улановского, бывшего в России директором Николаевского артиллерийского училища. Сам Владимир Януарьевич закончил Михайловское артиллерийское училище, защищал с другими юнкерами Зимний дворец, участвовал в Степном и Ледяном походах. В Париже по ночам работал таксистом, а днем занимался пасынком. Когда тому исполнилось девять лет, устроил его в Кадетский корпус имени императора Николая Второго, который сначала находился в Париже, а затем переехал в Версаль. Мальчики там жили и учились.
Мария Дмитриевна увлекательно рассказывает о подробностях тех давних дней:
– Директором Кадетского корпуса был генерал Римский-Корсаков, до революции работавший директором 1-го Кадетского корпуса в Москве. Каждое утро этот бравый генерал приходил к ученикам, бодро и громко говорил: «Здорово, кадеты!», а они так же бодро, по-армейски ему отвечали. Смерть генерала стала для всех учеников настоящим шоком, потому что заменивший его на посту человек военной жизни не знал и в первое утро, спустившись к кадетам, тихо сказал: «Здравствуйте, дети». Боже мой, какой ужас! Тогда мой будущий муж и пошел в государственную школу и одновременно поступил в национальную организацию «Витязи». Основал ее в 1934 году Николай Федорович Федоров, бывший боец Северо-Западной добровольческой армии. Девизом «Витязей» стали слова: «За Русь, за Веру», они явились идейным продолжением Добровольческой армии. Эта организация существовала в Париже, Гренобле, Ницце, Лионе. Детей там собирали в дружины и они изучали русскую историю, участвовали в жизни церкви, подготавливали на рождественскую елку спектакли, выезжали летом в лагерь в Альпах, где у «Витязей» в местечке Лаффрей была куплена земля. «Витязями» устраивались и элегантные балы. В годы моей молодости они проходили в Париже, а теперь в Бельгии. Подобные балы, к слову сказать, устраивал в Жокейском клубе и в отеле «Георг V» Союз инвалидов – только в годы моей молодости средства шли на помощь здешним нуждающимся, а теперь отправляются в российские госпитали. Через НОВ (Национальную организацию витязей) прошли многие сотни детей, и мои четверо детей тоже впоследствии стали маленькими витязями, а муж продолжал заниматься в ней всю жизнь и каждое второе воскресенье ездил к «Витязям» в Бельгию.
…Молодежью «Витязей» Юрий Александрович занимался увлеченно, отдавал все свободное от постоянной работы время (а работал он всю жизнь много), преподавал ребятам историю, прививал любовь к России. Ученики его до сих пор вспоминают. Вот что пишет один из молодых витязей: «Кто понял, полюбил и всецело отдался Округу, со страстью, может, даже с пристрастием, это Юрий Александрович Иванов. Помню его первый приезд в летний лагерь, как трудно ему было с нами.