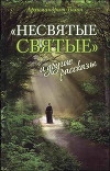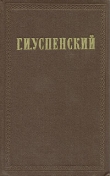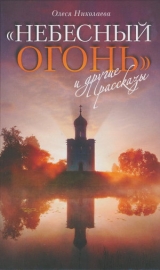
Текст книги ""Небесный огонь" и другие рассказы"
Автор книги: Олеся Николаева
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Лукавая луковка
Я замечала, что порой люди пытаются слукавить на исповеди: грехи, в которых особенно стыдно признаться, умаляют, а другие, порой незначительные, крайне преувеличивают и останавливают внимание священника именно на них… Из‑за этого бывают всякие недоразумения между иереем Божьим и исповедником, вследствие которых священник может превратно понять ситуацию и даже дать ложное благословение. Конечно, собственно тайны чужой исповеди мне, по понятным причинам, знать не дано. С достоверностью я могу говорить только о себе. Но кое – какие косвенные свидетельства того, что это происходит сплошь да рядом, у меня есть. А кроме того – я задавала этот вопрос моим знакомым священникам и получала подтверждение.
Ну, например, одна моя добрая знакомая, у которой была любовная связь с женатым мужчиной, в течение нескольких лет, исповедуясь старенькому иерею, между прочим очень строгому, получала у него благословение причаститься. И причащалась… Казус здесь был в том, что она среди прочих рехов каждый раз в придаточном предложении упоминала, что у нее есть бойфренд. А он, очевидно, считал, что это нечто невинное, вроде бультерьера, и снисходительно покачивал головой.
Примерно то же происходит порой и с иерейскими благословениями. Тут многое зависит от того, насколько адекватно, в какой форме и какими словами описывают ситуацию, на которую хотят получить благословение священника, и получают его.
Вот такая история, например. Сижу я как‑то осенью одна на даче – муж в командировке, дети в Москве, соседей нет. Пустынно и тихо. Раскочегарила я компьютер, разложила листочки – работаю, никто мне не мешает, сумерки, природа, красота! И вдруг захрустели под моим окном чьи‑то тяжелые шаги – собаки, что ли бездомные понабежали? – и мимо моего окна проплыла мужская голова, направляющаяся прямехонько к входной двери. Я, зная, что порой забываю ее запирать, туда. Но – поздно: прямо передо мной на пороге стоит здоровенный парень с огромным рюкзаком.
– Вы к кому? – не своим голосом спросила я с трусливой надеждой, что, быть может, он просто ошибся адресом.
– Я? К вам, Олеся Александровна!
– Да? А вы кто?
– Я у вас на семинаре в Литературном институте вчера был, стихи вам свои показывал.
Я вспомнила. Действительно, подходил он ко мне в институте. Стихи свои давал. Очень плохие. Спрашивал, нельзя ли снять дачу там, где я живу. Я ответила, что не знаю. Никто у нас ничего не сдает…
– И что?
– Вот, решил у вас остановиться, пока чего – нибудь здесь не сниму, – отвечает он. А сам уже рюкзак спустил на пол, силится его в дом втащить.
– Подождите, – преградила я ему путь в дом и указала на стул на веранде, – Я же вам сказала – здесь ничего не сдается. А кроме того – я, кажется, не давала вам согласия на то, чтобы вы останавливались у меня.
– Так меня батюшка благословил! – поставил он меня на место. – Эх, телефон у меня разрядился. Дайте, что ли, зарядное устройство. И что это вы меня все в сенях держите!
Я подумала – может, правда, это мой муж его пригласил пожить у нас, а мне забыл об этом сказать… А он не может позвонить моему мужу за подтверждением, поскольку у него разряжен телефон.
– А какой батюшка? – на всякий случай спросила я.
– Так из храма.
– Из какого храма?
– Да тут, у вас. Я шел мимо храма, дай, думаю, зайду. А там священник. Я у него и спросил, можно ли мне пока суд да дело перекантоваться у Олеси Александровны и у ее мужа, священника. Я у нее стихи писать учусь. Он и благословил.
– А вы сказали ему, что мы с вами не знакомы и что мы вообще вас не приглашаем? Что мужа моего дома нет, и это вообще будет выглядеть как‑то двусмысленно, если вы в его отсутствие заночуете у меня?
– Да он торопился. Служба начиналась. Ему некогда было в такие подробности вдаваться. Да и какая разница? Благословил – значит, благословил. Так дадите мне зарядное устройство или так просто будете сидеть? Вы благословение священника выполнять собираетесь? – в его голосе послышались уже командные нотки.

Я опешила, но тут же взяла себя в руки.
Ох, не был бы он такой нахальный, я бы еще подумала, как быть. Может быть, даже договорилась бы с соседями, которые в тот вечер были в Москве, но хранили у меня ключ от своей дачи… Но тут страх и удивление мгновенно переродились у меня в решимость, и я спросила:
– Как вас зовут и сами вы откуда?
– Я – Гриша. А сам – из Калуги.
– В общем, так, Гриша. Берите рюкзак и идите прямиком на станцию. Там возьмите билет до Калуги и – с Богом! Часа через два уже дома будете.
– А благословение? – нахмурился он. – Где же ваше христианское послушание? Где ваше смирение? Где милость? Может, это Сам Христос пришел к вам в моем обличье, а вы – гоните!
Честно говоря, внутри у меня что‑то дрогнуло. Я чуть было не спасовала. И тут он, воспользовавшись паузой, совершил роковую ошибку. Полез в карман рюкзака и достал оттуда пачку листков:
– Вот, вы же не все мои стихи еще прочитали!
И сунул мне в руки свои бездарные сочиненья.
И тут я поняла, кто передо мной. Я все поняла. То был, конечно, собственной персоной лукавый. Ангел сатанин. Искуситель. Бездарность. Попытался принять образ Ангела света, обольститель: «Был бездомен, и вы приютили Меня»! Не может Господь являться в образе наглого графомана!
Я засунула его листки обратно в карман рюкзака и сказала:
– Чужие стихи я читаю только в свое рабочее время в Литературном институте. Вам пора.
– Так мне и вправду идти? Рюкзак вам оставить?
– Зачем мне ваш рюкзак?
– Чтобы мне его сейчас не тащить! Ну, я как-нибудь потом за ним заеду.
– Нет, – отрезала я. – Не надо заезжать. Не надо брать для меня благословений. Не надо приходить без разрешения.
И я с облегчением заперла за ним калитку.
Но бывали случаи и моего собственного трусливого лукавства… Стыдный грех – произнести скороговоркой, мелкий грешок – раздуть и помусолить. Конечно, это происходит почти бессознательно, и понимание этого механизма приходит задним числом.
Итак, был Великий пост. У меня было благословение моего духовника причащаться каждую литургию. Но – готовиться. То есть бывать на вечерних богослужениях по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, каждый раз читать правило к Причастию, исповедоваться и получать разрешение священника. Без соблюдения этих условий причащаться мне было запрещено.
Мой духовник считал, что такой опыт в течение одного Великого поста мне будет чрезвычайно олезен. И благословение это он мне давал под свою личную ответственность – в те времена было не принято причащаться чаще, чем единожды в три недели, а то и в месяц.
Поэтому исповедоваться мне нужно было каждый раз у разных священников. Но поскольку я теперь подходила к исповеди практически через день, а все остальное время проводила в храме или в келейной молитве, то и круг грехов моих, повторяясь, был достаточно узок. На этом‑то я себя и поймала. Самооправдание! Лукавое преуменьшение тяжких прегрешений моих! Вот, пожалуйста: беру же я дома у своей невестки, жены моего брата, с которой мы живем вместе, то несколько картошек, то морковку, то луковицу – ТАЙКОМ. И НЕ ТОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЮ РАЗРЕШЕНИЯ, НО И ПОТОМ НИЧЕГО ЕЙ ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЮ. Хорошо, что батюшке я призналась, покаялась уже, что БРАЛА БЕЗ СПРОСА. А почему не сказала об этом так, как это называется? «ВОРОВАЛА!»
И с тяжким сердцем я отправилась в храм. Встретила в церковном дворе священника, говорю ему:
– Батюшка, дорогой, простите меня! Воровала я!
Он аж пошатнулся.
– И что же вы воруете? – сурово спросил он.
– Луковку воровала, – малодушно поскромничала я. И тут же отринула всякое самооправдание и, еле живая от стыда, выдохнула: – Продукты!
– После службы подойдите ко мне, – только и сказал он.
Я простояла всенощную и с замиранием души стала дожидаться батюшку – сейчас он мне еще и какую‑нибудь епитимью даст. И поделом! А ты не воруй, воровка!

Через некоторое время батюшка вышел из алтаря и направился прямиком ко мне. Я инстинктивно сжалась…
Меж тем его взор утратил былую суровость и теперь излучал сплошную благожелательность.
Я протянула ему руки для благословения.
– А вы случайно не в торговле работаете? – спросил он, участливо заглядывая мне в лицо.
– Нет, – ответила я.
– Очень жаль, – разочарованно вздохнул он.
Бедный батюшка! Это были такие полуголодные времена, когда ничего купить в магазинах было невозможно – можно было только достать. Вот он и подумал: почему бы этой раскаявшейся грешнице, воровавшей продукты, теперь не помочь батюшке достать в своей торговой сети да хотя бы дефицитной гречки, да хоть бы и длинненького риса, ну и сырку голландского – на разговленье. Не все ж у православных – пост да пост.
…Эх, плакала бы так лучше о подлинных грехах своих! О лукавстве своей луковки, о лицемерии своих морковок и фарисействе картофелин, начавших уже прорастать!
Как у меня пропал голос
Вообще‑то изначально голос у меня довольно посредственного качества и для пения не очень подходит. Но в детском саду я вовсю пела, и танцевала, и выступала на концертах, а в школьные годы и в юности училась играть на пианино. И все это продолжалось до тех пор, пока на нашу квартиру, которая была на последнем этаже, не обрушился поистине тропический ливень из чердачных прорвавшихся труб и не затопил нас, попортив мое любимое пианино. Несколько раз потом его реставрировали настройщики – меняли обивку на молоточках, натягивали новые струны, подправляли колки, настраивали, но оно вновь расстраивалось практически тут же после их ухода. Так что на этом мои музыкальные занятия оборвались.
Но петь мне все‑таки приходилось. Это было, когда мы с мужем и маленькими детьми жили летом на деревенском приходе во Владимирской епархии, где служил молодой иеромонах, бывший насельник Лавры. Это был 83–й год, храм – печальное зрелище: служить можно было лишь в одном из его приделов, а остальные пребывали в аварийном состоянии, и никто не собирался его ремонтировать – советской власти это было не нужно, деревенское население было нищим, да и в церковь не очень‑то захаживало: на всенощной под воскресенье да на литургии едва – едва набиралось двадцать старух.
Батюшка служил один, некому было читать и петь на клиросе. Ну вот он меня и поставил пономарем да певчей.
Потом я стала жить в Переделкине и ходила в тамошний храм Преображения Господня. А поскольку мы с моим мужем были в дружественных отношениях с настоятелем, то я попросила его благословения читать и петь по будням, со старухами. Вскоре я вполне вписалась в нестройный старушечий хор. Мало того – снискала там даже некоторое признание среди прихожан. Во всяком случае, ко мне подходили богомольные старушки и говорили:
– Как хорошо ты читаешь! Внятно, понятно, все слышно. Спаси тебя Господи.
А то и знакомые по храму женщины отмечали:
– Как вы, оказывается, хорошо поете! Какой у вас голос!
И вот мне уже доверяли читать поминальные записки, кто‑то даже просил помянуть на Псалтири своих дорогих покойников и выкладывал вместе с бумажкой – пожертвование.
Словом, я была очень рада своему открывшемуся вдруг поприщу. Ибо очень сладко, «земную жизнь пройдя до половины и очутившись в сумрачном лесу», начать какое‑нибудь совершенно новое дело. Так, я пробовала было рисовать и даже, когда мой муж уехал в командировку, купила себе краски, кисти, холсты, подрамник, после чего дни и ночи напролет самозабвенно рисовала, воистину – поверх барьеров, как Бог на душу положит, ибо не знала никаких правил, не имела ни малейших навыков, ни даже мизерных способностей: ничего, кроме голого вдохновенья.
Но мой муж, вернувшись, даже не захотел смотреть на мои картины.
– Если женщина под сорок лет забрасывает все свои дела и начинает рисовать, не умея при этом изобразить даже зайчика, даже домик с трубой, то это первый признак шизофрении.
Вот так.
Поэтому своему певческо – чтецкому успеху, пусть хоть в столь тесном, непритязательном и специфическом кругу, я была безмерно рада.
Мало того – мой голос словно бы вырос и окреп и упрочился по мере того как он стал звучать в стенах храма. А уж когда я читала свои стихи, тут уж многие признавали, что выходило и благозвучно, и объемно.
Даже Вероника Лосская, специалист по творчеству Марины Цветаевой и жена отца Николая Лосского, призналась:
– Как ты необыкновенно читаешь стихи! Это просто благозвучное пение…
Но к чему я веду? А к тому, что в начале 90–х в Москве стали открываться монастыри. И в один из них, неподалеку от моего дома, перевели из Лавры моего друга – игумена, с которым мы были знакомы уже очень давно и к котором)' я часто ездила в Лавру. А кроме того – туда же определили и другого моего старого знакомца, еще по Литературному институту, – священника – бельца. Да еще и наместник монастыря устроил там такие благоговейные, проникновенные и духоносные богослужения с ангельским пением, с подробными исповедями и емкими мудрыми проповедями, что я стала ходить на службы исключительно в этот монастырь.

Меж тем приближалась Пасха, и мой друг – игумен вместе с другом – бельцом, встретив меня после пасхального богослужения, пригласили следующим вечером отметить вместе этот чудесный праздник. Но у меня дома был в это время ремонт. И поэтому мой муж – священник, мой сын, тогда без пяти минут диакон, и я приехали в монастырь и воссели в келье за угощением и веселящим сердце напитком.
Слово за слово, притча за притчей, поучение за поучением, история за историей, так мы досидели допоздна, пока наконец мой друг – белец не устроился за старинной фисгармонией, которая стояла в келье у игумена. И вот тут началось самое главное.
Запели монашескую песню про самарянку:
– А я ведь са – ма – ря – а-нка!
Потом пошла казацкая песня со множеством куплетов, где повторяется фиоритурное: «это не мое, это не мое».
– Вынесли ему – у – у, вынесли – и-и ему – у, вынесли – и е – ему – у-у
Саблю во – о-о – о-стру – ю!
Словом, голоса все крепчали, набирали силу, объем, пружинили, звучали самозабвенно и радостно, удерживали терцию, сходились в контрапункте, и душа всеми фибрами чувствовала – воистину: что добро? И что красно? Но еже житии братии вкупе!
Наконец церковно – приходской и народный репертуар подыстощился – ну так и советские песни есть совсем даже неплохие. А мой друг по Литинституту, а ныне священник, вон как играет, даже и не смотрит на клавиши – пальцы у него сами бегают. Ну и грянул он, игриво так, задорно. Даже и левой ногой в такт притоптывает. А мой друг – игумен в звонкие ладони бьет.
Душа распахнулась на это открытое поющееся «а», которое даже лучше специально подчеркнуть и вывести «э – а! э – а!», выпорхнула из нее птица Радость, запорхала по монашеской келье:
– Вышел я в такой‑то сад.
Там цыгэ – анка – молдавэ – анка
Собирэ – ала виноград!
…И тут дверь кельи тихонько приоткрылась и в ней показалась голова наместника.
Его даже не сразу и заметили:
– Я крас – нею, я блед – нею…
И лишь потом все смолкло.
– Так – так, – сказал он, – Вы хоть знаете, который час? Второй! Стены в нашем монашеском домике вон какие тонкие – дрожат от вашего пения. Братия уснуть не может. Из окрестных домов люд повысовывался – что там у монахов за дискотека?

В общем, оборвался наш праздник. Уходя с позором, мы сказали наместнику:
– Простите! Простите!
И, втянув голову в плечи, убрались восвояси.
…Через несколько дней я стояла перед крестом и Евангелием на исповеди у отца наместника, которого очень и любила, и почитала.
– Ничего не забыли? – спросил он, когда я перечислила мои грехи.
– Кажется, нет.
Он накрыл меня епитрахилью, прочитал разрешительную молитву, я протянула ему для благословения обе руки…
– А еще вы любите, – не выдержал он, – приходить по ночам в мужской монастырь, пить там вино и во всю ивановскую петь песни, ведь так?
– Простите, – пролепетала я.
…Ну вот. И с тех пор голос у меня – пропал. Ничего не могу спеть. Даже и Символ веры на литургии не дотягиваю до конца… Вдруг замыкает что‑то там, внутри, а снаружи раздается только потрескивающий, хрипловатый звук…
И правильно! Не ходи в мужской монастырь по ночам! Не пей с монахами вина! Не пой там песен дивных и прекрасных!
Деньги для Саваофа
Когда мой муж стал священником в середине девяностых, народ был совсем религиозно не просвещен, а подчас и вовсе дик. И с отца Владимира, а заодно и с меня, стали спрашивать «за всю Православную Церковь» во все времена ее существования: почему она гнала протопопа Аввакума, почему участвовала в «сергианстве», почему не раздала нищим по рублику из тех денег, который пошли на строительство храма Христа Спасителя и т. д. Но и этого мало – круг претензий к нам сильно увеличивался за счет братьев католиков: а как же Крестовые походы? А Галилея зачем сожгли? А Жанна д'Арк!
Православных и католиков среднестатическое сознание бывшего советского человека не различало, как двух китайцев, которые казались на одно лицо…
Как‑то раз мы пошли с моим мужем в гости, и там слово за слово очень интеллигентная дама, искусствовед, вдруг сказала:
– Нет, в Православную Церковь я теперь ни ногой! Как‑то раз мы проходили с подругой мимо храма. Дай, думаем, зайдем. Только вошли, и тут же прямо к нам как направится священник, идет, да еще на нас дымящимся кадилом машет: мол, пошли отсюда, пошли! Вот я вас! Дым коромыслом! Ну мы отпрянули и – оттуда бегом. А за что он нас гнал?
– Так он кадил образу Божьему, который в вас, – пояснил мой муж.
– Вовсе не образу Божьему! Он замахивался! Ударить хотел! Выгонял!
И много у моего мужа было, особенно поначалу, скорбей, недоумений и просто курьезных случаев.
Пришел как‑то к нему на беседу молодой человек с хвостиком – по всему видно: монашествующий. Но не «профессионал» – не монах, а, так сказать, – любитель и по всему – самочинец. И говорит:
– Батюшка, как так получается, что масоны уже не стесняются и повсюду свои знаки расставляют. Что уж говорить – вон даже на иконе Преображения Господня в Благовещенском соборе, в Московском Кремле, – проглядывается перевернутая пентаграмма. А на Суздальском соборе – пятиконечные звезды… А на центральном куполе Архангельского собора – так там тоже… Они – везде, везде!
– Ох, – вздохнул мой муж, – не надо такое уж значение этому придавать – разрежьте яблоко: там вы тоже такую звезду увидите…
– Ну вот, пожалуйста, – оживился молодой человек, – а я о чем говорю – да они повсюду, эти масоны, вон даже в яблоко и то залезли. Интересно, как это им удается?
В другой раз пришел к нему как‑то один чудик и произнес:
– А у меня грехов нет.
– Как это нет?
– Да так! Нет грехов. Педагог я.

Мой муж растерялся. Подчас его смущало даже то, что порой приходят к нему на исповедь немолодые уже женщины, пожившие много лет в атеистической советской действительности, знавшие, как говорится, полеты чувств и горесть падений, и каялись они только в том, что у них «нет чистой молитвы». Такие признания казались ему верхом гордыни и лицемерия: то есть во всем эта исповедница считала себя совершенной – всем хороша: и кротость у нее, и смирение, и терпение, и любовь к ближним, и жертвенность, и милосердие, а одного только не хватает – чистой молитвы.
Но с таким случаем, как этот педагог, он сталкивался впервые.
– Ну, даже у святых были грехи, – начал он, – даже им было в чем каяться и о чем сокрушаться! Единый безгрешный – это только Господь!
– Может, у святых были грехи, а у меня нет! – заявил педагог.
– Да? Так, может, вы и в самом деле – святой, – Мой муж решил, что, возможно, такое доведение этой мысли до абсурда несколько отрезвит исповедника.
Но тот не поведя бровью кивнул:
– Может быть. Я и сам об этом уже думал.
Мой муж чуть не поперхнулся, закашлялся даже, потом подумал, что педагог, должно быть, шутит, юродствует, испытывает его, поэтому он двинулся дальше по тому же опасному пути, руководствуясь логикой абсурда:
– Тогда, раз вы святой, может быть, мы на вас молиться будем? Приносите свою фотографию, мы ее вставим в иконостас… Молебен вам послужим! Свечи зажжем! Поклонимся!
Маразматичность такого предложения, казалось, должна была все расставить на свои места – педагог теперь уже мог бы и догадаться, что священник раскусил его юродство, и пришел бы наконец в столь подобающее для исповеди покаянное состояние…
Но тот стоял перед ним и невозмутимо кивал, что‑то наматывая себе на ус.
– Раз вам не в чем каяться, тогда ведь вам нет необходимости и в исповеди, и в том, чтобы я разрешал вас от грехов, – сказал священник. – Вы, значит, какой‑то уникальный человеческий экземпляр. Никогда на земле не рождалось ничего подобного!
Но – о ужас! – подобное абсурдное предположение педагог воспринял в буквальном смысле!
И что? Мой муж уже успел забыть о странном исповеднике, как через некоторое время тот неожиданно появился с большой папкой в руках.
– Вот, – сказал он, протягивая папку.
– Что это? – удивился мой муж.
– Мои фотографии. Увеличенные. Как вы и просили. Для иконостаса. Чтобы молиться…
Далее последовала немая сцена.
…Часть своего рабочего времени мой муж проводил в пресс – службе Московской Патриархии в Чистом переулке. И вот идет он туда как‑то раз и видит, что все пространство перед воротами Патриархии запружено народом: вроде как демонстрация или «стояние».
Увидели его – в рясе, с крестом и стали умолять:
– Батюшка, проведите нас к Патриарху, а то нас милиция не пускает.
– А что такое?
– Вот тут у нас – подписи, воззвания.
– А чего вы хотите? К чему взываете?
– Мы добиваемся, чтобы Патриархия срочно канонизировала Григория Гробового. Он мертвых воскрешал, а на него открыли уголовное дело. А ведь он святой. Вот мы и пришли требовать его немедленной канонизации.
Муж мой вспомнил, что этот Гробовой был какой-то то ли сектант, то ли вообще мошенник, то ли и то и другое: он пообещал убитым горем матерям воскресить их детей, которых убили в Беслане террористы, и уже взял с них за это огромные деньги. Но глядя на этих неистовых поклонников Гробового, которые уже готовы были разнести Патриархию в пух и прах, мой муж понял, что никакие аргументы против их гуру не будут ими услышаны, а лишь еще больше распалят страсти. Поэтому он сказал:
– А что – разве Гробовой умер?
– Как это умер! – возмутились они. – Он жив!

– Тогда его нельзя канонизировать! – ответил мой муж, радуясь, что ловко увернулся от дальнейших разговоров. – Канонизация совершается лишь посмертно.
– А при жизни – что, никак нельзя?
– Нельзя! Не положено, – строго сказал он. – Вот умрет, тогда приходите.
– Так, может, он и не умрет никогда! Может, он бессмертен! – заявила в мистическом восторге одна из женщин.
– А – а! Тогда его нельзя и канонизировать, – заключил мой муж.
И – странное дело: только что они шумели, возмущались, а тут вдруг притихли и быстренько удалились в недоуменье – им надо было срочно взвесить и переварить эту информацию, чтобы выбрать для своего гуру наиболее подходящее, чтобы решить вопрос: что для него лучше – канонизация или бессмертие?
А вскоре туда же, в Чистый переулок, к моему мужу пришел лысый дедок и положил перед ним на стол свою визитную карточку. На ней было написано: Бог Саваоф.
– Ну, здравствуйте, – сказал мой муж. – Зачем пожаловали?
– Мир надо спасать, – горестно вздохнул посетитель. – Мир‑то – гибнет!
– Так вы и примите меры, – посоветовал ему мой муж. – Кому как не вам.
– Да вот и надо бы это обмозговать, – стал делиться своими замыслами пришедший, – В Иерусалим собираюсь, а не то ведь погибнет мир‑то!
Мой муж сочувственно покачал головой.
– Но – проблемы! – всплеснул руками гость.
– Как проблемы? У вас?
– Ну да. До Иерусалима ведь надо как‑то добраться!
– Но вам, я думаю, это не составит труда…
– Это если деньги на билет есть, – доверительно пояснил гость. – А если их нет? А мир – погибает! Так что – пусть себе гибнет, да?
Муж промолчал.
– Жалко мир‑то! А я его с такой любовью творил! Так и хочется им сказать: что же вы наделали, эх, подлецы, подлецы! – он даже сжал небольшой сухой кулачок и энергично потряс им в воздухе.
Моему мужу стало жутковато.
– Вот я и пришел в Патриархию, – гость перешел к делу. – Вы вроде бы должны быть заинтересованы, чтобы мир‑то не погиб, так?
– Ну да, – кивнул мой муж.
– Так не тяните кота за хвост, дайте же мне на билет в Иерусалим! Где у вас тут бухгалтерия?

И мой муж с облегчением указал ему путь.
…Недавно, убирая у него в кабинете и складывая в коробку визитные карточки, я прочитала на одной из них жирным шрифтом: «Бог Саваоф. Под именем курсивом значилось: Творец. И в левом нижнем углу – адрес. Коротко и понятно: Иерусалим, гора Сион».