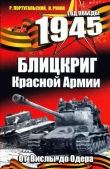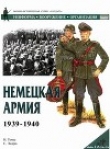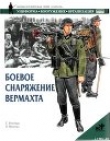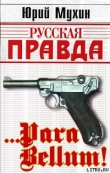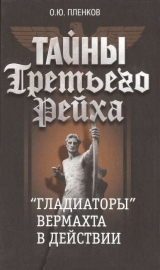
Текст книги "«Гладиаторы» вермахта в действии"
Автор книги: Олег Пленков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Автора идеи «серповидного разреза» Манштейна первоначально обвинили в авантюризме и сумасбродстве, так как, по расчетам немецкого Генштаба, в 1940 г. выиграть войну на Западе было невозможно: противник окопался за 400-километровой линией Мажино, в танках соотношение сил было в его пользу – 4204 против 2439, в самолетах – 4469 против 3578. Часто указывают на то, что линия Мажино не была продлена до моря, потому что бельгийское правительство сочло бы это недружественным актом. Основная причина заключается, однако, в том, что у французов не хватало людей, чтобы снабдить линию Мажино достаточным гарнизоном и в то же время иметь полевую армию. Если бы полевая армия в 1940 г. была нормально механизирована, морально здорова и имела хорошее руководство, то линия Мажино не снискала бы такой дурной славы. Она была щитом, поэтому нужен был меч, а не другой щит до Ла-Манша. Но французская полевая армия была «не мечом, а метловищем», как писал Джон Фуллер{186}. Ей чрезвычайно вредила убежденность в неприступности линии Мажино. Небезынтересно отметить, что оборонительные сооружения линии Мажино были прорваны за несколько часов в результате обычной атаки немецкой пехоты, без поддержки танков. Как указывал генерал Меллентин, в современной войне вообще неразумно рассчитывать на позиционную оборону, а что касается линии Мажино, то ее сооружения имели лишь ограниченное местное значение{187}.
Французы готовились к позиционной войне, а не к войне, носящей характер динамичной стабильности.
В результате, как только фронт был прорван, моральный дух французов оказался сломленным. Как указывал в 1943 г. один из участников французского Сопротивления: «Прежде всего, целиком отсутствовало желание рисковать, и еще раз, как многократно встречалось в истории, отказ идти на разумный риск привел к невиданной катастрофе. Точнее, под предлогом ничем не рисковать пожертвовали всеми представившимися возможностями»{188}.
Численное превосходство союзников было сведено на нет неожиданностью и энергией немецкого наступления – никогда прежде в военной истории эффект неожиданности от применения новых методов войны (самостоятельного использования танков при поддержке самолетов) не был столь ошеломляющим, как под Седаном в мае 1940 г. На самом деле наступление на Западе развивалось исключительно быстро – в течение десяти дней немецкие передовые части вышли к Ла-Маншу, вбив в районе Абвиля мощный клин между британской армией и большей частью французской армии. Даже немецкое военное руководство было ошеломлено успехом, что и способствовало окончательному утверждению идеи танкового прорыва Гудериана. Манштеин и Гитлер боялись обнажить фланги наступающих танковых колонн, но Гудериан, вопреки приказу, начал движение к побережью строго на запад. Это движение Гудериана вызвало лавинообразный эффект, поскольку его соседи, опасаясь за свои фланги, также оказались вовлечены в наступление. Высшее командование на некоторое время утеряло контроль над происходящим, танковая атака стала развиваться под давлением собственной динамики, и операция вошла в то русло, о каком мечтал Манштеин: немецкий танковый удар, не обеспеченный поддержкой пехоты, приобрел вид искомого «серповидного разреза». Утром 17 мая Гудериан явился на встречу с генералом фон Клейстом, который начал в резкой форме упрекать его в игнорировании замысла командования. Гудериан ответил предложением об отставке, которая была принята. Впрочем, вскоре генерал-полковник Лист ликвидировал инцидент, а Гудериан взял отставку обратно. 20 мая батальон Шпитта из 2-й танковой дивизии вышел через Нуфель к Атлантическому побережью; это было первое подразделение корпуса Гудериана, вышедшее к Атлантике{189}. То, что планировал в свое время Шлиффен и то, чего не смогли добиться немцы в Первую мировую войну, было реализовано танкистами Гудериана за какие-то десять дней.
В разгар немецкого наступления у Гитлера отказали нервы (или он рассчитывал создать предпосылки для переговоров с англичанами об условиях мира), и он отдал приказ остановиться. Танковые отряды вермахта встали у Дюнкерка, что и спасло от плена 370 тысяч английских и французских солдат, которые, побросав вооружение, эвакуировались на Британские острова. Этим приказом Гитлер принизил успех Манштейна с уровня стратегического до уровня оперативного. Позже британский премьер-министр Уинстон Черчилль высказал предположение, что Гитлер остановил наступление танковых частей на Дюнкерк, стремясь предоставить англичанам лучшие позиции для выгодного мира. Гудериан, как участник боев; считал, что более правильным является предположение, что Гитлер и Геринг полагались на превосходство немецкой авиации, могущей воспрепятствовать эвакуации английских войск морем. Гитлер заблуждался, и это заблуждение имело для немцев опасные последствия, ибо только пленение английской экспедиционной армии могло бы укрепить намерения Великобритании заключить мир с Германией или повысить шансы на успех возможной операции по высадке десанта в Англии{190}. Немецкий генерал Фридо фон Зенгер писал в мемуарах: «Предположение, что Гитлер сознательно позволил британскому корпусу эвакуироваться, доказать невозможно, но оно вполне вероятно»{191}.

Соотношение сил на Западном фронте
Таким образом, успех в мае 1940 г. имел следующие причины: невероятное стечение благоприятных для вермахта обстоятельств, невероятные ошибки союзников, невероятная самодеятельность немецкого генерала (Гудериана), который поставил перед свершившимся фактом не только противника, но и собственное руководство. Успех немцев во Франции был основан не на численном превосходстве или превосходстве в вооружениях, а на таком распределении немецких дивизий, что они (как в шахматах) появлялись в подавляющем количестве в слабой точке фронта союзников. Массированное и хорошо скоординированное применение танковых соединений обеспечило прорыв фронта; этот успех затем последовательно развивали{192}. В процессе развития первоначального успеха большое значение имела самостоятельность отдельных командиров вермахта. Манштейн указывал, что главным секретом успеха немецкой армии была самостоятельность, в такой степени не предоставлявшаяся командирам ни одной армии мира – вплоть до младших командиров и отдельных солдат пехоты{193}. Правда, участник боев во Франции, немецкий офицер (впоследствии генерал) Фридо фон Зенгер писал, что ввиду очевидного разгрома французов и англичан, немецкая пехота в 1940 г. не имела возможности продемонстрировать, была ли ее наступательная мощь вследствие упомянутой самостоятельности такой же, как в 1914–1918 гг.{194}
Что касается неудач союзников, то они были прежде всего неудачами стратегическими – французские армии пришли в полное замешательство, генералы потеряли контроль над коммуникациями и передвижениями целых армий. Трудно обвинять в слабости и трусости французские или английские войска – ни один солдат в подобной ситуации не смог бы успешно сражаться.
«Чудо танкового прорыва под Седаном» и привело к возрождению «чудодейственного» рецепта Каннского окружения. Эта победа привела к возрождению ложной идеи о том, что превосходящую в промышленном отношении державу можно победить в скоротечной войне. Эта логика и легла в основу планирования похода на Россию. Так же, как западные державы были переоценены Гитлером в 1940 г., точно так он в 1941 г. недооценил и Красную армию. В Первую мировую войну немцам не удалось победить западные державы, а только Россию. Во Вторую мировую войну все было наоборот: казалось, после победы на Западе СССР будет повергнут очень быстро. Это соответствовало опыту Первой мировой войны. Казалось, ничего сумасбродного в этих представлениях Гитлера не было…
Гитлер сразу интуитивно понял значение плана, разработанного Манштейном, и настоял на его принятии. СД передавала, что в немецком обществе было распространено убеждение в огромном личном вкладе Гитлера в разработку и осуществление операции против Франции{195}. К началу Французской кампании Гитлер выставил на Западе 137 дивизий вермахта: это было на 30 дивизий меньше, чем у противника, но он не сомневался в успехе. Позднее генерал Йодль писал: «Только фюрер был в состоянии умственным взором охватить все аспекты операции – и генштабистские, и войсковые, и пропагандистские. Этот его дар выказывал в нем не только хорошего генштабиста и военного специалиста, но и крупного стратега»{196}. Часто Гитлер выгодно смотрелся даже на фоне своих военачальников, которые в иных сферах ведения современной войны опережали советских, английских, французских и американских генералов на 20–25 лет. Конечно, идея независимой танковой войны – это не идея Гитлера, а план войны против Франции – это не план Гитлера, но без него Гудериан и Манштейн (они еще позаимствовали и прогрессивную доктрину воздушной войны итальянского генерала Джулио Дуэ) не смогли бы утвердить свою точку зрения: они не были самыми старшими офицерами (Генштаб и руководство сухопутными силами было против плана Манштейна), и над ними были начальники с ограниченными и устаревшими взглядами. В конце концов, во Франции (Шарль де Голль[10]10
Шпеер в своих мемуарах передавал следующее высказывание Гитлера: «Я неоднократно перечитывал книгу полковника де Голля о возможностях современного ведения боя моторизованными соединениями и много из нее почерпнул». См.: Шпеер А. Воспоминания. Смоленск, 1997. С. 245.
[Закрыть]) и в СССР (Михаил Тухачевский) также высказывались подобные идеи о мобильной танковой войне, но политическое руководство пропускало их доводы мимо ушей. Гитлер же с присущим ему инстинктом уловил в этом перспективную линию и реализовал ее. Он первым из государственных деятелей понял, что в отличие от XIX в., когда самыми мобильными были военно-морские силы, в XX в. сухопутная армия гораздо быстрее перемещается по суше, и ее маневренность превышает морскую. Именно по этой причине Гитлер был буквально заворожен моторизацией, автомобилем и танком{197}.
Конечно, немецкого удара через холмистые и труднопроходимые Арденны враг ожидал меньше всего. Общее руководство группой армий «А», наступавшей на Францию, осуществлял Рундштедт; группа армий «В» во главе с Федором фон Боком (в состав его группы входила 6-я армия генерал-полковника фон Рейхенау и 18-я армия генерала фон Кюхлера{198}) за 5 дней добилась сдачи Голландии (при этом большое значение сыграло то обстоятельство, что ни голландское, ни бельгийское правительство не пустило союзные войска до начала боевых действий), а группа армий «С» имела задачей отвлекать внимание неприятеля на линии Мажино.
Войска Рундштедта, насчитывавшие 44 дивизии, начали наступление 10 мая. 12 мая немецкие танки (3 из 10 немецких танковых дивизий были укомплектованы чешскими танками) перевалили через холмы и пересекли французскую границу, а 13 мая переправились через Маас. 1-й танковый полк полковника Балька из 1-й танковой дивизии вышел к Маасу уже 12 мая. Офицеры и солдаты в точности знали, что от них требуется: они несколько месяцев готовились к этой атаке, изучали карты и аэроснимки местности. На следующий день при эффективной поддержке авиации, подавившей французскую артиллерию, Бальк переправился на другой берег и овладел высотами на южном берегу Мааса{199}. Столь же энергично действовали и соседи Балька. Так, взятие бельгийского форта Эбен-Эмель германскими парашютно-десантными войсками буквально произвело сенсацию, став классическим примером проведения такого рода операций. С транспортных самолетов сбросили устройства, имитирующие звуки сражения. Бельгийцы оказались введены в заблуждение и стали стягивать в предполагаемый опасный район войска, отсутствие которых на важных оборонительных рубежах создало немцам немаловажное преимущество{200}.
В итоге, уже 20 мая немецкие войска вышли к Ла-Маншу – правый фланг франко-английского фронта с лучшими дивизиями в Бельгии был отрезан от тыла, как и предписывал в свое время план Шлиффена. СД передавала в «Вестях из рейха», что известие о капитуляции полумиллионной бельгийской армии (28 мая) произвело огромное впечатление на немецкую общественность, которая надеялась, что это негативно повлияет на состояние и боеспособность английской и французской армий. Среди немцев было распространено убеждение, что на этот раз англичанам не удастся избежать окружения и капитуляции{201}. Интересно, что во время этой наиболее удачной из всех кампаний вермахта города бомбили редко и мало, экономические ресурсы неприятеля пострадали незначительно, и людские потери – как немецкие, так и союзников – были минимальными. Немцы сознательно старались не наносить ущерба национальным памятникам{202}. В разгар французской кампании Гитлер осведомился о потерях в подчиненных Гудериану четырех дивизиях: 150 убитых и 700 раненых. Он был удивлен столь незначительными потерями и для сравнения привел цифры потерь его полка «Лист» (по имени погибшего командира) во время Первой мировой войны: после первого дня боевых действий потери достигали 2000 убитыми и ранеными. Гудериан объяснил такую разницу эффективностью танков{203}.
Первая фаза операции «серповидного разреза» этим завершилась, а с начала июня вермахт перешел ко второй фазе – к фронтальному удару по линии Сомма-Маас. Эта фаза завершилась 24 июня подписанием перемирия с Францией. Муссолини напрасно упрашивал Гитлера напасть на тылы французской армии в Альпах и продлить переговоры о перемирии до тех пор, пока итальянцы не возьмут Ниццу. Гитлер не согласился даже на совместные с итальянцами переговоры о перемирии с Францией. Для того чтобы не подтолкнуть французский флот в объятия англичан и не способствовать переходу к англичанам французских колоний, Гитлер приказал оккупировать только половину Франции. Французские ВМФ и ВВС не сдавались, но лишь демобилизовывались; их вооружение передавалось победителям. Для поддержания порядка лишь некоторые французские воинские части остались вооруженными.
Во Франции солдаты вермахта вели себя на редкость корректно, заботились об общественном порядке, старались не нарушать функционирование экономики. Сотни тысяч рабочих из Голландии, Франции, Бельгии, Польши и Чехословакии привлекала в Германии хорошая зарплата и возможность покончить, наконец, с положением безработных. В Германии они видели более совершенную, чем дома, социальную систему; государство производило впечатление безусловно прогрессивного. Поэтому до конца 1941 г. в Европе преобладали германофильские настроения. Только серия поражений на Востоке постепенно изменила отношение немецких оккупантов на Западе к местному населению{204}.
Победа на Западе была расценена немцами как окончательное преодоление негативного опыта и неудач Первой мировой войны, что вызвало в Германии эйфорию, равную по масштабам эйфории от Седанской победы и объединения Германии в 1871 г. В военном отношении победа вермахта действительно была выдающимся достижением. Английский историк Говард таким образом оценивал итоги кампании: «В 1939–1940 гг. немцы достигли почти уникальных успехов, если учесть, что практический опыт у них был минимальный. Они сумели по-настоящему оценить значение технических новинок для военной науки, взяв их на вооружение и создав новую доктрину. Подыскать в истории аналогичные примеры трудно. Обычно обе стороны начинают одинаково и делают ошибки»{205}. Французский историк Марк Блок, служивший офицером, так объяснял причины поражения французов в 1940 г.: «По сравнению со старым рейхсвером, войска нацистского режима выглядели более демократическими, а пропасть между офицерами и солдатами – не такой непреодолимой. Триумф Германии был триумфом интеллекта, что делает его особенно впечатляющим: казалось, что две противоборствующие стороны принадлежат разным историческим эпохам. Наше понимание войны было сродни пониманию дикарей в колониальной войне, только именно мы были в роли дикарей»{206}. Это так, поскольку еще в 20-е гг. генерал фон Зект представлял будущую войну как сражение между небольшими профессиональными армиями, в которые войдет элита вооруженных сил: пикирующие бомбардировщики, танковые части и воздушно-десантные войска. Пехота же, сформированная массовым призывом, будет играть подчиненную роль. Ход войны во Франции подтвердил, что фон Зект был абсолютно прав. Никто не смог предугадать, что разумное сочетание современных видов вооружений так быстро приведет к успеху.
Победа 1940 г. смыла позор поражения 1918 г. и в полной мере восстановила честь германского оружия, и в этот момент нацистский режим и немецкий народ были настолько едины, что оппозиция даже теоретически была немыслима. Главной причиной поражения англичан и французов была порожденная нацизмом невиданная динамика, боевой дух и боевая мораль, оплодотворившие старые традиции немецкой армии. Интересны оценки немецкой общественностью боевых качеств английских «томми» (Tommie's) и французских «пуалю» (Poilu – «волосатый»; так во Франции называли фронтовиков): СД передавала, что порой «томми», под сильным огнем добиравшиеся до своих кораблей, производили благоприятное впечатление, а иногда их представляли трусливо разбегавшимися при первом появлении вермахта. Интересно, что генерал Эрих Маркс (Mareks) писал вскоре после окончания французского похода: «Человеческий фактор имел гораздо большее значение, чем техника – это уже были не те французы, с которыми мы воевали в 1914–1918 гг. Впечатление было такое, что революционная армия 1796 г. воевала против коалиции врагов, только на этот раз санкюлотами были мы»{207}. СД передавала, что немецкое общественное мнение более ценило боевые качества французов; за цепкость и готовность драться до последней капли крови особенно ценили чернокожих солдат французской армии. Впрочем, геббельсовские «страшилки» о зверствах французских солдат, как передавала СД, также производили сильное впечатление на немецкую публику{208}.
Характерно, что наибольшее впечатление на немецкую общественность (по сообщениям СД) произвело известие о мгновенном захвате Вердена (его с ходу взяла 71-я пехотная дивизия генерала Карла Вайзенбергера{209}) – у всех еще были живы воспоминания о «Верденской мясорубке», которая в Первую мировую войну стоила жизни 300 тысячам немецких солдат. А когда 14 июня пришло известие о падении Парижа, восторг стал беспредельным{210}. На будущее развитие событий немцы в эти дни смотрели с необыкновенным оптимизмом; они надеялись, что скоро Франция и Англия капитулируют, а война закончится. Фридрих фон Меллентин писал в мемуарах, что лето 1940 г. было для вермахта самым счастливым временем за всю войну: «Мы одержали такие победы, каких не знала история со времен Наполеона; Версаль был отмщен, перед нами уже открывались перспективы прочного и почетного мира. Наши войска обосновались во Франции и Нидерландах, и потекла спокойная и размеренная солдатская служба, совсем как в мирное время»{211}.
После завершения операций на Западе в руки вермахта попали огромные трофеи: вооружение, боевая техника и автотранспорт 6 норвежских, 18 голландских, 22 бельгийских, 12 английских и 92 французских дивизий. Трофейным автотранспортом было обеспечено 92 дивизии вермахта. Потери вермахта с 1939 г. до весны 1941 г. были небольшими – 2–3% от общего состава армии (93 736 солдат) – и никак не повлияли на боевую мощь немецкой армии. Потери немцев в 1916 г. только в битве под Верденом или на Сомме в 3–5 раз превышали людские потери в трех кампаниях – в Польше, в Западной Европе и на Балканах{212}.
По всей видимости, победа вермахта во Франции была самой громкой военной победой в XX в., по крайней мере, именно так ее воспринимали в Германии; отношение к армии, свершившей невозможное, было в немецком обществе соответствующее. Такого успеха не ожидал никто – даже Гитлер, который во время операции по несколько раз переспрашивал стремительно двигавшегося со своими танкистами командующего XIX-м танковым корпусом генерала Гудериана, а действительно ли он находится там-то и там-то, не перепутал ли генерал непривычных для немецкого уха французских названий; в итоге под горячую руку фюрер даже снял Гудериана за самовольное превышение темпов наступления, правда, и полная реабилитация не заставила себя долго ждать. Сталин же, опираясь на опыт Первой мировой войны, твердо рассчитывал, что немцы надолго увязнут во Франции, и это позволит нашей стране укрепить обороноспособность. Эти расчеты оказались пустыми: Гитлер, втянутый в войну на Западе не по своей инициативе и триумфально расправившийся со всеми затруднениями, ни на секунду не упускал из виду своей главной цели – захвата «бесхозных и запущенных» (как он выражался), но богатых ресурсами и плодородных советских территорий.
После окончания войны на Западе Гитлер в очередной раз декларировал «вечный мир»: с Западом у Гитлера больше не было никаких счетов. Но, как известно, Черчилль не пошел на сепаратный мир и объявил о войне до победного конца. В глазах же немецкой общественности и вермахта эти гитлеровские предложения оставили впечатление действительного стремления к миру. Под воздействием пропаганды в немецком сознании гитлеровская агрессивная война почти мистически трансформировалась в представление о ведении Германией войны оборонительного характера и, что самое поразительное, это представление сохранилось до конца войны. Отсюда вытекало особое положение армии в немецком сознании – как защитницы и беззаветной хранительницы национальных ценностей, интересов и идей. После окончания французской кампании в одном из самых впечатливших немецкую публику документальных фильмов нацистской пропаганды показывали местечко Domremy – родину Жанны д'Арк. Сюжет был построен на том, будто бы Орлеанская дева дает тайный знак солдатам вермахта, что их борьба против еврейско-негритянского разложения старой Франции ей импонирует, и она благословляет немецких солдат{213}.
В этой связи весьма примечательна роль Гитлера в качестве военного руководителя страны и полководца.
Между последней «цветочной войной» (Blumenkrieg) – захватом Чехии – и началом Второй мировой войны состоялся 50-летний юбилей Гитлера. Пресса писала о «самом значительном государственном деятеле всех времен и народов». К 20 апреля 1939 г. Гитлер был канцлером уже 2290 дней; ему оставалось еще приблизительно столько же – 2188 дней, которые выпали на войну. С 1 сентября 1939 г. Гитлер сменил коричневую партийную униформу на свободно сидящую на нем униформу вермахта, которую он поклялся не снимать до конца войны: «Обращаясь с призывом к вермахту и требуя от немецкого народа жертв, я имею на то право, ибо я и сам сегодня точно так же, как и прежде, готов принести любую жертву. Я не требую ни от одного немца чего-либо иного, кроме того, что более четырех лет в любой момент был готов добровольно сделать сам. Нет в Германии такого бремени, которое я тотчас бы не принял на свои плечи. Вся жизнь моя отныне целиком и полностью принадлежит моему народу. Я не хочу ничего иного, кроме как быть первым солдатом германского рейха. Вот почему я вновь надел мундир, который с давних времен был для меня самым святым и дорогим. И сниму его только после победы, ибо поражения я не переживу»{214}. Несмотря на несомненное умение Гитлера преподнести себя в выгодном свете, о чем свидетельствует приведенное высказывание, его ближайшее военное окружение оставило о нем как о стратеге и полководце самые противоречивые суждения. Весьма прохладно к нему относившийся начальник Генштаба Франц Гальдер отмечал, впрочем, его своеобразный интеллект, способность быстро усваивать неизвестные ему ранее вещи, удивительную фантазию и силу воли. Генерал-полковник Йодль отмечал, что если в военное руководство Польской кампанией Гитлер вообще не вмешивался, то во время Французского похода его руководство было ясным, последовательным и дельным. Большое значение имел и стратегический расчет – на Западе думали, что немцев удастся сдерживать долго – до тех пор, пока не даст о себе знать преимущество Запада в материальных ресурсах. Французский главнокомандующий Морис Гамелен планировал наступление только в 1941 г., а до этого хотел наращивать силы при экономическом содействии США, держать Германию в морской блокаде и осуществлять действия на европейской периферии, ибо время работало на Запад. Гитлер совершенно ясно осознавал эту логику и сразу сделал ставку на скорейшее завершение войны в Польше; «странная война» стала для него подарком судьбы, который Гитлер смог использовать на все 100%. Через неделю после начала Польской кампании танковые части вермахта достигли Варшавы, и польская столица была окружена. Для окончательного снятия риска войны на два фронта Гитлер настоял на скорейшем введении советских войск в восточные районы Польши (17 сентября 1939 г.).
6 июля 1940 г., когда Гитлер возвращался в Берлин после двухмесячного отсутствия, дорога, по которой он ехал, была усыпана цветами. Даже старшие офицеры вермахта, которые служили при кайзере и часто критически высказывались о Гитлере, после победы над Францией признали его полководцем и стали именовать не иначе как «фюрер»{215}. Самым впечатляющим военным успехом Гитлера была только одна кампания – поход против Франции, а то, что он оккупировал беспомощные Голландию, Данию, Бельгию, Люксембург, Югославию и Грецию, вызвало в мире ужас и отвращение. Общественное мнение Германии приняло это индифферентно. С другой стороны, во Франции и в других западных странах установилась довольно лояльная администрация вермахта – в отличие от Восточной Европы, вопросами безопасности там ведала тайная полевая полиция (Geheime Feldpolizei), подчинявшаяся абверу (ОКВ). Гестаповцы имели в тайной полиции только своих наблюдателей{216}.
Гитлер надеялся, что в соответствии со своими гарантиями Польше Англия объявит войну и СССР, но в тайном протоколе к англо-польскому соглашению говорилось только об агрессии Германии. Гитлер испытывал к англичанам сентиментальную симпатию, которая давала о себе знать весь 1940 г. Характеризуя отношение Гитлера к Англии, будущий лидер норвежских коллаборационистов майор Видкун Квислинг (Vidkun Quisling) 16 августа 1940 г. писал: «После того как Гитлер без конца делал предложения Англии по установлению мира и порядка в Европе, он принужден был против своей воли начать войну с Англией. Он находится сейчас в таком же положении, как и Мартин Лютер, который не хотел бороться против Рима: его принудили к этому»{217}. Сам Гитлер говорил, что он не стремится к тому, чтобы разбить Англию, и что Германия не в состоянии выступить наследницей английской империи.
Вопреки желанию и симпатиям Гитлера, проблему на Западе все-таки нужно было решать, ибо самым страшным кошмаром для фюрера и руководства вермахта, бесспорно, была война на два фронта. Поэтому перед нападением на СССР Гитлер решил обезопасить свой тыл и покончить с Англией. В итоге его остановило, как можно предположить и как обычно думают, не преобладание королевского ВМФ, но неудача Люфтваффе в воздушной «битве за Англию». Геринг не смог добиться воздушного господства над Британией, а это было непременным условием осуществления морского и воздушного десанта на острова; 12 октября 1940 г. операция «Морской лев» (Seelowe) была отменена[11]11
Благополучный исход битвы за Англию для самих англичан не был очевиден, и в июне 1940 г. они ради безопасности в рамках операции «The United Kingdom Security Deposit» вывезли в Канаду 2 миллиарда фунтов золотом и 1,5 миллиарда в ценных бумагах. Ср.: Peters L. Volkslexikon Drittes Reiches. S. 845.
[Закрыть]. Фельдмаршал Альбрехт Кессельринг отмечал в своих мемуарах, что если бы Гитлер действительно хотел осуществить операцию вторжения в Великобританию, он стал бы вникать во все детали плана и навязал бы свою волю всем трем видам вооруженных сил. В этом случае не надо было отдавать никаких туманных приказов, мешавших достижению согласия между командующими сухопутных сил, ВВС и ВМФ{218}.
Операция «Орел» (Adler) – так называлась у немцев воздушная битва за Англию – стоила немцам потери около 1000 самолетов; англичане потеряли вдвое меньше: для привыкших к победам асов Люфтваффе это был чувствительный удар. Командующий немецкой истребительной авиацией (с ноября 1941 г., после гибели Вернера Мельдерса) генерал Адольф Галланд писал в мемуарах, что в воздушной битве за Англию Люфтваффе, несмотря на их мощь и современные по тем временам вооружения и оснащение, не в состоянии были победить, поскольку против 2500 немецких самолетов в распоряжении Великобритании было 3600 самолетов. Численное меньшинство приблизительно уравнивалось немецким техническим превосходством. Если учесть естественное преимущество англичан в войне над собственной территорией и отдаленность немецких аэродромов от места боевых действий, то чаша весов должна была склониться в пользу англичан{219}. Несмотря на бесспорное преимущество в отдельных единоборствах немецких летчиков на Me-109, «Харрикейны» и «Спитфайеры» зарекомендовали себя неплохо, хотя британские истребители, как правило, уклонялись от боя с истребителями немцев, предпочитая в качестве целей бомбардировщики. К тому же Англия производила в месяц 470 истребителей – в два раза больше, чем немецкая авиапромышленность; к 1941 г. Англия смогла произвести 20 000 самолетов{220}. Предопределила же немецкое поражение в этом воздушном противостоянии удаленность немецких баз, недооценка немцами английской радарной системы ПВО (дальность обнаружения – 120 км), а также то, что англичане воевали над родной территорией. Англичане выиграли воздушную дуэль несмотря на то, что в момент начала воздушной битвы за Англию немецкая авиация находилась в расцвете сил. На оккупированной территории и на северо-западе Германии было сосредоточено 11 истребительных эскадр общей численностью в 1300 одномоторных Me-109, две эскадры тяжелых истребителей Me-110, 10 бомбардировочных эскадр общей численностью в 180 двухмоторных бомбардировщиков Хейнкель-111, Ю-87 и Дорнье-17. Эти силы были объединены в два воздушных флота – 2-й (фельдмаршал Альбрехт Кессельринг) и 3-й (фельдмаршал Хуго Шперрле). Генерал Люфтваффе Вернер Крейпе отмечал, что немецкая авиация должна была подготовить вторжение, помешав реорганизации и перевооружению английской армии и нарушив нормальное снабжение городов топливом и продовольствием. Ожидалось, что это подорвет боевой дух англичан{221}, но сделать это не удалось – немецкая общественность напрасно ожидала победоносного штурма Британских островов; узнав об отказе от штурма, немцы остались разочарованы и недовольны перспективой еще одной военной зимы. Прежний интерес к войне опять отступил перед многочисленными житейскими проблемами{222}. Немецкий ас Адольф Галланд отмечал, что для операции «Адлер» огромное значение имели эмоции и боевой дух англичан: «отчаянное положение дел, по всей видимости, высвободило всю энергию этого твердого, исторически самобытного народа, в результате чего все усилия были направлены на достижение единственной цели – любой ценой отразить нападение немецких захватчиков!»{223} Напротив, английский военный теоретик генерал Джон Фуллер полагал, что Гитлер потерпел поражение в воздушной битве за Англию не только потому, что британские истребители и британские летчики были лучше германских, и не потому, что радиолокатор во много раз усилил британскую авиацию, но, прежде всего, в результате того, что теория господства в воздухе Джулио Дуэ («доктрина Дуэ») основывалась на ложных посылках. Эта доктрина заключалась в том, что война может быть выиграна бомбардировками с воздуха. История Второй мировой войны этого не подтвердила. Напротив, было многократно продемонстрировано, что если за бомбардировками не следовало немедленное занятие территории, они имели только временный эффект{224}.