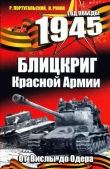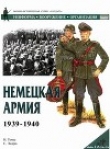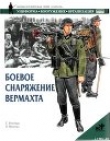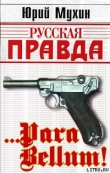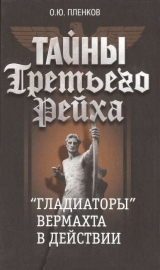
Текст книги "«Гладиаторы» вермахта в действии"
Автор книги: Олег Пленков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
В одном немецком научном журнале были опубликованы итоги интервью, проведенные в 1978–1979 гг. среди 86 мужчин 55–65 лет из Гамбурга, которые были на фронте и в плену в СССР. Эти бывшие солдаты вермахта, прежде чем попасть на фронт, прошли все молодежные организации Третьего Рейха – по существу, их солдатская жизнь началась в ГЮ и РАД, то есть влияние нацистской идеологии на них было велико. Главным впечатлением от русских у них было: «добродушные и примитивные». Причем без оттенка презрения: во всех случаях тон был ровным; рассказы часто сопровождались воспоминаниями, свидетельствующими о симпатиях к русским. Бывшие солдаты высказывали мысль, что русский народ еще должен пройти школу цивилизации, поскольку он находится в средневековье. Один из информантов сказал, что русские не вызывали у него никаких отрицательных эмоций, просто их жизнь определялась ритмами природы, а жизнь немцев, как он тогда считал, – ритмами культуры. Многие информанты выражали удивление, что они вообще остались живы: ни малейшей надежды на спасение в русском плену у немцев, как правило, не было. Один из информантов вспоминал: «На фронте я постоянно твердил про себя, что девятый, последний патрон в своем пистолете я должен оставить для себя, поскольку русские пленных не берут»{512}. Ожесточение боев было с самого начала очень большим; Манштейн писал: «В первые же дни боев нам пришлось познакомиться с теми методами, которыми велась война с советской стороны. Один из наших разведывательных дозоров, окруженных врагом, был потом найден нашими войсками. Он был вырезан и зверски искалечен… Советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются в плен, а после того как наши пехотинцы подходили к ним, они вновь прибегали к оружию; или раненый симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в наших солдат{513}.
В сознании бывших военнопленных осталось отвращение к советской политической системе, а также воспоминания о примитивных условиях жизни. Многие сомневались в том, что эти условия могли измениться, настолько архаическими они казались им во время войны{514}. Интересно отметить, что некоторых информантов, побывавших в американском плену, возмущало лицемерие западных установок: на их глазах белые – рядовые и офицеры – плохо обращались с неграми. С другой стороны, солдаты – негры, получая власть над белыми военнопленными, всячески над ними издевались, но как только их удавалось убедить в том, что они стоят на одной социальной ступени с пленными, они часто становились лучшими друзьями{515}. Информанты говорили, что, – как и англичанин или американец, – русский человек сам по себе неплох, более того – насколько плохо бы ни было его собственное питание, русский всегда готов был помочь другому. Пленные видели, что русские иногда питаются даже хуже, чем они… Сами русские часто были высокого мнения о военнопленных: «немец все умеет делать и не обманывает» (Der Deutsche капп alles und betriigt nicht){516}.
В солдатских письмах с Восточного фронта повторяется одна и та же характеристика местного населения и его быта: оборванные, грязные, завшивевшие люди, грязное, разваливающееся жилье. Интересно, что в Первую мировую войну в солдатских письмах было то же самое{517}. Любопытно отметить, что французы во времена Ришелье то же самое писали о немцах – завшивевших, грязных, вонючих.
Примитивные условия войны на Восточном фронте способствовали возникновению одного из самых крупных парадоксов истории Второй мировой войны: между 1941 г. и 1942 г. подразделения вермахта на Восточном фронте подверглись радикальной демодернизации, в то время как экономика Третьего Рейха начала модернизироваться быстрыми темпами. Если успехи вермахта первых двух лет мировой войны основывались на эффективном использовании новых подходов и новой техники войны, то на Восточном фронте все было наоборот: несмотря на растущее военное производство в Германии, большая часть воевавших в России солдат жила и воевала в крайне примитивных условиях. Это обстоятельство в решающей степени обусловило положение вермахта на Востоке: немецкие солдаты должны были воевать худшим оружием, они были обмундированы гораздо хуже своего противника… В Демянском котле[18]18
Южнее Ленинграда шесть дивизий вермахта были окружены под Демянском – между февралем и апрелем 1942 т. 96 тысяч солдат находились в чрезвычайно сложном положении. См.: Bartov О. Hitler’s Army. Р 16.
[Закрыть] со всей ясностью стала очевидна демодернизация и одичание солдат вермахта: чтобы согреться, солдаты заматывали конечности газетами, тряпьем, не хватало еды. Врач 12-й пехотной дивизии писал, что солдаты спят вповалку в грязных, темных, душных и холодных землянках, к тому же до предела переполненных. Правила гигиены соблюдать было невозможно, моментально распространялись кожные инфекции, солдат замучили вши. Немцы называли вшей «маленькими партизанами». Илья Эренбург писал, что наши солдаты называли вшей «автоматчиками»{518}. Русские перебежчики поделились с немцами народным средством избавления от этих паразитов. Одежду следовало закопать в землю, оставив на поверхности только край. Вши устремлялись наружу, где их и уничтожали огнем{519}. Разумеется, в таких условиях солдаты тупеют и морально
Опускаются (geistig immer stumpfer){520}. Любопытно отметить, что советский мемуарист вспоминал: «После отступления немцев мы часто находили в их бункерах зубные щетки. Это значит, что немцы, может быть, не все, но многие, чистили зубы. У нас этого не было, даже штабные офицеры зубов не чистили»{521}.
Разумеется, в условиях Восточного фронта и речи не могло быть о торжестве каких-либо высоких идеологических или моральных ценностей: немецкие солдаты (как и красноармейцы) просто стремились выжить, а врага воспринимали как препятствие к этому.
В 1995 г. на немецкий язык перевели монографию американца Омера Бартова «Армия Гитлера»{522}, в которой исследователь, опираясь на источники по истории трех дивизий вермахта, а также на письма немецких солдат, смог подтвердить свою концепцию о «демодернизации» войны на Восточном фронте после краха «блицкрига» зимой 1941 г. и постепенного разрушения регионально структурированных «первичных групп» в вермахте. Эта «демодернизация» привела к тому, что нацисты смогли на первый план выдвинуть особым образом извращенное понятие о дисциплине; они также активно поощряли моральное одичание солдат, подвергавшихся тяжелейшим испытаниям. Да и сама действительность войны была ужасна – не нужны были никакие пропагандистские ухищрения, чтобы отвечать жестокостью на жестокость, убийствами на убийства, садизмом на садизм… Командование вермахта со своей стороны способствовало этому процессу, отдавая приказы о жестоком обращении с военнопленными, о массовых расстрелах партизан, подталкивая армию к сотрудничеству с опергруппами полиции безопасности и СД. И чем дальше шла война, тем далее развивался этот процесс.
Бартов, сам в прошлом солдат вермахта, оспаривал первостепенное значение идеологической сплоченности солдат в рамках мелких армейских подразделений в силу значительной текучести кадров на Восточном фронте. Его книга о вермахте является самым важным, что было написано на эту тему за последние годы. Бартов доказывает, что хотя не каждый немецкий пехотинец был убежденным нацистом, но нацистская идеология и мировоззрение были значительно распространены среди солдат. В качестве причин Бартов на первое место ставил репрессивные меры командования, расовый фанатизм и примитивные условия жизни. Соображения Бартова особенно ценны тем, что тезис о развале первичных групп в вермахте он почерпнул из собственного опыта, а не из вторичных, субъективных источников{523}.
Еще один участник войны на Восточном фронте, обер-ефрейтор дивизионной разведки, в письме домой от 12 июля 1943 г. жаловался родственникам, что условия жизни на Восточном фронте так давят, что ни у кого нет интересов, выходящих за пределы самого насущного. Он пишет, что их подразделение инспектировал какой-то крупный чин, который с ужасом констатировал, что половина солдат не знает, когда Гитлер пришел к власти – никого это больше не интересовало. Еще он замечает, что время фанатизма и нетерпимости прошло, все более распространяется трезвый взгляд на положение вещей; если три года назад говорили о необходимости победы ради достижения мирового господства, то сейчас необходимость войны и победы мотивируется желанием избежать мести евреев за то, что с ними было сделано{524}.
Ожесточенное сопротивление солдат вермахта в последней стадии войны было причиной огромных его потерь. Всего в вермахт было призвано 18,2 миллиона солдат, 5,3 миллиона из них погибли. За последние 10 месяцев войны погибло столько же немецких солдат, сколько за предыдущие 4 года. Наибольшие потери вермахт понес не в Сталинграде, а при крахе группы армий «Центр» в июле 1944 г., а также 20–29 августа 1944 г. в Ясско-Кишиневской операции Красной армии. Ежемесячно в таких кампаниях погибало 300–400 тысяч немецких солдат. 51,6% убитых немецких солдат приходилось на Восточный фронт{525}. Немецкая армия во Вторую мировую войну потеряла солдат в три раза больше, чем в Первую мировую войну, что было связано не только с расширившимися масштабами войны, но с модернизацией оружия, а также с ошибками армейского руководства как стратегического, так и тактического свойства.
Глава IV.
«ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ» ХАРАКТЕР ПРОТИВОСТОЯНИЯ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЕРМАХТА И НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА
Проблема вины вермахта и трагедия плена советских солдат
Самой большой отдельной группой жертв Второй мировой войны были граждане Советского Союза, а самой большой подгруппой внутри этой группы были советские солдаты: их погибло или было искалечено около 10 миллионов, в том числе 3,3 миллиона военнопленных{526}. Зарубежные историки определяют общее количество советских военнопленных в 5,7 миллиона человек, отечественные – в 4,6 миллиона, исключая ряд категорий военнослужащих и ополченцев{527}. Иная методика подсчета отечественных историков используется то ли для большей точности, то ли для лакировки неприглядной статистики – это не совсем ясно.
Особое отношение руководства Третьего Рейха к Советскому Союзу и к советским людям отразилось на положении советских военнопленных, с которыми имел дело прежде всего вермахт. Соответственно, одно из главных преступлений, в котором обвиняют вермахт – это обращение с советскими военнопленными и колоссальное количество жертв среди них. В этой трагедии есть, однако, не до конца проясненные вопросы, однозначные ответы на которые дать довольно сложно. Непонятно, каково было в конечном счете количество жертв: спорят о числе между 2,6 и 3,3 миллиона{528}. По крайней мере, ясно, что из 3 350 000 красноармейцев, взятых в плен в 1941 г., до февраля 1942 г. 2 миллиона (60%) были уже мертвы{529}. И это несмотря на то что до мая 1944 г. германское командование освободило более 800 тысяч советских солдат и офицеров, преимущественно родом с Украины, Белоруссии и республик Прибалтики{530}. Первый приказ генерал-квартирмейстера ОКХ об освобождении из плена «дружественных» национальностей – прибалтов, украинцев и белорусов, румын, финнов, фольксдойч, кавказцев и туркестанцев – вышел 25 июля 1941 г. Часть тех, кто не мог попасть домой, завербовывали на работы в рейхе; тех, кто «не оправдал доверия» или уходил к партизанам – наказывали{531}. В августе 1941 г. фельдмаршал фон Рейхе нау, командующий 6-й армией, выдвинул идею создания белорусских и украинских дивизий. Предложение уважаемого Гитлером фельдмаршала было тем не менее фюрером отвергнуто: «пусть Рейхенау занимается военными проблемами, а остальное предоставит мне»{532}. Освобождение из плена продолжалось и в 1942 г. – суммарно оно затронуло 318,8 тысяч человек. 9 мая 1943 г. распоряжением ОКХ из плена были освобождены советские военнопленные-женщины. С отпущенными из немецкого плена красноармейцами особенно жестоко расправлялись партизаны – это были, в основном, украинцы{533}.

Сравнительная таблица потерь среди русских (советских) военнопленных и военнопленных западных стран
Сложно однозначно ответить на вопрос о причинах массовой смертности среди пленных красноармейцев. Сразу после войны немецкие военные ссылались на объективные тяжелые условия на Восточном фронте, на колоссальную численность военнопленных и связанные с нею проблемы снабжения, охраны и содержания. Начальник Генштаба сухопутной армии Гальдер в апреле 1940 г. сказал: «Война всегда порождает большие проблемы, и со временем они сами собой решаются». По всей видимости, эти слова генерала могли стать лозунгом немецких военных перед лицом проблем с колоссальным числом советских военнопленных{534}. Оправдательные для военного руководства доводы приводились в 1948 г. на так называемом «процессе ОКБ». На самом деле, объективные трудности отчасти были, но следует помнить и о злодейских политических планах военного руководства, которое рассчитывало вести на Востоке войну на уничтожение.
Первыми двумя обреченными группами населения к концу 1941 г. оказались военнопленные и жители блокадного Ленинграда…
Степень вины вермахта в преступлениях нацистов на Восточном фронте – весьма сложный вопрос; говорить об этих преступлениях в общем плане трудно – это может привести к недоразумениям. В самом деле, можно, ли рассматривать 17 миллионов солдат вермахта как общность, действовавшую совершенно одинаково на всех уровнях? Очевидно, нет, хотя историк должен обобщать, должен попытаться найти общий знаменатель в действиях всех солдат… Известен печальный результат нацистской политики в отношении советских военнопленных, известно равнодушие или зловещие намерения нацистского политического руководства, но что было посередине? Как реагировали средние и нижние армейские инстанции на происходящую на их глазах трагедию? Было бы слишком простым решением свести настроения и намерения немногочисленной нацистской верхушки к настроениям в миллионном вермахте – они принципиально не могли быть однородными. Сомнительно, что в немецкой армии все без исключения хотели смерти несчастных советских военнопленных. Немецкую общественность долгое время после войны волновал вопрос о степени причастности вермахта к преступлениям против военнопленных. Это, правда, не сразу вызвало реакцию юстиции. Так, между 1949 и 1958 гг. в ФРГ прошло 24 судебных процесса по делам, связанным с убийствами советских военнопленных; только в 5 случаях речь шла об ответственности вермахта. Лишь в 1970 г. государственный прокурор Ганновера открыл следствие по делу об «отбраковке нетранспортабельных русских военнопленных конвоем «дулага 203»{535}. Впервые предметом этого процесса стало обращение простых солдат вермахта и средних начальственных инстанций с советскими военнопленными; приговоры были вынесены обвинительные.
В этой связи интересно обратиться к немецкой организации размещения и содержания военнопленных, поскольку этот вопрос был важной частью всей системы организации вермахта. Когда 27 июля 1927 г. в Женеве международная конференция из представителей 47 государств приняла Конвенцию о военнопленных, казалось, что человечество покончило с одной из самых больших проблем, связанных с войной. В Конвенции было четко оговорено, что плен не является наказанием, а также не может быть актом мести, но является лишь временным задержанием, не имеющим характера кары. В литературе иногда можно встретить указание на то, что Советский Союз не подписывал Женевскую конвенцию, но это соображение следует отвергнуть, так как достаточные основания для человеческого обращения с пленными давало Гаагское соглашение 1907 г., которое оставалось действительным и без Конвенции 1927 г., о чем были прекрасно осведомлены немецкие военные юристы. В немецком сборнике международно-правовых актов, изданном в 1940 г., прямо указывалось, что Гаагское соглашение о законах и правилах войны действительно и без Женевской конвенции 1927 г., к которой СССР не присоединился{536}. К тому же и Конвенция Красного креста обязывала заботиться о раненых военнопленных, лечить их и обращаться с ними гуманно. Принятый вермахтом в июне 1939 г. «Устав армейской службы» отражал традиционные взгляды военного руководства: он предписывал вести военные действия только против войск противника; необходимые для жизнеобеспечения войск припасы разрешалось приобретать у населения только за плату; предписывалось щадить памятники культуры, гуманно обращаться с пленными и оставлять им вещи личного пользования. Убивать военнопленных можно было только в случае их побега{537}. Немецкий публицист Йорг Фридрих подчеркивал, что 17 июля 1941 г. советское правительство выказало готовность соблюдать Гаагские соглашения о военнопленных. Странно, что немецкая сторона никак на это не реагировала: к концу лета и Красная армия взяла в плен около 20 тысяч немецких солдат{538}.
С другой стороны, советская сторона сама проявила «инициативу» в вопросе о военнопленных. Уже 16 августа 1941 г. Сталин вместе с другими членами Ставки Верховного Главнокомандования подписал приказ № 270 (более известный приказ № 227 от 29 июля 1942 г. («Ни шагу назад!») был лишь его повторением с деталировкой). В принципе, Сталин с самого начала войны к немецким военнопленным относился так же, как Гитлер к советским, просто последних было гораздо больше. По приказу № 270 советские военнопленные объявлялись предателями и изменниками. Семьи командиров, попавших в плен, подлежали репрессиям; родственники солдат лишались льгот{539}. Трудно поверить, но только 29 июля 1956 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей». 28 сентября 1941 г. командующий Ленинградским фронтом Жуков распорядился довести до личного состава, что все члены семей солдат, сдавшихся в плен, будут расстреляны. Это могло означать казнь даже грудных детей! По всей видимости, и вернувшихся из плена ожидал расстрел. Мао Цзэдун, наверное, следовал сталинскому примеру, ибо всех китайских добровольцев, попавших в плен в Корее во время войны 1949–1953 гг. и возвращенных американцами, поголовно истребляли.
В 2004 г. немецкий историк Найтцель Зенке опубликовал фрагменты из протоколов прослушивания немецких генералов в английском плену в Трент Парк (Trent Park) в Миддлсексе. Работавшие на прослушивании сотрудники английского военного министерства отбирали только самые важные высказывания; вследствие отбора возникло 1725 протоколов. Трент Парк представлял собой традиционное старинное английское имение в 700 га, в центре которого находился замок, в котором и содержали немецких генералов и штабных офицеров. Среди пленных был один генерал-полковник (Ханс-Юрген фон Арним, 1889–1962), четыре генерала танковых войск, пять генерал-лейтенантов, два генерал-майора, два полковника, один подполковник и один майор{540}. Документы о прослушивании представляют особый интерес, поскольку регистрируют импульсивные реакции немецких офицеров на происшедшее с ними, а также на новости с фронтов и из рейха. Так, офицеры давали поразительно высокую оценку моральной интегральности участников заговора 20 июля 1944 г. Те из офицеров, под командой которых в свое время служил Клаус фон Штауффенберг, высказывали самые лестные мнения о его качествах как военного профессионала. Также весьма высокой оценке по своим моральным качествам и профессиональным достоинствам удостоился один из руководителей заговора генерал-полковник Людвиг Бек.
Вместе с тем, генерал-лейтенант Максимилиан Зири (Siry) еще более радикально, чем нацистские активисты, оценивал перспективы и реалии войны на Восточном фронте. Он говорил, что напрасно немцев обвиняют в жестокости – по его мнению, все неудачи происходили как раз от недостаточной жестокости. По мнению Зири, если во Франции в 1940 г. французским солдатам, попавшим в окружение, достаточно было указать местонахождение сборного пункта для военнопленных и они туда направлялись, то в СССР все было иначе. Между наступавшими танковыми клиньями и немецкой пехотой часто был 50–80-километровый зазор – советские солдаты этим пользовались и разбегались по лесам, откуда их было чрезвычайно трудно выудить, а ущерб, который они наносили партизанскими действиями, был огромен. Поэтому Зири в свое время предлагал ломать советским военнопленным ноги или руки. Минимум на четыре недели они стали бы небоеспособны, а за это время их можно было бы собрать в лагеря. Зири сказал: «Тогда на меня все замахали руками и закричали, что это варварство, но я и теперь не отказываюсь от своего мнения – мы не смогли по-настоящему воевать на Востоке, потому что были недостаточно последовательны в ведении варварской войны. Русские же ее вели – они были последовательны и по отношению к нам, и по отношению к себе»{541}. В одном Зири прав: главной причиной колоссальных потерь Красной армии был общественный строй нашей страны – сталинская тоталитарная система, которая отличалась циничным презрением к человеческой жизни, основывалась на всеобщем страхе и подавляла всякую инициативу. Но, с другой стороны, не будь этой сталинской машинерии страха и давления, мы бы не смогли выстоять перед врагом.
Немецкая пропаганда, разумеется, использовала данные об отношении советских властей к собственным пленным солдатам. 10 мая 1942 г. газета «Фронт» (Die Fronte) в статье «Военнопленные-враги. Как Сталин обращается со своими солдатами» писала: «Советы рассматривают всех военнопленных как изменников. Они отказываются от международных договоров, подписанных всеми культурными государствами: не существует ни обмена тяжелоранеными, ни почтовой связи между пленными и их родственниками. Теперь Советы пошли еще дальше: они взяли под подозрение всех сбежавших или другими путями вернувшихся из плена своих же военнопленных. Властители Советов не без основания боятся, что каждый, кто очутится по ту сторону “социалистического рая”, вернувшись в СССР, поймет большевистскую ложь… По приказу наркома обороны все вернувшиеся из плена рассматриваются как “бывшие” военнослужащие и у всех без суда отнимаются их воинские звания… При отправке на сборные пункты у бывших военнослужащих отбирается холодное и огнестрельное оружие. Личные вещи, документы, письма остаются у арестованных. Почтовая связь для бывших военнослужащих запрещена. Все поступающие на их имена письма хранятся в комендатуре в запечатанных конвертах. Бывшие военнослужащие не получают ни жалования, ни одежды. … По истечении недели этих бывших военнослужащих направляют в лагеря НКВД»{542}. Разумеется, сталинский подход к военнопленным как к «отрезанному ломтю» облегчал оккупантам соответствующее обращение с попавшими в плен красноармейцами.
Правда, немцы осознавали, что такому же обращению могут подвергнуться и пленные из вермахта. В начале 1942 г. в «Вестях из рейха» говорилось: часть немецкой общественности опасается того, что боевые действия могут продлиться и в неподходящий для Германии момент в войну вступят США с их колоссальными ресурсами, а также того, что в варварских условиях России немецким военнопленным придется несладко. Поскольку Советский Союз объявил об отказе от Гаагской конвенции и не присоединился к Женевской конвенции о военнопленных, то немецкая общественность опасалась, что Красная армия не будет придерживаться общепринятых правил ведения войны. Вскоре после начала войны до немцев дошли сведения о расстрелах красноармейцами немецких военнопленных. Так, сообщалось, что 180 раненых немецких солдат на Украине попали в руки красноармейцев, и все были расстреляны. От 90 до 95% немецких солдат, в 1941–1942 гг. попавших в плен в России, были расстреляны{543}.
Интересно отметить, что обращение с «окруженцами» и в немецкой армии было довольно жестким. Так, солдат-мемуарист Ги Сайер приводит довольно редкое в литературе описание встречи полевой жандармерией частей вермахта, вышедших из окружения после форсирования советскими частями Днепра в 1943 г. Жандармы не хотели слушать объяснений солдат и требовали только ответа на вопросы, которые были в анкете. Сайер писал, что жандарма не удивляло, что перед ним стоит чудом выживший человек, потерявший десять килограммов веса, зато он негодовал по поводу того, что у лейтенанта пропал офицерский цейссовский бинокль. За эту потерю и за то, что тот не знал, где его взвод, офицера разжаловали{544}. Правда, массовых и огульных репрессий по отношению к «окруженцам» (таких, как в Красной армии) в вермахте не практиковалось…
С советскими военнопленными обращались варварски. А с русскими военнопленными в Первую мировую войну обращались совершенно иначе. В чем дело? Почему старшие офицеры, которые прошли социализацию в прусской армии, превратились в простых исполните-, лей нацистской расовой политики? Тому есть причины объективного и субъективного свойства, к которым стоит присмотреться.
Военнопленными в вермахте занималось ABA (AWA, Allgemeines Wehrmachtsamt); это Управление по делам военнопленных входило в ОКВ. В состав АВА входило также бюро «чиновника по специальным поручениям», это бюро осуществляло связь между ОKB и партийной канцелярией – таким путем нацистская партия оказывала влияние на политику по отношению к военнопленным. Начальником АВА и непосредственным руководителем Управления по делам военнопленных был генерал Рейнеке, который был известен своими пронацистскими взглядами и с декабря 1943 г. являлся ответственным за политическое воспитание в вермахте. Охрану в лагерях военнопленных несли призывники старшего возраста, сформированные в отдельные батальоны ландвера. Интересно отметить, что особое положение занимали лагеря для военнопленных летчиков; они были изъяты из ведения ОКВ и подчинены исключительно ОКЛ. В эти лагеря помещали летчиков западных держав, а советских и польских – помещали в обычные лагеря, что было косвенным свидетельством дискриминации красноармейцев.
Организация системы лагерей для военнопленных в вермахте была продумана давно, поскольку еще до начала Второй мировой войны немецкое военное руководство знало, что в условиях мобильной войны будет не обойтись без сборных и пересыльных лагерных пунктов для военнопленных. Было несколько типов лагерей для военнопленных: «дулаг» (Durchgangslager) – пересыльный лагерь; «шталаг» – (Front-Mannschaftstammlager) – основной лагерь какой-либо армии; «офлаг» (Offizierslager) – офицерский лагерь. Поскольку армейские «шталаги» и «офлаги» не могли поспеть за быстро движущимися фронтовыми частями, то заботу о военнопленных брал на себя персонал «дулагов», иногда имевших автомобили, иногда конную тягу, и следовавших за фронтовиками. «Дулаги» были пересылками и подчинялись тыловым комендатурам соответствующих армий, так называемым «корюксам» (Kommandatur des Rückwartigen Armeegebiets). Ввиду того, что на Востоке речь шла об огромных территориях, «дулаги» активно кооперировались с охранными (комендантскими) дивизиями вермахта (Sicherungsdivisionen), которые имели задачу установить административный контроль над захваченной фронтовыми армейскими частями территорией. «Дулаги» находились в тыловых районах действующей армии, а «шталаги» – в районах, находящихся под юрисдикцией немецкой гражданской администрации. Даже слово «лагерь» приукрашивало эти учреждения, поскольку «дулаги», «шталаги» и «офлаги» бывали порой просто участками земли, обнесенными колючей проволокой.
В соответствии со служебной инструкцией, военнопленные в «дулаге» должны были оставаться там до того момента, пока их количество не достигнет 5000 человек. В той же инструкции говорилось, что задачей руководства «дулага» является разделить обитателей лагеря по расам и национальностям и составить список пленных. С военнопленными рекомендовалось обращаться строго, но справедливо – в рамках международных соглашений о военнопленных от 1927 г. Указывалось также, что мелкие придирки к военнопленным не соответствуют понятиям о чести немецкого солдата. Однако, вопреки инструкции, число пленных в «дулагах» всегда превышало норму, и руководство всеми правдами и неправдами стремилось избавиться от военнопленных и переправить их дальше. При огромной текучке отношения между охраной «дулагов» и пленными были неличностными; проявлять гуманность по отношению к военнопленным и при желании было бы нелегко, не говоря уже об отсутствии желания{545}. Волны военнопленных катились по лагерям до осени 1941 г., а потом все лето 1942 г… Инструкция позволяла подолгу задерживать некоторые категории военнопленных в «дулагах» для их санитарного или иного обустройства. Поскольку между Германией и СССР не было договора о правилах обращения с военнопленными, то нацистское руководство приняло решение о привлечении военнопленных к работам.
Обычно в исторической литературе не обращали особенного внимания на существование специальных эсэсовских лагерей для советских военнопленных. Между тем комендант Освенцима Хесс еще в марте 1941 г. получил приказ Гиммлера подготовиться к размещению 100 тысяч человек – ясно, что речь шла именно о советских военнопленных. Этих людей эсэсовцы хотели задействовать в качестве рабочих на заводах по производству искусственного каучука; это и было сделано после начала реализации плана «Барбаросса»{546}. Правда, первоначально речь шла о небольших партиях военнопленных.
В августе 1941 г. по вопросу пропитания пленных (вместо импровизаций тыловых подразделений вермахта) пришло официальное распоряжение: ограничить ежедневный рацион работающих военнопленных 2100 калориями, а неработающих – 2040 калориями. Эти нормы, однако, существовали только на бумаге. Такое положение противоречило международному праву: в соответствии со статьей 11 Женевских соглашений о военнопленных, нормы их питания должны были соответствовать нормам питания армейского резерва; в статье 82 уточнялось, что норма должна соблюдаться даже в том случае, если военнопленные принадлежат стране, не подписывавшей соглашений о военнопленных. Немецкое военное руководство игнорировало эти пункты соглашений. 16 сентября 1941 г. Геринг заявил: «При продовольственном снабжении большевистских военнопленных, в отличие от военнопленных западных стран, мы не привязаны ни к каким обязательствам и соглашениям. Их снабжение зависит только от того, как они смогут работать»{547}. Таким образом, было ясно, что всех остальных, неработающих военнопленных, планировалось уморить голодом. Это подтверждается и тем, что Геринг требовал сократить рационы советских военнопленных для поддержания стандартов питания гражданского населения в Германии. К тому же Геринг, слывший большим гурманом, цинично высказался об определении пищевой ценности мяса лошадей и собак для пропитания советских военнопленных. Чуть позже генерал-квартирмейстер вермахта (начальник тыла) Эдуард Вагнер распорядился сократить рационы для неработающих военнопленных до 500 калорий, что составляло 2/3 минимальной нормы. Это было равносильно смертному приговору, ибо большинство советских солдат попадали в плен до предела истощенными{548}.