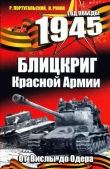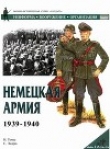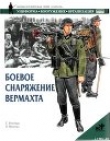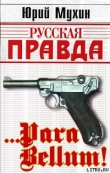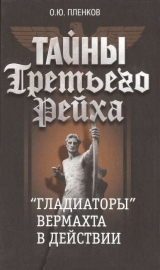
Текст книги "«Гладиаторы» вермахта в действии"
Автор книги: Олег Пленков
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Для того чтобы обеспечить безопасность тыла и заручиться поддержкой 1,26 миллиона жителей оккупированных районов Ленинградской области, командование 18-й армии восстановило деятельность русской православной церкви, разрешило начальные школы, допустило торговлю. Это также способствовало дружелюбному, в целом, отношению местного населения к солдатам вермахта. Кстати, фон Лееб при передаче 18-й армии «приказа о комиссарах», сказал, что он считает этот приказ «правовой глупостью», и рекомендовал его бойкотировать{622}.
17 января 1942 г. вместо фон Лееба командующим группы армий «Север» стал фон Кюхлер. Поводом для отставки фон Лееба был Демянский выступ, на котором были 11-й и Х-й армейские корпуса, далеко врезавшиеся в советские позиции. Лееб полагал, что этот выступ не имеет никакого оперативного значения, и напряжение, вызванное снабжением по воздуху окруженных немецких войск, – это лишняя трата ресурсов. Гитлер, напротив, полагал, что Демянский выступ связывает большое количество советских войск и таким образом выполняет свою роль в противостоянии на Восточном фронте{623}. К тому же фон Лееб раздражал Гитлера своими откровенными антинацистскими высказываниями.
В Нюрнберге Кюхлера обвиняли в основном как командующего 18-й армией, поскольку командующий армией несет ответственность за исполнительную власть и порядок на территории, которую его армия занимает. Соответственно, участь гражданского населения на этой территории – это сфера компетенции старшего офицера армии. На процессе в Нюрнберге Кюхлер заявил, что не он объявил войну Советскому Союзу, а Третий Рейх. Кроме того, Гитлер в течение войны многократно вмешивался в компетенции командующего армией, поэтому Кюхлер, по его словам, предпочитал заниматься исключительно военным руководством{624}.
Отношение к местному населению и мероприятия руководства 18-й армией произвели впечатление на главу КОНР (Комитет освобождения народов России) генерала А. А. Власова. Завершив поездку по ряду городов и сел, находившихся в тылу немцев, он отмечал, что ни в одной другой зоне оккупации не было столь отрадных перемен, произошедших в результате действий немецкой администрации. Вместе с тем, из отчетов СД в армейском тылу группы армий «Север» видно, с какой жестокостью велась борьба не только против партизан, но и против той части населения, которая отказывалась сотрудничать с оккупантами. Ради достижения лояльности местного населения руководство группы армий «Север» пошло на раздел колхозной земли и поощрение единоличных хуторских хозяйств. СД с удовлетворением отмечала, что в связи с ликвидацией колхозов настроение населения заметно улучшилось{625}. Продовольственный налог, назначенный немцами, был меньше, чем при советской власти, но взимался довольно жестко. Крестьян нередко обманывали – так, осенью 1942 г. тыловые службы 18-й армии раздали им трофейных лошадей. Крестьяне зимой их откормили, надеясь на них работать. Однако весной лошадей потребовали обратно{626}. В целом, однако, земельная реформа обеспечила симпатии крестьян по отношению к немцам и лишила советские власти надежды на массовые выступления крестьян против оккупантов. Сами немцы, однако, весьма критически оценивали ситуацию. Так, 11 июля 1943 г. разведотдел 61-й пехотной дивизии доносил: «Восточный поход показал, что наши представления о большевизме не совпадают с действительностью не только в оценке его военной мощи, но и в оценке его моральных сил. Старшее поколение, знавшее царское время, менее прониклось большевистскими идеями и легче поддается нашему влиянию. В отношении же молодежи следует констатировать сильное влияние большевизма… При нашем первом соприкосновении с русскими мы произвели на них благоприятное впечатление. Однако неуважение к их духовным особенностям, наши многочисленные расстрелы пленных, часто в присутствии местных жителей, наша болтовня о колониальном народе сильно ослабили это хорошее впечатление и подорвали наш авторитет. Воспитанные в духе равенства всех людей, они не могут понять – почему мы, поющие хвалебные гимны жизни немецких рабочих, заставляем их работать больше прежнего при самых плохих условиях»{627}.
Исполнительная власть руководства армией была также ограничена экономическими организациями, которыми распоряжался Геринг как генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану. Разделение властей в полицейских и экономических вопросах дало возможность руководству армией после войны сваливать вину на другие инстанции; на самом деле, имела место борьба компетенций и их запутанность. На Нюрнбергском процессе Кюхлер поразил членов трибунала заявлением о том, что он как командующий армией не имел никакой исполнительной власти в оккупационном районе. Он сказал, что если в Первую мировую войну генерал Бюзинг стал генерал-губернатором Бельгии, то это означало, что тот был исполнительной и законодательной властью в Бельгии и только он нес за нее ответственность; в его сферу компетенций никто не имел права вмешиваться. Гитлеровская же организация власти, по словам Кюхлера, привела к распылению компетенций по разным сферам: полицейской, экономической, по вопросам рабочей силы; единой же надзирающей и ответственной инстанции не было{628}. Несмотря на это оправдание, наряду с множеством убийств гражданских лиц опергруппами полиции безопасности и СД, командующему 18-й армией было предъявлено обвинение в расстреле эсэсовцами 230 психически больных женщин в бывшем Макарьевском монастыре. В дневнике XXVIII-ro армейского корпуса была запись от 26 декабря 1941 г. о том, что вопрос о расстреле согласован с командующим (поскольку такие больные и в Германии подлежат умерщвлению как «недостойные жизни существа»), а сам расстрел поручено осуществить СД. Отпираясь, Кюхлер, говорил о том, что ничего не помнит по этому эпизоду, тем не менее этот расстрел суд вменил ему в вину. Кюхлер, в отличие от фон Лееба, был приговорен судом к самому большому сроку тюрьмы – к двадцати годам{629}.
В отношении разделения полномочий и отсутствия единой власти Кюхлер был прав, но не следует забывать, что полномочия АОК 18-й были все же весьма велики – Берлин находился далеко, и если бы АОК чего-либо сильно захотел, он всегда мог это осуществить, аргументируя военной потребностью. Нужно вести речь не о полномочиях, а о желании, поскольку на территории в 12 тысяч км2 (такую территорию занимала 18-я армия в декабре 1941 г.) командующий армией был скорее удельным князем, чем подчиненным бюрократом.
Линия окружения Ленинграда в основном совпадала с линией фронта, хотя местами в ходе тяжелых боев войска кое-где захватывали или уступали несколько сотен или тысяч метров. На этом фронте часто шла изнурительная позиционная война: в окопах, на изрытой воронками местности и в развалинах населенных пунктов. Значительные потери группы армий «Север» автоматически означали отказ от активных действий по захвату Ленинграда; реализация планов по разрушению Ленинграда также отодвигалась в неопределенное будущее. Задача группы армий «Север» сводилась отныне к плотной блокаде города минимальными силами. В осаде Ленинграда принимало участие более 700 тысяч немецких солдат – приблизительно столько же людей погибло в осажденном городе от голода и болезней. 18 сентября Гальдер писал в дневнике «о голоде как о нашем союзнике». Даже сам фон Лееб 2 сентября сказал, что город следует принудить к сдаче голодной блокадой. Но если для Лееба голод был инструментом для захвата города, то ОКВ и ОКХ считали целью уморить голодом все население{630}. Геринг также утверждал, что захват и оккупация больших городов экономически нежелательна. Таким образом, при планировании блокады Ленинграда сплелись военные, идеологические и экономические мотивы.
Об этих ужасающих планах солдаты 18-й армии в сентябре 1941 г. ничего не знали. Командующий группой армий фон Лееб жаловался на то, что он вынужден вести войну малыми силами; фон Кюхлер был огорчен известием о переносе центра тяжести нападения: в виду желанной цели его армия должна была пережидать войну в блокаде. 12 сентября в 18-й армии начал распространяться слух, что армия не будет входить в Ленинград. Планирование оккупации, однако, продолжалось: для непосредственной оккупации города предназначался L-й армейский корпус (командующий армией генерал Линдеманн должен был стать комендантом города), а также эсэсовская полицейская дивизия. Командование 18-й армии первоначально планировало организовать питание миллионного города и отыскивало для этого ресурсы; фон Лееб даже высказывался за передачу гражданского населения советской стороне, но сверху пришел запрещающий приказ{631}. Солдатам и офицерам было непонятно, как будет организован оккупационный режим в городе, который умирает от голода. 18 сентября Гальдер позвонил в штаб Лееба и сказал, что он рассчитывает на уничтожение города не военной силой, а голодом. В тот же день, 18 сентября, Гитлер заявил, что капитуляцию Ленинграда следует принимать только в случае вступления в него, поэтому группе армий «Север» было приказано самостоятельно не принимать капитуляции, но передать этот вопрос на рассмотрение ОКВ и ОКХ. Как раз в эти дни части 18-й армии так близко подошли к городу, что имели возможность прорваться к центру. 20 сентября Кюхлер признавал, что 20-ти его измотанных пехотных дивизий недостаточно для захвата города. Вскоре пришел приказ Кейтеля не вступать в город, ибо тогда его придется кормить. 20 сентября фон Лееб был в 18-й армии и подтвердил приказ остановить наступление по всему фронту и перейти к обороне – началась блокада. В последующие месяцы какого-либо усиления линии обороны 18-й армии не предпринималось{632}.
Интересно отметить, что под Колпино блокаду держала даже испанская «Голубая дивизия», являвшаяся 250-й дивизией вермахта. Немецкий генерал Польман в своих мемуарах весьма похвально отзывался о ней: он писал, что с октября 1941 по октябрь 1943 гг. ее боевые действия были выше всяких похвал, дивизия проявила готовность к самопожертвованию, а ее солдаты и офицеры после войны у себя на родине с гордостью носили немецкие награды{633}. Генерал, правда, не указывал, что «Голубая дивизия» была идеологическим войском Испанской Фаланги, и там за довольно значительную плату служили добровольцы. Также в блокаде Ленинграда принимали участие словацкие части.
То, как ОКВ представлял себе будущее Ленинграда, стало ясно 21 сентября, когда письменно были зафиксированы следующие позиции: сначала герметическая блокада, артиллерийские обстрелы, авианалеты, голод, затем арест и интернирование или изгнание оставшихся в живых, затем полное разрушение города и передача его территории финским союзникам{634}. Так Кейтель обрисовал картину будущего Ленинграда в письме Маннергейму. В этом чудовищном плане соединились гитлеровская расовая идеология уничтожения и холодный расчет военного руководства. И 18-я армия стала армией палачей, осуществлявшей преступный приказ.
Приказ же ОКВ о нанесении как можно большего ущерба осажденному городу при практическом отсутствии тяжелого артиллерийского вооружения и весьма эффективной советской противовоздушной обороне был невыполним. Таким образом, боевая задача 18-й армии сводилась к отражению ежедневных атак Красной армии и блокированию возможного исхода из города голодающих ленинградцев. Когда офицер Iа группы армий «Север» 24 октября посетил дивизии, непосредственно блокировавшие Ленинград, то все его спрашивали: что делать, если из города начнет прорываться гражданское население; перспектива стрелять по женщинам, детям и старикам казалась солдатам невыносимой. Для того чтобы избежать ненужного морального давления на личный состав, Браухич предлагал обнести минными полями позиции 18-й армии. Фон Лееб, напротив, считал, что в случае капитуляции советских войск гражданское население должно быть переправлено в советские районы{635}. В ОКВ высказывали намерение окружить Ленинград колючей проволокой с током и предложить американскому президенту Рузвельту обеспечить пропитание жителей осажденного города{636}. К счастью для солдат 18-й армии, сценарий, которого они больше всего боялись – непосредственный контакт с миллионами умирающих от голода людей – не осуществился. Осажденный город выказал готовность к сопротивлению и внутреннюю сплоченность. С другой стороны, кое у кого были, по всей видимости, и другие настроения: так, 18 февраля 1942 г. СД обращала внимание на то, что в Ленинграде нарастает озлобление против немцев в связи с тем, что «они не входят в город». Через месяц, 16 марта, описывая отношение гражданского населения к немецким войскам, служба безопасности подчеркивала, что оно характеризуется злобой к вермахту: «они сидят, сытые, в своих теплых бункерах, а мы тут дохнем от голода»{637}.
30 декабря 1941 г. наши войска взяли Тихвин, наземный путь до ближайшей железнодорожной станции сократился на 380 км; второе кольцо блокады 18-й армии установить не удалось, что спасло часть жизней блокадников, поскольку после того, как на Ладоге стал лед, продовольствие начали поставлять в город хотя бы в минимальных размерах. Самым страшным был период до создания «дороги жизни», на это время приходится большая часть погибших.
Что произошло бы в случае сдачи Ленинграда? Осуществились бы на деле гитлеровские планы уничтожения города? Примеры Варшавы и Киева говорят о том, что это вполне могло случиться.
Таким образом, на примере блокады Ленинграда и судьбы советских военнопленных видно, что на многие вопросы, связанные с ролью вермахта в организации террора и массовых убийств на Восточном фронте, нет однозначных ответов. В каждом отдельном случае нужно внимательное отношение к упомянутым инцидентам, а не огульное обвинение всего состава вермахта, который сам часто оказывался жертвой нацистской диктатуры и ее идеологов, а подчас и обстоятельств.
Еще в древности существовало право гражданских лиц покинуть осажденный город. В законах Талмуда, в XVII в. заимствованных одним из основоположников науки международного права Гуго Гроцием, сказано, что город не должен быть блокирован полностью – следует оставлять коридор для тех, кто хочет спастись. Этот принцип вспомнили в Нюрнберге, когда предъявляли обвинения немецким офицерам. Фельдмаршалу фон Леебу инкриминировали, что он (в соответствии с распоряжением ОКВ) в сентябре отдал распоряжение открывать артиллерийский огонь по городу. Однако количество боеприпасов, которыми располагала 18-я армия, осаждавшая Ленинград, позволяло обстреливать лишь самые важные цели. Поэтому приказ Гитлера о разрушении города можно было считать утопическим{638}.
Цель насильственного удержания мирных жителей в Ленинграде заключалась в том, чтобы усилить давление на людей, лишенных самого необходимого – прежде всего продовольствия. Именно на этом строил свою защиту фон Лееб, который утверждал, что отданный им приказ полностью согласуется с практикой ведения военных действий. На процессе по делу руководства вермахта в 1948 г. фон Лееб оправдывался тем, что в военной истории много примеров блокады – так, в Первую мировую войну весьма эффективной была континентальная блокада Германии английским флотом. Она имела следствием гибель от болезней, связанных с голодом, 300 тысяч гражданских лиц в Германии{639}. Но обычно блокаду и осаду применяют для того, чтобы вызвать сдачу крепости, а не для осуществления геноцида, как это имело место в отношении Ленинграда. На обвинение в геноциде фон Лееб сказал: «Гитлер поставил нас, старших офицеров, в тяжелое положение, из которого не было выхода: следовать его приказам означало нарушать международное право. Не выполнить его приказ – значит попасть под обвинение в неповиновении перед лицом врага. Сделать что-либо большее – это мятеж»{640}. Аргументы фон Лееба убедили суд. Поскольку увеличение давления на Ленинград и в самом деле могло бы ускорить капитуляцию города с 200-тысячным гарнизоном и оборонными предприятиями, судьи признали, что фон Лееб не совершил военного преступления и не нарушил действовавших тогда законов войны{641}. Для сравнения – в окруженном сербами Сараево в 1992–1995 гг. (блокада Сараево продолжалась дольше, чем блокада Ленинграда) не было военных объектов и армии, а целью осады была этническая чистка, что международным судом было расценено как преступление.
В итоге следует констатировать, что преступная политика немецких военных имела место при блокаде Ленинграда, но сам приказ на ее осуществление исходил от верхов. Жестокость немцев стала неизбежным следствием задачи, которая перед ними была поставлена. Во время блокады речь шла не столько о военной операции, сколько о том, чтобы, щадя силы группы армий «Север», блокировать трехмиллионный город и уморить население голодом. Здесь речь шла скорее об осознанной идеологии геноцида, а не о средстве добиться определенной военной цели. Насколько это понимали солдаты 18-й армии, установить сложно. С одной стороны, солдаты были заняты своими боевыми задачами. С другой стороны, встречаются указания, что солдаты и офицеры 18-й армии подозревали о возможных попытках прорыва голодных людей из блокированного города и не представляли себе, как их можно будет остановить: стрелять по безоружным детям, старикам и женщинам они не хотели. Впрочем, внутренняя организация города была столь жесткой, что ни о каких голодных бунтах и речи не было. В принципе, такую же судьбу Гитлер готовил и мирному населению Москвы и Сталинграда.
Вермахт, партизаны, гражданское население
«Нравственность развивается в истории и под влиянием исторических причин. Если она в данный момент такая-то и такая-то – то только потому, что условия, в которых живут люди, не дозволяют, чтобы она была иной, и доказательством этому служит то, что она меняется вместе с изменением этих условий и только в этом случае».
(Эмиль Дюркгейм){642}
Вряд ли что-нибудь может быть более безответственным, чем натравливание населения на борьбу против вооруженных сил противника, так как при защите от подобных действий никак нельзя избежать жестокости, несправедливости и, как следствие, страданий ни в чем не повинных людей. Еще в феврале 1901 г. британский главнокомандующий лорд Роберте выражал свое неудовольствие командующему армией буров Луису Боте: «Я должен заявить, Ваша честь, что подобную тактику нельзя применять по отношению к регулярным войскам. Буры опустились до партизанской войны, и я вынужден прибегать к чрезвычайным мерам»{643}. Под последними подразумевались репрессии по отношению к гражданскому населению и организация концлагерей. Это вызвало критику действий англичан. Разумеется, критика была справедливой, но она не учитывала всех обстоятельств, вынудивших англичан перейти к репрессиям. Почти за сто лет до того, в годы антинаполеоновских войн, английский герцог Артур Веллингтон, свидетель партизанской войны в Испании, сказал: «Я всегда боялся революционизировать какую бы то ни было страну с политической целью. Я всегда говорил, что если они поднимутся сами – хорошо, но не подстрекайте их, ибо это возлагает на вас ужасную ответственность». В самом деле, начиная с XVII в. создавались законы и заключались соглашения по ведению боевых действий, но они не могли применяться к деятельности партизан, и на те правительства, которые сознательно организовывали и поддерживали эту страшную форму войны, ложится тяжелая ответственность.
Интересно отметить, что в Первую мировую войну значительного партизанского движения не было – за исключением бельгийской гражданской милиции (Garde Civilique), участники которой носили на рукаве повязки и реже были униформированы. Но все семь немецких армий на Западе были подвержены параноидальному ожиданию нападения franc-tirieurs. Среди немецких солдат распространялись россказни о многочисленных убийствах, отравлениях и нападениях. Военный губернатор Бельгии генерал Кольмар фон дер Гольц уже в конце августа 1914 г. приказал безжалостно карать любые попытки партизанских действий. Только с 18 по 28 августа 1914 г. немецкие каратели убили свыше 6 тысяч гражданских лиц, заподозренных в партизанских действиях. В этой связи кайзер Вильгельм II публично жаловался, что бельгийская милиция ведет себя столь же нецивилизованно, как казаки{644}. Репрессивные меры, впрочем, оказались весьма эффективными, что было одной из причин повторения репрессивной практики во Вторую мировую войну.
Английский историк Джон Фуллер сетовал: «Союзники во время войны всячески поощряли любые движения сопротивления против немцев. Для этого они сбрасывали с самолетов сотни тонн оружия. Ясно, к чему это могло привести. Немецких солдат убивали, в ответ следовали репрессии. Жестокость порождала жестокость, и суровость немецких репрессий объяснялась не тем, что немцы жестокий народ, а тем, что партизанские войны всегда жестоки»{645}. Командующий немецкими войсками в Италии фельдмаршал Кессельринг отмечал, что его личное знакомство с партизанской войной привело к выводу, что «это некая дегенеративная форма ведения боевых действий. Методы, которые в ней применяются, настолько многообразны, что рано или поздно они обязательно вступают в противоречие с нормами международного права и с математической точностью втягивают обе стороны в совершенно чудовищные преступления»{646}.
Такая диалектика взаимной жестокости имела место на оккупированных территориях Советского Союза. В СССР еще до войны готовили партизанскую войну. К тому же ситуация усугублялась тем, что в тылах вермахта оставалось много окруженцев. Их правовой статус был довольно сложным: могли ли нерегулярные части, даже если они имеют статус комбатантов, оперировать в тылах противника? Как верифицировать их статус комбатантов? Когда репрессии по отношению к таким действиям допустимы, а когда нет?
Вооруженных людей, продолжающих сопротивляться врагу, у нас в стране принято называть «партизанами». Слово «партизан» (от франц. partisan) впервые стали использовать во Франции во франко-прусскую войну 1870 г. – так называли добровольцев, продолжавших борьбу в тылу прусских войск; также их иногда называли франтирерами (от франц. franc-tireur, буквально – вольный стрелок). Термин «герилья» (от испанск. guerrilla – маленькая война) использовали для обозначения испанской народной войны против Наполеона в 1808 г. Это же слово применяют ныне для обозначения городской партизанской войны в неблагополучных с социальной или политической точки зрения районах. Во Франции во Вторую мировую войну партизан называли «маки» (от корсиканского maquis – густой лес). Немцы для обозначения партизанского движения в годы войны на оккупированной территории СССР использовали термин «бандиты» (Banditen){647}.
В этом термине уже содержится политическая оценка такого рода активности. Интересно отметить, что сам Гитлер, работая в 1919–1921 гг. в пропагандистском отделе одной из армий рейхсвера, призывал немцев к сопротивлению оккупационным войскам, к партизанской войне, что противоречило Гаагской конвенции 1907 г.
Знаток партизанской войны в Греции Марк Мазовер указывал, что при анализе партизанской войны вообще очень трудно отделить политический аспект проблемы от военного. Чисто военными средствами партизанское движение чрезвычайно трудно ликвидировать – для этого более уместны политические средства{648}. Но в иных обстоятельствах они не действуют, и возникает трагическая безысходность…
После трагедии советского плена и блокады Ленинграда следующей по масштабам трагедией была партизанская война, вернее, ее жертвы. Только в Белоруссии в ходе борьбы оккупантов с партизанами было убито 345 тысяч человек, а на всей советской территории – около 500 тысяч. Подчас оккупантов не интересовало, действительно ли это партизаны, поскольку террор считался главным средством «воспитания» местного населения. Уже в сентябре 1941 г. Кейтель говорил, что за убийство немецкого солдата можно расстреливать 50–100 коммунистов. На самом деле, граница между обоснованными в военном отношении мерами безопасности и расово-биологическими «чистками» очень расплывчата. Немецкие потери в борьбе с партизанами оцениваются в 50 тысяч. Получается соотношение потерь 1:10; соотношение это верно не только для партизанской войны, но и для боевых действий на Восточном фронте{649}.
Со стороны вермахта подавление партизанского движения носило преступный характер, поскольку речь шла о сложно верифицируемых случаях участия в вооруженной борьбе или актах саботажа со стороны гражданского населения. Ханнесу Хееру, сотруднику Гамбургского института социальных исследований и организатору выставки фотодокументов преступлений вермахта, задавали вопрос: сколько солдат вермахта было вовлечено в эти преступления? Один из корреспондентов Хеера написал, что он родился в 1953 г. и не участвовал в войне, но на него произвели глубокое впечатление слова одного ветерана Восточного фронта об участии тыловых немецких частей в так называемой «борьбе с бандитизмом». Этот ветеран считал, что 80% солдат были готовы выполнять любые приказы, менее 1% отказывались убивать гражданских лиц, а остальные были просто «болотом»{650}. Такая схематизация поведения солдат – неоправданное упрощение, поскольку в каждом отдельном случае следует разбираться отдельно. Если Ханнес Хеер исходил из того, что 60–80% немецких солдат на Восточном фронте были замешаны в военных преступлениях, то его преемник в руководстве выставкой Филипп Реемтсмаа считал, что их было 70%. Напротив, сотрудник военно-исторического ведомства бундесвера в Потсдаме Рольф-Дитер Мюллер указывал, что не более 5% солдат вермахта на Восточном фронте чем-либо себя запятнали. В самом деле, большая часть вермахта просто физически не могла быть замешанной в преступлениях против гражданского населения, поскольку, к примеру, в октябре 1943 г. из 2,6 миллиона немецких солдат на Восточном фронте 2 миллиона находились непосредственно на фронте, 500 тысяч – в армейских тылах (50–70 км), а за армейскими тылами – только 100 тысяч солдат. Для сравнения – если в американской армии соотношение между фронтовыми частями и обеспечением составляло 57% к 43%, то в вермахте – 85% и 15%{651}. В целом же численность немецких войск на Восточном фронте наглядно представлена следующим графиком.

Здесь явно видно соотношение численности вермахта на Восточном фронте (заштрихованные колонки) и на прочих фронтах (белые колонки). См.: Hartmann Chr. Verbrecherischer Krieg – verbrecherische Wehrmacht? Uberlegungen zur Straktur des deutschen Ostheeres, 1941–1944 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2004. H. 1. S. 4.
На Восточном фронте квота выживания немецких солдат постоянно падала: если в 1941 г. среднестатистический рекрут мог рассчитывать на 2,5 года жизни, то в 1942 г. – на 1,7 года, в 1943 г. – на 1,2 года, в 1944 г. – на 0,8 года, а в 1945 г. – на 0,1 года. Разумеется, в первую очередь погибали не «стреляные воробьи», старые опытные фронтовики, а новобранцы. К примеру, 121-й пехотный полк сражался в 1943 г. в Крыму; потери были большие. Из Франции в полк поступило пополнение, среди которого был обер-ефрейтор Генрих Белль (впоследствии знаменитый немецкий писатель). 11 ноября 1943 г. Белль, который уже 4 года служил в армии, участвовал в боях на Керченском полуострове, 9 дней спустя был легко ранен, а затем через 12 дней тяжело ранен и перевезен в тыл. В мае 1944 г. он вернулся на Восточный фронт, но вскоре – 30 мая – получил осколочное ранение и снова попал в госпиталь{652}. Этот пример показывает, как ограничено было участие отдельных солдат в войне – во времени и в пространстве. Когда им было совершать преступления?
Ульрих фон Хассель говорил, что, создавая документ об «особом» обращении с гражданским населением в Советском Союзе («приказ о комиссарах»), власти жертвуют честью немецкой армии{653}. При этом, правда, встает вопрос, а как вообще нужно (можно) было бороться с большевизмом, который не признавал никаких правил игры? Как мог Гитлер воевать на Восточном фронте по-другому? Если эта война, по его мнению, была совершенно необходима… Ульрих фон Хассель и большинство его товарищей по Сопротивлению также были противниками большевизма, но они не принимали гитлеровских методов войны с ним. Но поскольку война все же началась, то представить себе, что одна сторона последовательно соблюдала бы правила, а другая так же последовательно бы их не соблюдала, – невозможно. Гитлер, по всей видимости, чувствовал это противоречие и соединил две главные идеи нацизма – антикоммунизм и антисемитизм – в одно целое: лозунгом войны на Востоке стала борьба с «еврейским большевизмом». В таком виде гитлеровская концепция войны и была навязана вермахту. Особенно актуальным это было по отношению к гражданскому населению и партизанам. Жестокие меры вермахта по отношению к партизанам были следствием гитлеровской концепции войны. Впрочем, и союзники сразу после вторжения в Германию планировали суровую политику по отношению к партизанам. Союзный главнокомандующий генерал Эйзенхауэр выпустил жесткое «Постановление № 1», направленное против возможной деятельности партизан в Германии{654}.
Если на Западе война велась обычными средствами и особых нарушений Гаагских соглашений не было, в Польше велась расовая война без каких-либо правил, то в СССР Гитлер вел войну на уничтожение, у которой было три цели: завоевание жизненного пространства для последующей колонизации, ликвидация континентальной опоры Великобритании в лице СССР и уничтожение «еврейско-большевистской» системы. Гитлер мог бы инсценировать восточный поход как освободительный, но это для него значило бы изменить самому себе. Насилие в этой войне должно было играть мобилизующую роль; оно имело важную функцию в борьбе за цели, поставленные Гитлером.
30 марта 1941 г., в течение двух с половиной часов выступая перед 250 генералами, которым предстояло воевать на Востоке, Гитлер назвал большевизм «проявлением социальной преступности» и призвал офицеров не допускать никаких проявлений солдатского товарищества по отношению к врагу, поскольку необходимо уничтожить большевистских комиссаров и коммунистическую интеллигенцию. Генералы высказывали опасения относительно подрыва дисциплины в таких условиях, но их возражения оказались тщетными. Когда началась война в СССР, то Гитлер, учтя опыт польской кампании, приказал осуществить разделение функций армии и СС, что и было сделано: между Рейнхардом Гейдрихом (РСХА) и квартирмейстером ОКХ Эдуардом Вагнером было заключено соглашение о разграничении компетенций между армией и опергруппами полиции безопасности и СД{655}. В соглашении оговаривалось, что опергруппы будут выполнять специальное задание, а вермахт – предоставлять им необходимое материально-техническое обеспечение.