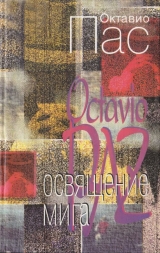
Текст книги "Освящение мига"
Автор книги: Октавио Пас
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Стул – это много вещей вместе: на нем можно сидеть, но он может сгодиться и для других дел. И то же со словами. Как только они исполняются полноты и весомости, их снова заселяют утраченные значения и смыслы. Образ неоднозначен так же, как неоднозначна реальность, которая предстает нам вдруг и сразу, сумбурно, разнообразно, но с неким потаенным смыслом. Образ неожиданно примиряет имя с вещью, представление с реальностью. И именно поэтому между субъектом и объектом на миг воцаряется согласие. Не пользуйся поэт языком и не обрети язык первозданную силу в образе, согласие было бы невозможно. Но это возвращение слов в первозданное состояние – то есть к множественности значений – лишь первый акт поэтической операции. Смысл поэтического образа нам еще не совсем ясен.
Всякая фраза связана с другой и может быть объяснена при помощи этой другой фразы. Знаки подвижны, и одно слово можно объяснить другими. Сталкиваясь с каким-нибудь темным изречением, мы говорим: «Эти слова означают то-то и то-то». И чтобы сказать, что именно имеется в виду, используем другие слова. Любую фразу можно сказать по-другому или объяснить с помощью другой фразы. Стало быть, смысл или значение – это означивание. Иными словами, сказывание, которое может сказаться иначе. Напротив, смысл образа – сам образ, он другими словами не выговаривается. Образ объясняет сам себя. Только сам образ может сказать, что он говорит. Смысл и образ – одно и то же. Смыслы стихотворения – его образы. Завидя стул, мы сразу разбираемся с его смыслом, и нет нужды прибегать к словам – мы просто садимся на него. То же со стихами: образы не отсылают нас к каким-то вещам, как это случается с прозой, но сталкивают с конкретной реальностью. Когда поэт говорит об устах возлюбленной, что они «небрежно изрекают звучный лед», это не символизация белизны или гордости. Он ставит нас перед фактом, не требующим доказательств: зубы, слова, лед, губы – все эти разнородные реалии внезапно предстают нашему взору. Гойа не описывает ужасов войны, он без околичностей предлагает нам взглянуть ей в лицо. К чему комментарии, отсылки, объяснения? Поэт не наделяет значениями, он речет. Фразы и предложения – не более чем средства. Образ – не средство, он самодостаточен, он сам – свой смысл. Смысл в нем начинается и в нем же заканчивается. Смысл стихотворения – это само стихотворение. Образы не поддаются ни объяснению, ни интерпретации. Итак, слова, обретшие свою первозданную неоднозначность, переживают еще одно странное, глубинное преображение. В чем оно состоит?
Два свойства, проистекающих из знаковой природы языка, отличают слова: во-первых, подвижность или взаимозаменяемость, во-вторых, связанная с подвижностью способность слов пояснять друг друга. Самую простую мысль можно сказать по-разному. Или поменять слова в тексте так, чтобы смысл не изменялся, или объяснить одно предложение при помощи другого. Ничего такого нельзя проделать с образом. В прозе есть много способов сказать нечто, в поэзии – только один. Это не одно и то же: сказать «блещет звезда наготой» или «звезда блестит, потому что ее не закрывают облака». Во втором случае смысл умалился, поэтическое утверждение превратилось в расхожее объяснение. В поэтической жиле случился спад давления. Образ лишает слова их подвижности и делает незаменимыми. Они становятся незаменимыми и непоправимыми. Они перестали быть инструментарием. Язык больше не средство. Возвращение языка к первозданной своей природе, считавшееся той самой целью, ради которой образ и существует, – не более чем шаг в направлении куда более радикальных преобразований: язык, которого коснулась поэзия, перестает быть языком. Перестает быть совокупностью подвижных знаков и значений. Поэзия превосходит язык. И теперь становится ясно то, что я говорил в начале книги: поэзия – это язык, и язык до того, как он подвергся насилию в прозе или в повседневной речи, но это еще не все. И это «еще не все» не поддается объяснению при помощи языка, хотя может быть постигнуто только при помощи языка. Рожденное в слове, стихотворение становится чем-то таким, что это слово превосходит.
Поэтический опыт – это опыт слов, но не только, хотя именно слова этот опыт выражают. Образ примиряет противоречия, но это примирение не объясняется словами, если не считать тех слов, которые вошли в состав образа и потому перестали быть словами. Так, образ – отчаянная попытка борьбы с молчанием, которое нас затопляет всякий раз, когда мы тщимся передать наш собственный и сопутствующий нам страшный опыт. В поэзии язык – под напряжением: готовый исчезнуть, он осуществляется сполна. Слова, находящиеся уже почти за пределами слов, обращенные к своим собственным глубинам и выворачивающие речь наизнанку: молчание, не-значение. Мир языка, мир объяснений и истории лежит по эту сторону образа. А по ту отворяются врата реального: значение и не-значение – одно и то же. Последний и окончательный смысл образа – он сам.
Конечно, не во всех образах противоречия согласуются и при этом не разрушаются. В некоторых образах можно усмотреть известное подобие составляющих их элементов, таковы сравнения, согласно определению Аристотеля. В других элементы настолько между собой несоотносимы, что, по выражению Реверди {112} , они созидают «новую реальность». Еще одни строятся вокруг неразрешимого противоречия или даже абсолютной бессмыслицы, выставляющей мир, язык или человека в комическом виде (имеются в виду юмористические образы, а в повседневной жизни – шутки). Некоторые являют нам многоликость и взаимосвязанность мира. Наконец, есть образы, в которых происходит нечто невозможное как с точки зрения логики, так и с точки зрения лингвистики, – союз враждебных сил. Но везде – иногда едва заметно, иногда в полную силу – свершается одно и то же: реальная многоликость предстает неким монолитным единством, причем ни один из элементов образа не утрачивает своей особости. Пух предстает камнем, не переставая быть пухом. Обращенный к самому себе язык выговаривает то, что по своей природе ему не дано выговорить. Поэтический сказ сказывает несказуемое.
Упрек, который Чжуан Цзы адресует словам, образа не касается, потому что образ, строго говоря, это уже не просто соединение слов. И действительно, язык – это всегда смысл «того» или «этого». А смысл – это связь между именем и тем, что именуется. Таким образом, он устанавливает расстояние между одним и другим. Некоторые высказывания, типа: «Телефон – это обедать», «Мария – треугольник» и т. п., бессмысленны, потому что оказывается неодолимым расстояние между словом и вещью, знаком и объектом, – между ними обрушился мостик, смысл. Человек остается один, затворником собственного языка. А по сути дела, он вообще остается без языка, потому что слова, которые он выговаривает, это ничего не значащие звуки. С образом все наоборот. Расстояние между словом и вещью не только не увеличивается, но, напротив, сокращается или исчезает вовсе, – имя и именуемое уже одно и то же. Смысл – тот смысл, что служил мостками, также исчезает: нечего улавливать и не на что указывать. Мы имеем, однако, не бессмыслицу или абсурд, но нечто, несказуемое и необъяснимое. И опять: смысл образа это сам образ. Язык разрывает круг относительных значений, «этого» и «того», и говорит несказуемое: камни – это пух, «это» – это «то». Язык указует и представляет; поэзия не объясняет и не представляет – она поставляет. Она не отсылает к реальности, но пытается – и иногда успешно – воссоздать ее. Поэтому поэзия – это проникновение в реальность, пребывание в ней, или бытие.
Истина поэзии опирается на поэтический опыт, который не очень сильно отличается от опыта самоотождествления с «реальностью реальности», как он описывается восточной мыслью и отчасти западной. Этот опыт, по общему мнению невыразимый, выражается и сообщается образом. И тут мы сталкиваемся еще с одним удивительным свойством поэзии, о котором речь ниже: в силу того что поэзия необъяснима, кроме как посредством самой себя, особенность коммуникации при помощи образов состоит в том, что она происходит без опоры на понятия. Образ не объясняет, он приглашает воссоздать и буквально оживить его. Слово поэта есть воплощение поэтической сопричастности. Образ преобразует человека, превращая его снова в образ, в пространство, в котором противоположности сплавляются. А сам человек, расколотый от рождения, примиряется с собой, когда делается образом, и тем самым становится другим. Поэзия – это метаморфоза, обмен, алхимическое действо, а потому она граничит с магией, религией и другими попытками преобразить человека, сделав из «этого» и «того» этого «другого», который и есть он сам. И тогда универсум перестает быть складом всякой всячины. Звезды, башмаки, слезы, поезда, ивы, женщины, словари – все это огромная семья, в которой все сообщается и все непрестанно преображается, одна и та же кровь пульсирует во всех сосудах, и человек может стать наконец собственным желанием – самим собой. Поэзия выводит человека за собственные пределы и одновременно побуждает его возвратиться к изначальности, возвращая его самому себе. Человек – это его образ: он сам и тот, другой. С помощью фразы, которая есть ритм, которая есть образ, человек – это неустанное стремление к бытию – есть. Поэзия – вхождение в бытие.
Другой берег
Перевод А. Погоняйло
Человек существо ритмическое, он живет в ритме, ритм – метка того, что он живет во времени; ритм, в свой черед, выстраивает образ, и образ возвращается человеку, едва чьи-то уста начинают произносить стихи. С помощью ритма, зиждительного возобновления, образ – пучок мятежных, не поддающихся объяснению смыслов – приуготовляется сопричаствовать. Чтение стихов вслух – пиршество, праздник причастия. И разделывается, раздается и пересотворяется на этом празднике – не что иное, как образ. Поэма творится сопричастностью, и эта совместность восстанавливает изначальное время. Стихи приводят нас к опыту поэзии. Поэтический ритм наводит на мысль о мифологическом времени, поэтический образ напоминает мистическое переживание, а участие в чтении – магическую алхимию и церковное причастие. Все это заставляет нас относить поэтический акт к области священного. Однако все – начиная с архаического мышления до моды, политического фанатизма и, собственно, преступления – может рассматриваться как сфера священного. Само по себе это понятие очень плодотворное, и все же из-за психоаналитических и историцистских злоупотреблений оно нас может завести слишком далеко. Вот почему на этих страницах я не столько собираюсь объяснять поэзию с помощью священного, сколько намерен попытаться их разграничить и показать, что поэзия не редуцируется, что ее ни через что не объяснишь и что она может быть понята только в себе самой.
Современный человек обнаружил в своем способе мыслить и чувствовать нечто такое, что можно было бы назвать ночной стороной нашего бытия. Все то, что разум, мораль и современные обычаи нас заставляют утаивать как нечто постыдное, для так называемых первобытных людей было единственно возможным поведением. Фрейд указал, что оттого, что мы пренебрегаем бессознательным, оно никуда не девается. С другой стороны, антропология показала, что жить в мире воображения и снов вовсе не значит быть ненормальным или невротиком. Мир божественного не перестает нас завораживать, потому что в современном человеке под тонким слоем интеллектуальности живет тоска. Мода на изучение мифов, магических и религиозных практик имеет те же корни, что и прочие увлечения современного человека, такие как интерес к первобытному искусству, к психологии бессознательного или к оккультизму. Эти предпочтения не случайны. Они говорят о какой-то нехватке, о какой-то интеллектуальной неудовлетворенности. Потому-то, задумавшись об этом, я не мог избавиться от ощущения двусмысленности: с одной стороны, я считаю, что поэзия и религия проистекают из одного источника и нельзя отнять у поэзии ее стремление переделать человека, не рискуя превратить ее при этом в литературную безделушку; с другой стороны, я полагаю, что титанический подвиг современной поэзии состоит в том, что она идет войной на религию, которая как раз и пробудила в ней осознанное желание сотворить свою собственную область «священного» в противовес ныне существующим церковным институтам.
Изучая учреждения и обычаи австралийских и африканских аборигенов, фольклор и мифологию исторических народов, антропологи столкнулись с такими формами мышления и поведения, которые показались им обескураживающими. Некоторые, пытаясь в них разобраться, решили, что все дело в неверном использовании принципа причинности. Фрезер думал, что магия – это «самая древняя форма отношения человека к окружающему», от которой потом отпочковались наука, религия и поэзия; будучи лженаукой, магия есть не что иное, как «ошибочная интерпретация законов природы». Леви-Брюль, со своей стороны, прибег к понятию дологического мышления, основу которого составляет ощущение сопричастности всему. «Первобытный человек не в состоянии связывать логически, причинно предметы своего опыта. Он не рассматривает их ни как цепь причин и следствий, ни вообще как отдельные феномены, но как некую взаимоувязанность, при которой ничто не может сдвинуться с места, не потревожив чего-либо. Иными словами, задев что-то, мы на него влияем и изменяемся при этом сами». Фрейд, в свой черед, не слишком успешно прилагал свои идеи к изучению некоторых первобытных обычаев. К. Г. Юнг также попытался психологически объяснить эти формы при помощи коллективного бессознательного и универсальных мифологических архетипов; Леви-Строс усмотрел в запрете на инцест первое «нет», сказанное человеком природе; Дюмезиль, углубившись в арийские мифы, отыскивает в весеннем празднике возрождения, или, как он поэтически называет его в одной из своих книг, празднике бессмертия, корни индоевропейской мифологии и поэзии; Кассирер понимает мифы, магию, искусство и религию как символические формы; Малиновский… однако область эта слишком обширная, и в мои намерения не входит исчерпать столь богатый материал, к тому же день ото дня меняющийся по мере того, как возникают новые идеи и делаются открытия..
Первый вопрос, которым следует задаться перед лицом этой массы фактов и гипотез, – а на самом ли деле существует то, что мы называем первобытным обществом? Это весьма спорно. Например, лакандонов можно считать группой, живущей в условиях реальной архаики. Но ведь это прямые потомки цивилизации майа, самой сложной и богатой среди тех, что расцвели в землях Америки. Мы имеем дело не с истоками культуры, а с ее исчезающими следами. Ни мышление лакандонов нельзя назвать дологическим, ни их магические практики – до-религиозными, ибо у них нет никакого «после». Таким образом, эти формы показывают нам скорее, как умирают некоторые культуры, нежели как они рождаются. В других случаях, как указывает Тойнби, речь идет о замороженных сообществах, как, например, эскимосы. Стало быть, можно заключить, что ни деградирующие, ни застывшие на какой-то стадии своего развития общества не заслуживают названия архаических.
Идея «архаического мышления», в смысле чего-то древнего, предшествующего и превзойденного на последующих этапах развития, есть не что иное, как одно из многочисленных проявлений линейного понимания истории. В этом смысле она продукт непомерного разрастания идеи «прогресса». Между прочим, обе исходят из количественного понимания времени. Но это не все. В первом из своих крупных произведений Леви-Брюль утверждает, что «даже и для нас потребность соучаствовать более властна и настоятельна, чем потребность знать и прилаживаться к требованиям логики. Она сидит глубже и идет издалека». Психиатры установили известную аналогию между происхождением невроза и мифа, шизофрения чем-то похожа на магическое мышление. Для детей, говорит психолог Пиаже, истинная реальность – это реальность фантазии; из двух объяснений чего-то – рационального и чудесного – они роковым образом выберут последнее, так как оно кажется им более убедительным. Со своей стороны, Фрезер говорит о том, что у современного человека тоже сохранились магические верования. Но к чему умножать примеры. Все мы знаем, что не только поэты, безумцы, дикари и дети воспринимают мир в акте партиципации, не сводимом ни к какой логике; так же и остальное человечество, всякий раз, видя сны или мечтая, влюбляясь или присутствуя на гражданских, профессиональных и политических мероприятиях, «соучаствует», возвращается назад, делается частью этого обширного «society of life», которое, по Кассиреру, и есть источник магических верований. И преподавателей, психиатров и политиков я тоже отношу к их числу. «Архаическое мышление» можно отыскать везде – и под легким покровом рациональности, и в чистом виде. Только законно ли именовать такое поведение «архаическим», поскольку оно соответствует не древним, детским или регрессивным формам психики, но вполне актуально и характерно вообще для всех людей.
Если для многих главное действующее лицо ритуала – человек, совсем не похожий на нас, дикарь или невротик, то для других он вообще не человек, но институция, самая суть священного. Будучи совокупностью общественных форм, священное становится объектом. Ритуалы, мифы, празднества, легенды – все то, что называют удачно найденным словом «материал», – вот оно здесь, перед нами: это объекты, вещи. Юбер и Мосс {113} считают, что чувства и переживания верующего перед лицом священного не представляют собой ничего необычного. Человек не меняется, и человеческая природа – всегда одна и та же: любовь, ненависть, страхи, опасения, голод, жажда. Что изменяется, так это общественные установления. Мне это мнение кажется не соответствующим действительности. Человек неотделим от своих созданий и вещей, которые его окружают. Если совокупность установлений, образующих универсум священного, действительно является чем-то замкнутым и неповторимым, подлинным универсумом, то тот, кто принимает участие в празднестве или ритуале, отличается от того, кем он был несколькими часами ранее, когда охотился в лесу или вел автомобиль. Человек никогда не равен самому себе. Его способ быть, то, что отличает его от прочих живых существ, – это изменяемость. Или, как говорит Ортега-и-Гассет, человек – существо несубстанциальное {114} , лишенное субстанции. А самое характерное в религиозном опыте – это как раз резкий перепад, ослепительное преображение собственной природы. И стало быть, неверно, что чувства, которые мы испытываем при виде настоящего тигра и тигра-божества, эротического эстампа и тибетских тантрических изображений, – те же самые.
Общественные установления – это не священное, не священны ни «архаическое мышление», ни невроз. Оба подхода страдают одним и тем же недостатком, они превращают священное в объект. Следовательно, надо избежать обеих крайностей и схватить явление как целостность, которой мы сами причастны. Нельзя отделять деяния от действующих лиц, ни vice versa. Нельзя считать удачной и попытку описать опыт священного как что-то внешнее. Этот опыт включает и нас самих, и его списывание становится описанием самих себя [31]31
Это было написано за 10 лет до появления «Неприрученной мысли» (1962). В этой капитальной работе Леви-Строс доказывает, что «архаическое мышление» не менее рационально, чем наше.
[Закрыть].
Некоторые социологи начинают с того, что делят общество на два полярных мира: один – мир профанного, другой – сакрального. Тогда табу – это что-то вроде межи между ними обоими. В одном возможны вещи, запрещенные в другом. Отсюда и произрастают такие понятия, как чистота и святотатство. Правда, как было сказано, такое формальное описание, не включающее нас самих, снабжает нас всего лишь какими-то сведениями. Кроме того, всякое общество поделено на самые разные сферы. И в каждой из них действует своя система норм и запретов, не приложимая к другим. Правила наследования неприменимы в области уголовного права (хотя когда-то это было не так); такие предполагаемые этикетом акты, как дарение, оказываются неприемлемыми, если практикуются в административной среде; нормы международных отношений неприложимы к отношениям семейным, нормы семейной жизни – к международной торговле. В каждой сфере все происходит как-то по-своему, «особым образом». Итак, нам предстоит проникнуть в мир сакрального, чтобы посмотреть, что именно и «каким образом» там происходит, и прежде всего – что там происходит с нами самими.
Но если священное – это особый мир, то как нам туда попасть? С помощью того, что Кьеркегор называет «скачком», а мы, на итальянский манер, назовем сальто-мортале. Хуэй Нэн, китайский патриарх VII века {115} , так объясняет самое главное в опыте буддизма: «Махапрадж-няпарамита – это санскритский термин, пришедший с Запада. На языке Чань он означает „великая премудрость на другом берегу потока“… Что такое Маха? Маха – это великая… Что такое Праджня? Праджня – это премудрость… Что такое Парамита? – По ту сторону потока… Прилепляться к миру вещей – это участвовать в круговращении жизни и смерти, это значит уподобиться вздымающимся и опускающимся морским волнам, и это значит пребывать на Этом берегу… Когда мы отлепляемся от мира вещей, уходят и жизнь и смерть, а остается только непрестанное струение вод, и это называется Другой берег» [32]32
D. Т. Suzuki {116} . Manual of Zen Buddhism: From the Chinese Zen Masters. Londres, 1950. En realidad, Maha es grande; Prajna, sabiduria; Paramita, perfection (L. Renou u J. Filliozat, L'Inde classique, 1953).
[Закрыть].
Во многих сутрах Праджняпарамиты под конец становится доминирующей идея путешествия или скачка: «О, ушедший, ушедший, ушедший на другой берег, повергшийся на том берегу». Немногим удается этот скачок, несмотря на то что крещение, причастие, другие таинства или обряды инициации, то есть перехода в другое состояние, как раз и готовят нас к такому опыту. Общее в них то, что они изменяют нас, делая «другими». Потому-то в них мы получаем новое имя, указывающее, что мы – уже иные, мы только что родились или возродились. Ритуал воспроизводит мистический опыт «другого берега» в качестве капитального события человеческой жизни – когда мы рождаемся, зародыша больше нет. И разве самые важные и значительные события нашей жизни не суть повторение этой смерти зародыша, возрождающегося в младенце? Итак, сальто-мортале, или опыт «другого берега», предполагает изменение состояния: смерть и рождение. Но «другой берег» располагается в нас самих. Мы застыли, но ощущаем, как нас уносит великим ветром, который нас опустошает. Он выносит нас из нас и в то же самое время подталкивает к самим себе. Образ вихря присутствует во всех великих религиозных текстах: человека вырывает с корнями, как дерево, и забрасывает туда, на другой берег, навстречу самому себе. И вот на что следует обратить внимание: наша воля в этом почти никакого участия не принимает, а если и принимает, то как-то странно. Если тебя уносит великим ветром, что толку ему сопротивляться. И напротив, все твои заслуги и пылкие молитвы ни к чему не ведут, если не вмешается посторонняя сила. Воля и неведомые силы сплетаются в тугой узел, – точно так, как это происходит в поэтическом творчестве. В человеке встречаются рок и свобода. Испанский театр дает нам немало примеров такого конфликта.
В «Осужденном маловере» (El condenado рог desconfiado) Тирсо де Молины – или кто бы там ни был автором этого произведения – изображен некий Пауло, аскет, который вот уже десять лет ищет спасения в пещере. Однажды ему приснилось, что он умер, во сне он предстает перед Богом и понимает, что не миновать ему ада. Проснувшись, он начинает размышлять. Ему является диавол в образе ангела и объявляет, что Бог велит ему идти в Неаполь, там, познакомившись с неким Энрико, он получит ответ на свои сомнения, ибо «то, что суждено тому, постигнет и тебя». А Энрико – это «самый дурной человек на свете», хотя не без двух добродетелей – сыновней любви и веры. Узнав Энрико, Пауло ужасается, а затем, поразмыслив, решает начать подражать ему. Но Пауло видит только внешнюю сторону дела и не знает, что этот преступник – искренне верующий человек, который в решающие мгновения безоглядно предается Богу. В финале пьесы Энрико раскаивается и безоглядно отдает себя на суд божественному милосердию; совершив такое сальто-мортале, он спасается. Упрямец Пауло тоже свершает сальто-мортале – в бездну ада. В известном смысле он погружается в себя, потому что сомнения его опустошили. В чем преступление Пауло? Для богослова Тирсо – в недоверии, сомнениях. А если разобраться глубже, в высокомерии. Пауло так и не вверяется Богу. Его недоверие к Божией воле оборачивается избытком доверия к самому себе – демонизмом. Пауло виновен в том, что он не умеет прислушиваться. Разве что Бога можно узнать по молчанию, а диавола по речам. Энрико отдается на волю Божию и получает прощение и блаженство, меж тем как самоутверждение губит Пауло. Свобода это тайна, ибо это дар Божий, и неисповедимы пути Господни.
Оставляя в стороне чисто богословские вопросы, затрагиваемые в «Осужденном маловере», отметим внезапные перерождения персонажей. Дикий зверь Энрико внезапно становится «другим» и умирает прощенный. Так же неожиданно Пауло превращается из аскета в развратника. В другом произведении, «Рабе диавола» Миры де Амескуа {117} , душевное преображение столь же головокружительно и бесповоротно. В одной из первых сцен благочестивый проповедник, Дон Хиль, застает некоего молодого человека в тот миг, когда он взбирается на балкон к своей возлюбленной Лисарде. Монаху удается его отговорить, и юноша уходит. Когда монах остается один, он преисполняется гордости за свой поступок, незаметно подталкивая себя к путям греха. В пламенном монологе Дон Хиль совершает сальто-мортале – радость сменяется самодовольством, самодовольство – похотью. В мгновение ока он становится «другим»: вскарабкивается по лестнице, брошенной юношей, и под покровом ночи прелюбодействует с девушкой. Наутро Лисарда видит, что перед ней монах. Для нее также кончается одна жизнь и начинается другая. С любовью покончено, теперь ее интересует только самоутверждение, скажем так, отрицательного порядка: раз уж в любви отказано, ей не остается ничего иного, как отдаться злу. Обоих уносит вихрем. С этой минуты действие начинает развиваться стремительно. Парочка ничем не гнушается – кражей, насилием над родственниками, убийством. Однако их деяниям, как и поступкам Пауло и Энрико, не дается никакого психологического объяснения. Бесполезно искать мотивировки этим темным страстям. По собственной воле, но также и по наущению, увлекаемые бездной, они в один миг, который есть все миги, скатываются в пропасть. Хотя их поступки – плод принятого решения, скоропалительного и необратимого, поэт нам показывает, что ими владеют иные, темные, преступные силы. Они в их власти, они стали «другими». Но это «быть другим» означает скатиться в пропасть самих себя. Они совершили тот же прыжок, что Пауло и Энрико. Эти прыжки, эти поступки вырывают нас из этого мира и вышвыривают на другой берег, и при этом остается неведомым, кто все это сотворил, какая-то сверхъестественная сила или мы сами.
«Здешний мир» соткан из относительных противоречий. Это царство причинности, суждений и мотивировок. Но подымается великий ветер, и рвется цепь причин и следствий. И первый результат этого бедствия – отмена законов тяготения, как в области природы, так и в области морали. Теперь человек невесом, он – перышко. Герои Тирсо и Миры де Амескуа не встречают никакого сопротивления, их без удержу несет то вверх, то вниз. И в то же самое время искажается образ мира: то, что было вверху, теперь внизу, то, что было внизу, оказывается наверху. Это прыжки в пустоту или в полноту бытия. Добро и зло суть понятия, которые меняют свой смысл, едва мы вступаем в область священного. Преступники спасаются, праведники осуждаются. Человеческие поступки оказываются двусмысленными. Мы творим зло, когда по наущению бесов считаем себя праведными, и наоборот. Мораль чужда священному. Мы живем в мире, который на самом деле оказывается другим.
Двусмысленными оказываются и наши чувства перед лицом божественного. Перед богами и их изображениями мы испытываем одновременно отвращение и влечение, страх и любовь, они отталкивают и завораживают. Мы бежим того, к чему стремимся, как это видно у мистиков, мы наслаждаемся страданием, как свидетельствуют мученики. В одном из сонетов, с эпиграфом из св. Иоанна Хризолога {118} (Plus ardebat, quam urebat [33]33
*Сильнее пылал, чем жег (лат.).
[Закрыть]), Кеведо так описывает услады мученичества:
Лаврентья {119} жгут, ему огонь – услада.
Тиран глядит на ту сковороду,
где дух крепчает, с пламенем в ладу,
и корчится, сгорая в муках ада.
Диск Солнца прорезается из смрада,
зола преображается в руду
алмазную, и палачу еду
страдалец шлет: отведать Божья чада,
вкусить жаркого из филейной части…
Ведь у него на памяти Господь
и жертвенное таинство Причастья.
Но побежденного как побороть,
когда Творец с небес глядит на страсти:
в огне тиран, а не Лаврентья плоть [34]34
*Перевод В. Резник.
[Закрыть].
Лаврентий, сгорая, наслаждается своей мукой, тиран страдает и сгорает вместе со своим врагом. Чтобы оценить расстояние между священномученичеством и мирскими пытками, достаточно припомнить маркиза де Сада. У него палач и жертва никак не связаны, либертину не вырваться из своего одиночества, потому что жертвы для него – не более чем объекты. Радости палача чисты и одиноки. И вообще это не удовольствие, а холодная ярость. Желания садовских персонажей безграничны, ибо в принципе ненасыщаемы. Они живут в замкнутом мире, и у каждого свой ад. В сонете Кеведо двусмысленность причастия доведена до предела. Решетка, на которой поджаривают Лаврентия, это и орудие пытки, и кухонная утварь; его преображение тоже двояко: он превращается в жаркое и в солнце. В моральном плане такая же двойственность: победа тирана – его поражение, поражение Лаврентия – его победа. Ощущения смешаны до такой степени, что невозможно понять, где кончается страдание и начинается наслаждение, ведь и сам Лаврентий благодаря причастию становится палачом тирана, а тот – его жертвой.
Но еще сильнее влияние божественного на представления о пространстве и времени, которые составляют основы нашего мышления. Опыт священного свидетельствует: там – это здесь, тела вездесущи, пространство – не протяженно, а качественно, вчера – это сегодня, прошлое возвращается, будущее уже случилось. Если поближе присмотреться к этому способу существования времени и вещей, то можно заметить, что есть некий центр, который соединяет и разделяет, возносит и свергает, движет и останавливает. Священные даты возвращаются, следуя определенному ритму, и тот же ритм соединяет и разделяет тела, будоражит чувства, превращает боль в наслаждение, удовольствие – в страдание, добро – в зло. Мир намагничен. Ритм – ткач полотна пространства и времени, чувств и мыслей, суждений и поступков; вчера и завтра, здесь и там, отвращение и наслаждение – все это одно полотно. Все сегодня. Все сейчас. Все есть, все здесь. А еще – в другом месте и в другое время. Вне себя и исполнено собой. И ощущение, что ты движешься по воле волн и живешь по воле случая, перерастает в прозрение, что всем заведует что-то, нам радикально постороннее и чуждое. Сальто-мортале сталкивает нас со сверхъестественным. Переживание сверхъестественного – исходная точка всякого религиозного опыта.
![Книга Петров И. Б. - ЧИСЛОВОЕ СОЗНАНИЕ КВАЗИРАЗУМА [16+] (СИ) автора Иван Петров](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-petrov-i.-b.-chislovoe-soznanie-kvazirazuma-16-si-421942.jpg)






