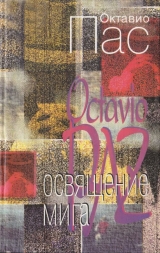
Текст книги "Освящение мига"
Автор книги: Октавио Пас
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Если в будничной жизни мы от себя таимся, то в круговороте праздника выплескиваемся. Мы не просто раскрываем, а буквально раздираем себя. Все – песня, любовь, дружба – кончается пронзительным, душераздирающим криком. Наш праздник неминуемо взорвется ожесточением – в своем затворничестве мы начисто забыли дорогу к внешнему миру. Нам понятны бред, песня, вопль, монолог, но не беседа. Наши праздники – как и наши душеизлияния, наша любовь и все наши попытки перекроить общество – это всякий раз насильственный разрыв с прежним и устоявшимся. Пытаясь выразить себя, мы рвем связь с собою. И праздник – лишь один, хотя и самый типичный, пример такого разрыва. Нетрудно перечислить другие, не менее красноречивые: скажем, игра, где мы всегда доходим до края, нередко опасного для жизни; неумеренность в еде, непременная спутница людей со скромным достатком; любовь к излияниям души. Существо угрюмое, замкнутое, мой соотечественник внезапно встряхивается, распахивает душу и выставляет ее напоказ, с каким-то удовольствием и самолюбованием задерживаясь на самом постыдном и чудовищном. Мы недоверчивы, но порой наша откровенность доходит до степеней, ужасающих европейца. Взгляните на эту взрывчатую, драматизированную, а то и самоубийственную манеру обнажаться и выворачивать себя наизнанку до полной беззащитности – чем же мы так задавлены и пригнуты? Что-то в нас самих мешает нам жить. И тогда, не решаясь или не умея встать лицом к лицу с собственной судьбой, мы зовем на помощь праздник. И бросаемся в небытие – хмель самосожжения, выстрел в пустоту, гаснущая шутиха.
Смерть – зеркало, в котором понапрасну кривляется жизнь. Весь этот пестрый клубок действий, заминок, угрызений и проб – побед и обид, составляющих жизнь любого, – находит в смерти если не смысл и не ключ, то по крайней мере конец. Перед смертью жизнь обретает очертания – и застывает. Прежде чем рассеяться, раствориться в небытии, жизнь каменеет и отливается в не подвижную скульптурную форму; теперь мы изменимся, только стираясь навсегда. Смерть высвечивает нашу жизнь. И если нет смысла в смерти, значит, не было его и в жизни. Не потому ли об умершем насильственной смертью говорят: «Он ее нашел»? Каждый и в самом деле находит свою смерть, готовит ее собственными руками. Христианская смерть и смерть собачья – разные способы не только умирать, но и жить. Если смерть обманула и кто-то умер дурной смертью, о нем жалеют: «Не сумел умереть!» Смерть, как и жизнь, у всякого своя. И если умираешь иначе, чем жил, то не оттого ли, что прожил жизнь не свою, а чужую – такую же чужую, как эта злая, добившая тебя судьба? Скажи, как ты умер, и я скажу тебе, кто ты.
Для древних обитателей Мексики черта между жизнью и смертью была не такой резкой, как для нас. Жизнь продолжалась после смерти. И наоборот. Смерть значила не естественный конец жизни, а лишь фазу бесконечного круговорота. Жизнь, смерть и воскресение чередовались в непрестанно повторяющемся космическом процессе. Жизнь венчалась переходом в свою неотъемлемую противоположность – смерть. Но и та в свою очередь существовала не сама по себе: человек питал своей смертью вечно ненасытную жизнь. Два смысла было и у жертвоприношения: с одной стороны, человек, платя положенный долг всего человеческого рода, включался в ход миросозидания, а с другой – укреплял и космическую, и держащуюся на ней общественную жизнь. Может быть, главное здесь – сверхличный смысл жертвы. Поскольку жизнь не принадлежит человеку, то ничего индивидуального нет и в его смерти. Просто в некий час умершие исчезают, либо вернувшись в туманную страну теней, либо растворясь в воздухе, земле и огне, как животворная субстанция мироздания. Наши далекие предки не считали, будто смерть – их личное дело, как никогда бы не поверили, что жизнь – это «их собственная жизнь» в христианском понимании слова. Все в мире – социальное положение, год, место, день, час – сопрягалось друг с другом, предопределяя жизнь и смерть каждого от самого рождения. Ацтек так же мало отвечал за любой свой поступок, как и за свою смерть.
Пространство и время сливались в неразрывном единстве. Любому пространству, любой из ключевых точек мира и его центру, где все замирало, соответствовало и особое «время». И это время-пространство обладало свойствами, собственной силой, исподволь предопределяя и формируя человеческую жизнь. Являясь на свет в определенный день, человек навсегда связывал себя с данным пространством, временем, цветом, судьбой. Все было предначертано заранее. Мы отделяем пространство от времени как разные площадки, на которых идет один и тот же спектакль нашей жизни, они же обитали в стольких временах-пространствах, сколько сочетаний предусматривал священный календарь. И каждый участок наделялся своим превосходящим волю человека содержанием и смыслом.
Тогдашней жизнью правили религия и судьба, как нашей – мораль и свобода. Мы живем под знаком свободы. Все – даже рок греческих трагедий и милость христианского богословия – для нас предмет выбора и борьбы; меж тем главным для ацтеков было уяснить не всегда четко выраженную волю богов. Отсюда важность гадательных умений. Свободны здесь оставались только боги. Они могли выбирать, а потому, в точном смысле слова, совершить грех. И религия ацтеков – это религия великих и грешных богов (лучший пример тому – Кецалькоатль), богов, которые могут смалодушничать, бросить своих приверженцев на произвол судьбы, как иные христиане могут отречься от своего Бога. Без предательства богов, отступившихся от своего народа, не понять, кстати, и завоевание Мексики.
С приходом католичества все изменилось. Прежде жизнь – достояние всех, жертва и спасение, теперь – личное дело каждого. Свобода очеловечивается, воплощаясь в твоем собственном уделе. Для древних ацтеков главное было сохранить непрерывность жизни; жертва обеспечивала не запредельное спасение, а космическое торжество, и кровью и смертью людей жил мир, не индивид. Христиане ставят во главу угла личность. Мир – история, общество – раз и навсегда обречен. Христос спас своей смертью всех. И каждый Человек (с большой буквы) – надежда и спасение рода человеческого. Искупление, стало быть, в твоих руках.
Как ни противостоят две эти позиции, в них есть общее: жизнь и коллектива, и индивида раскрывается в перспективе смерти, то есть своего рода новой жизни. Жизнь оправдана и преодолена, лишь воплотясь в смерти. Но и смерть запредельна и потустороння, поскольку начинает собой новую жизнь. Для христианина смерть – переход, смертельный прыжок от одной жизни к другой, от временной к вечной. Для ацтека – путь к глубочайшей сопричастности непрерывному возрождению животворящих сил, которые заглохнут, если не насытить их кровью, священным яством. И там и здесь жизнь и смерть неотделимы друг от друга, они – два лика единой яви. Но смысл ее не здесь и задан иными ценностями: они отсылают к реальности незримого.
Сегодня же в смерти нет ничего запредельного, относящегося к иному миру. Это просто неизбежное завершение естественного процесса. В мире фактов смерть лишь один из них. Но факт этот неприятен, он ставит под удар все наши идеи и сам смысл жизни, а потому философия прогресса («Прогресса от чего и к чему?» – спрашивал Шелер) берется избавить нас от его назойливого присутствия. Нынешний мир живет так, словно смерти нет. Никто не принимает ее в расчет. Напротив, ее сплошь и рядом упраздняют: возьмите проповеди политиков, рекламу торговцев, общественную мораль, повседневные привычки, неразорительные удовольствия и общедоступное спасение, которое сулят поликлиники, аптеки и стадионы. Но смерть – уже не мостик, а гигантская, зияющая и всеохватная пасть – караулит за каждым углом.
Век борьбы за здоровье, век гигиены, противозачаточных средств, болеутоляющих таблеток и синтетической пищи – это и век концлагерей, полицейского государства, угрозы атомного уничтожения и кровожадных книжонок в любом киоске. О смерти – «своей смерти» {68} , как мечтал Рильке, – не думает никто, поскольку никто не живет собственной жизнью. Всеобщая бойня – детище обобществленной жизни.
Смерть потеряла смысл и для моих соотечественников. Она уже не путь и не подступ к другой жизни, более полной, чем здешняя. Но, не отсылая теперь к запредельности, смерть не ушла из наших будней. В Нью-Йорке, Париже или Лондоне слово «смерть» не услышишь: оно жжет губы. А у нас оно с языка не сходит – брань и ласка, самая ненаглядная игрушка и самая старая любовь, без которой и сон не в сон, и праздник не в праздник. Конечно, нами тоже движет страх, но мы его по крайней мере не скрываем и от смерти не прячемся. Мы смотрим ей в лицо с нетерпением, превосходством или иронией: «Если мне умереть сегодня, значит, завтра останусь цел».
В нашем безразличии к смерти – безразличие к жизни. Для моего соотечественника ничего запредельного нет не только в смерти, но и в жизни. Из наших песен, пословиц, праздников и уличной мудрости с полной ясностью видно: смерть никого не пугает, поскольку «нас жизнь излечила от страха». Умереть – дело обычное, даже приятное, и чем быстрее, тем лучше. Равнодушие к смерти – обратная сторона нашего равнодушия к жизни. У нас легко убивают, не видя в жизни – ни в своей, ни в чужой – ничего мало-мальски ценного. И это понятно: жизнь и смерть неразрывны, и если первая теряет смысл, глубины лишается и вторая. Наша смерть – зеркало нашей жизни. И от обеих мы отгораживаемся, делая вид, что их не замечаем.
Безразличие к смерти и почитание ее друг другу не противоречат. Она живет в наших праздниках, играх, любви, разговорах с самим собой. Мысли о смерти и убийстве не покидают моих соотечественников никогда, нас буквально тянет к смерти. Может быть, это наваждение – от нашей замкнутости, от ярости, с какой мы вырываемся из заколдованного круга? Жизненные силы в нас задавлены, исковерканы негодными формами выражения, отсюда и смертоносный – злобный или самоубийственный – характер любого взрыва чувств. Выплескиваясь, мы доходим до предела остроты, на миг достигаем ускользающей из-под ног вершины жизни. И там, на высоте неистовства, вдруг чувствуем головокружение – смерть зовет нас.
Но смерть – это еще и спасение от жизни. Смерть обнажает всю ее зряшность и пустоту, сводя к тому, чем она всегда и была для нас, – груде голых костей и леденящей кровь ухмылке. В запертом и безвыходном мире, где смерть повсюду, единственное, что не обманет, – это сама смерть. Мы утверждаемся через отрицание. Черепа из сахара и цветной бумаги, расцвеченные фейерверочные скелеты, ярмарочные пьески всегда смеются над смертью, утверждая ничтожество и бессмысленность человеческого существования. Мы украшаем дома черепами, едим в День всех усопших булочки в форме костей, забавляемся куплетами и анекдотами о скалящейся надо всеми плешивой смерти, но эта панибратская похвальба не в силах заглушить вопроса, который задает себе каждый: что же такое смерть? Мы не нашли своего ответа. И всякий раз, спрашивая себя, пожимаем плечами: что мне смерть, если я и жизнь-то ни во что не ставлю?
Наглухо запершись от мира и ближних, раскрываются ли мои соотечественники навстречу смерти? Да, они ее улещивают, чествуют, носятся с ней, то и дело (и каждый раз навсегда!) бросаются ей в объятия, но никогда не предаются целиком. Мексиканцу все не по нутру, все ему чужое, тем более смерть – самое чужое на свете. Он не отдается смерти, ведь самоотдача требует жертвы. А жертва, в свою очередь, значит, что один отдает, а другой принимает. Иначе говоря, нужно открыться, встать лицом к лицу с реальностью, которая тебя превосходит. В мире без глубины, в замкнувшемся на себе мире смерть ничего не дарует и ничего не приемлет, она уничтожает себя, насыщаясь собою. Поэтому при всей ни одному другому народу не ведомой задушевности отношений со смертью у нас нет в них ни настоящего смысла, ни подлинной страсти. И если смерть у ацтеков и христиан плодоносна, то у нас она попросту стерилизована.
Иное дело – европейцы и североамериканцы. Здесь на страже человеческой жизни стоят законы, обычаи, общественная и индивидуальная мораль. Впрочем, сие нисколько не мешает росту и числа, и искусства исполнителей четкого, серийного уничтожения. Постоянные налеты профессиональных головорезов, обдумывающих и рассчитывающих свои злодеяния с недоступной мексиканцам точностью; удовольствие, с которым они распространяются о своем опыте, утехах и уловках; зачарованность, с какой поглощают эти исповеди пресса и публика, и, наконец, признанная всеми беспомощность сложившихся карательных систем, вновь и вновь сулящих сократить количество убийств в ближайшем будущем, – все это убеждает, что пресловутое уважение к человеческой жизни, которым столь кичится западная цивилизация, в лучшем случае – полуправда, если не явная ложь.
Подлинно глубокий и всеобщий культ жизни есть вместе с тем и культ смерти. Их друг от друга не оторвать. Цивилизация, отрицающая смерть, рано или поздно придет к отрицанию жизни. И совершенство нынешних преступлений не просто следствие современного технического прогресса, но и результат обесценивания жизни, неизбежно таящегося за любой попыткой отвернуться от смерти. Могу добавить, что за современным техническим совершенством, с одной стороны, и всеобщей популярностью кровожадного чтива – с другой (так же как за концлагерями и системами массового уничтожения), стоят все те же оптимистические и плоские представления о человеческом уделе. Именно поэтому бесполезно бегать от смерти в мыслях или на словах: она так или иначе найдет каждого, и в первую голову тех, кто жил не думая (точнее, якобы не думая) о ней.
Убивая из мести, ради удовольствия или прихоти, мои соотечественники всегда убивают себе подобного. Современные же преступники как статисты: они не убивают, а ликвидируют. Ставят опыты на существах, уже потерявших для них человеческие качества. В концлагере человека прежде всего низводят до полного ничтожества, лишь превратив его в предмет, можно истребить миллионы. В конце концов, обычный нынешний городской преступник – если не касаться движущих им мотивов – делает в миниатюре лишь то, что какой-нибудь из нынешних вождей – в миллионократном увеличении. Он ведь тоже на свой лад ставит опыт: готовит яды, травит труп кислотами, сжигает одежду – короче говоря, низводит жертву до положения вещи. Древняя связь между убийцей и жертвой – единственное, что делает преступление все-таки поступком человека, и единственное, что позволяет его вообразить, – здесь улетучивается. Перед нами, как в романах маркиза де Сада, лишь палачи и вещи, инструменты утехи и погибели. И то, что жертвы в реальности не существует, делает бесконечное одиночество убийцы невыносимым и безысходным. Для моих соотечественников убийство – это связь и в этом смысле даже освобождение, оно сродни празднику или исповеди. Отсюда драма убийства, его поэзия, его, рискну сказать, своеобразное величие. Убивая, мы – хоть на миг – касаемся запредельного.
В начальных стихах восьмой из своих «Дуинских элегий» Рильке говорит, что земная тварь – человек в его животной безгрешности – созерцает Открытое. Мы – другое дело: ни один из нас никогда не устремляется за пределы земного, к абсолюту. В страхе мы только отводим глаза, отворачиваемся от смерти. А не желая ее признать, навсегда замуровываем себя в жизни как самодостаточном целом. Рилькеанское Открытое – это мир, где противоположности преодолены, а свет и тьма слиты воедино. Подобное мировоззрение возвращает смерти ее настоящий, утерянный нынешней эпохой смысл: смерть и жизнь непримиримы и неразрывны. Они – половинки той сферы, которую мы, рабы времени и пространства, можем лишь смутно воображать. В мире до нашего рождения жизнь и смерть сливались, для нас они противостоят друг другу, а за последним порогом снова сольются, но уже не в животной, догреховной и досознательной слепоте, а в новообретенной безгрешности. Человек в силах преодолеть пролегший между жизнью и смертью временной разрыв, присущий вовсе не бытию, но лишь сознанию, и увидеть их в высшем единстве. Постигнуть его можно, лишь отказавшись от себя; тварное существо должно отречься от пребывания во времени, от тоски по лимбу, по животному миру, должно распахнуться навстречу смерти, если хочет воссоединиться с жизнью, – только тогда оно станет «словно ангелы».
Иначе говоря, перед лицом смерти есть два пути. Один – вперед, где она видится новым рождением, другой – назад, тут она предстает как зачарованность небытием или тоска по лимбу. Ни один из мексиканских и шире – латиноамериканских поэтов (за исключением, может быть, Сесара Вальехо) к первому пути даже не приблизился. Напротив, два мексиканских поэта, Хосе Горостиса и Хавьер Вильяуррутия {69} , воплотили в своем творчестве второй путь, но в двух противоположных смыслах. Для Горостисы жизнь есть «бесконечная смерть», затяжное падение в небытие, для Вильяуррутии она лишь «тоска по смерти».
Точный образ, вынесенный Вильяуррутией в название книги – «Тоска по смерти», – куда выше простой словесной находки. Здесь для автора – последний смысл его творчества. Смерть, понятая как тоска, а не результат или конец жизни, как бы говорит: мы дети не жизни, а смерти. Исток и начало, материнское лоно для нас не утроба, а могила. Этот взгляд предельно далек и от любующегося собой парадокса, и от попросту повторенного, навязшего в зубах общего места: все мы прах и в прах возвратимся. Мне, напротив, кажется, что поэт ищет в смерти (истинном истоке) откровения, которого не находит в жизни, – откровения жизни подлинной. Может быть, со смертью
эти стрелки часовые,
обежавши циферблат,
все в одно соединят —
и откроется за смертью
жизнь, которой нет конца.
Вернуться к изначальной смерти – значит вернуться к жизни еще до рождения и прежде кончины – в лимб, материнское лоно.
Поэма Хосе Горостисы «Бесконечная смерть», вероятно, самый значительный для латиноамериканца документ воистину современного сознания – сознания, вглядывающегося в себя и замурованного в себе, в своей собственной ослепительной ясности. Просветленный и вместе с тем безутешный, поэт пытается сорвать с реальности маску, чтобы увидеть ее настоящее лицо. Старый, как сама поэзия и любовь, диалог между миром и человеком предстает как связь между водой и вмещающим ее сосудом, мыслью и формой, в которую она воплощена и которую в конце концов разрушает. Замурованный среди видений – деревьев и мыслей, камней и чувств, дней, сумерек и ночей, которые здесь всего лишь метафоры, что-то вроде цветного фильма, – поэт понимает, что дыхание, живящее и лепящее материю, придавая ей форму, то же самое, что подтачивает, плющит и в конце концов низвергает ее. В этой драме без героев, поскольку все здесь лишь отсветы, маски самоубийцы, разговаривающего с собой на языке зеркал и отголосков, даже сам разум – всего лишь отсвет, образ, и притом чистейший образ, все той же зачарованной собою смерти. Все истаивает в собственной прозрачности, все тонет в блеске, все устремляется навстречу сияющей смерти; и сама жизнь здесь – лишь метафора, игрушка, с помощью которой смерть – снова смерть! – соблазняет сама себя. Эта поэма – глубокое развитие старинной темы Нарцисса, ни разу, впрочем, не упомянутого. И дело здесь не в том, что сознание – разом и глаз, и зеркало, как у Валери, – созерцает себя в прозрачных и безжизненных водах; нет, здесь прикинувшееся формой и жизнью, вдохом и грудью, притворяющееся уничтожением и прахом небытие в конце концов приходит к собственной наготе и, опустошенное дотла, склоняется над собою, – зачарованная собой, падающая в себя неутолимая и бесконечная смерть.
И если в празднике, во хмелю или душеизлияниях мы рано или поздно все-таки раскрываемся, то с таким ожесточением, что разрываем и попросту уничтожаем себя. Перед лицом смерти, как и перед лицом жизни, мы пожимаем плечами, отвечая ей молчанием или презрительным смешком. Праздник и убийство – в невменяемом состоянии и безо всякого мотива – доказывают, что наше хваленое равновесие всего лишь маска и ее в любую минуту может смести внезапным душевным взрывом.
Всякий из нас словно чувствует в себе и в своей стране какую-то гигантскую – живую, прирожденную и неуничтожимую – червоточину. И все наши жесты – лишь попытка спрятать эту рану, вечно кровоточащую и вновь готовую открыться и обжечь болью под лучом чужого взгляда.
Это рана отторжения. Пытаясь понять, как и когда это отторжение произошло, я убеждаюсь, что наше чувство одиночества порождено разрывом – с собой, с окружающим, с прошлым и настоящим. Доходя до предела – в разрыве с отцами, материнским лоном или землей предков, в гибели богов или пронзительной боли самосознания, – одиночество осознается как осиротелость. И оба эти чувства отождествляются с грехом. Но если вспомнить об искуплении и очищении, в каре и стыде за свою отторженность можно увидеть необходимую жертву, залог и обет будущего причастия, сулящего конец изгнанию. Вина может быть смыта, рана зарубцуется, изгнание завершится причащением. Тогда одиночество есть своего рода очистительный обряд. Одинокий или отторженный преодолевает свою заброшенность, переживая ее как испытание и обет грядущего причастия.
Но мой соотечественник – подытожим сказанное – так и не преодолевает заброшенности. Он заперт в ней. И все мы остаемся в своем одиночестве, как раненый Филоктет на Лемносе {70} , не надеясь, а страшась вернуться в мир. Для нас невыносимо присутствие ближних. Замкнутые в себе, разорванные и отчужденные, мы попусту истощаем выпавшее нам одиночество, не находя искупления вовне и творческой силы внутри. Мечемся между самоотдачей и неприступностью, воплем и немотой, шумным празднеством и погребальным бдением, но никогда и ничему не отдаемся целиком. Наше бесстрастие прикрывает жизнь маской смерти, а разрывающий маску крик возносится к небу, чтобы разлететься, распасться и рухнуть крахом и безмолвием. Мы заперты от мира и на пути жизни, и на пути смерти.
![Книга Петров И. Б. - ЧИСЛОВОЕ СОЗНАНИЕ КВАЗИРАЗУМА [16+] (СИ) автора Иван Петров](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-petrov-i.-b.-chislovoe-soznanie-kvazirazuma-16-si-421942.jpg)






