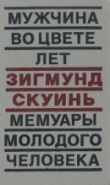Текст книги "Солнечная ночь"
Автор книги: Нодар Думбадзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Это провокация! – воскликнул Георгий.
– Молодежь – наша надежда. Пусть себе на здоровье шагает она в узких брюках и коротких платьях! Но пусть любит книгу, любит свой народ, свою Родину, свою страну! Пусть девочки носят серьги и кольца! Но пусть верят в добро и честь, как верили в бога! Пусть дерется Барамидзе, но дерется за дело! То, что какой-то мерзавец убил человека и ограбил магазин,– это не трагедия! Трагедии в том, что, кроме этого, не хотят видеть ничего другого!.. Извините, – повернулся Давид к нам, и мы увидели, как у него дрожат руки и губы,– собрание окончено.
Никто, кроме Георгия и Ушанги, не тронулся с места.
Я сижу в приемной ректора. Ом вызвал меня к часу дня. Сейчас только двенадцать, но я уже здесь. В кабинет ректора то и дело входят студенты. Потом они выходят – одни с радостной улыбкой на лице, другие – в слезах. Наш ректор строгий, ох какой строгий! Правда, лично я никогда с ним дела не имел, но все говорят, что он очень строгий. В течение четырех студенческих лет меня пугали именем этого человека, как когда-то мать пугала дворником Мамедом...
...Просто удивительно! У Мамеда семеро детей, и ни одни из них не боится его. А я, стоит Мамеду показаться во дворе, начинаю дрожать мелкой дрожыо. Да не я один. Увидев дворника, дети с визгом разбегаются по домам. Мамед только удивленно разводит руками.
– Черт бы его взял! – брюзжит тетя Марта. – О чем думают в домоуправлении?!
– Из-за н-него м-м-мой Дато стал з-за-икать-ся! – сокрушается дядя Петрэ. – Эго он н-на-п-п-пу-гал б-бедного м-м-мальчика!
Вечер. Я сижу на коленях у матери. Она держит в руке тарелку с рисовой кашей и тычет мне в рот ложку.
– Ну-ка, ешь! Ешь скорей, а то сейчас позову Мамеда! Он посадит тебя в мешок!
Я испуганно открываю рог.
– Еще! Быстро! Вот придет Мамед, заберет тебя и завтра продаст на базаре!.. Проглоти! Еще ложку! Не хочешь? Мамед! Мамед! Иди забери Темо в милицию, Мамед!
– Не надо! Я все съем! – кричу я.
Потом всю ночь мне снится Мамед. Он тащит за собой огромный мешок, хватает меня, запихивает в мешок и уносит куда-то. В мешке темно. Мамед долго идет, потом вдруг останавливается, принимается раскачивать мешок – сильнее, сильнее и, придав ему достаточный размах, бросает.
Я лечу, лечу вниз. В ушах свистит. Помогите! Помо-ги-и-ите! Подо мной отвесная скала, на скале одно-единственное дерево. Можно спастись, если зацепиться за дерево. Нет. Мимо!.. И вот уже внизу разверзлась пучина моря. Бух! Я барахтаюсь в пенистых волнах. Тону. Помогите!.. Но что это? Я плавно опускаюсь на морское дно. Дышится легко... Море теплое, прозрачное, ласковое. Мне совсем уже не страшно. Я сажусь на большой, обросший мхом камень, достаю из кармана свирель и наигрываю печальную, очень печальную песенку про Сурамскую крепость и замурованного в степе крепости мальчика...
...Помню, летом в Сурами эту песню пел старик нищий. Мать плакала. Плакал и я. Мать давала мне несколько гривенников. Я осторожно опускал их в засаленную шапку старика и недоумевал, почему сам старик не плачет?..
...Я играю на свирели. Со всех сторон ко мне подплывают рыбки – золотые, серебристые, зеленые, красные, голубые рыбки. Они плавно, чуть заметно водят хвостами, пускают пузырьки и плачут. Плачу и я. Рыбки спрашивают:
– Почему ты плачешь, мальчик?
– Рыбки мои золотые, серебристые, зеленые, голубые! Плывите, рыбки, к моей матери, скажите ей, что я жив, что я дышу, что мне здесь хорошо, но я скучаю без нее. Пусть мама придет и возьмет меня с собой.
– Как звать твою маму, мальчик? – спрашивают рыбки.
– Мою маму звать Анико!
– Но как мы узнаем ее?
– Моя мама – самая хорошая, самая красивая, самая добрая мать во всем мире! Вы сразу ее узнаете, рыбки мои дорогие! Плывите к ней!
– Хорошо, мальчик, мы найдем твою маму! А ты сыграй нам еще раз.
Я играю:
Крепость, о крепость Сурамская,
Ты горе мое и тоска...
Рыбки уплывают. Они постепенно удаляются, растворяются в голубоватой мгле и наконец исчезают. Я остаюсь один. Я играю на свирели печальную песенку про Сурамскую крепость и плачу. Потом вдруг появляется мама. Она плывет ко мне, окруженная рыбками, – моя добрая, красивая мать.
– Мама-а-а-а! – кричу я и просыпаюсь...
...Утром мать одевает меня, кормит и после долгих наставлений пускает во двор. Во дворе растет высокая акация. Я скидываю башмаки, не сводя глаз с нашего балкона, и карабкаюсь на дерево. Набиваю карманы цветами акации, быстро спускаюсь вниз, сажусь в тени небольшого сарайчика (здесь Мамед храпит свое дворницкое имущество) и принимаюсь с наслаждением уплетать пахучие, сладкие как мед цветы.
– Што ты делал, малшык! Ты совсем глупый голова, да? – слышу я голос Мамеда.
У меня холодеют руки и ноги.
– Сичас же бросал, слышал? Один маленький муравей скушал, потом твой живот как болит, ты знал? Бросал быстро! Дурак!
Мамед хватает меня за подбородок. Я закрываю глаза и выплевываю разжеванные цветы.
– Ай-ай! Какой хороший малшык, какой глупый дело делал! – сокрушается Мамед.
– Дядя Мамед, в мешок меня не посадишь? – спрашиваю я.
– Где мешок? – спрашивает Мамед.
– Милиционера не позовешь?
– Милисия? Милисия позвать, если акасия кушал!
– Нет, нет, не буду!
– Вот молодец! Если ты кушать хотел, хлеб и сыр кушал!
Мамед направляется к своему подвалу, что-то говорит жене, потом возвращается с куском сыра и краюхой черного хлеба в руках.
– Кушал! – протягивает он мне хлеб и сыр.
Тут же вертится, скулит белый пес Мамеда.
– Кушал скорей, а то собак отнять! – смеется Мамед.
Потом он берет метлу и уходит. Я набиваю рот хлебом, откусываю сыр и ем. Боже, как вкусно!
– Темур! Ты что там жуешь? Брось сейчас же и поднимайся домой! – кричит мать.
– Иду! – отвечаю я и не двигаюсь с места.
– Кто тут Барамидзе? – спрашивает вышедшая из ректорского кабинета секретарша Тина.
– Я! – отвечаю я, вставая.
Тина щурит свои близорукие глаза, пристально разглядывает меня и потом кивком головы указывает па дверь: «Входите!»
...У огромного письменного стола сидели двое – секретарь партийного бюро нашего факультета и ректор. В таком просторном, светлом и богатом кабинете мне никогда еще не приходилось бывать, да и ректора я впервые видел так близко. У меня вспотели ладони, и в коленях почувствовалась неприятная дрожь.
Ректор встал. Это был очень высокий лысый мужчина. Бросались в глаза густые, лохматые брови на его строгом лице.
– Вот это и есть Барамидзе, – сказал Давид и улыбнулся.
– Садись! – сказал ректор, указывая па тяжелое кожаное кресло.
Я остался стоять у двери.
– Садись, Барамидзе! – повторил Давид.
– Ничего, я постою, – проговорил я.
– Слушай, парень, тебе говорят, подойди и садись! – сказал ректор.
Я подошел к столу.
– Здравствуйте!
– Здравствуй! – подал ректор руку.
Я быстро вытер о брюки ладонь и протянул руку. Ректор улыбнулся.
– Мужик! – обернулся он к Давиду.
Я сел.
Наступила тишина. Ректор взял огромный красный карандаш и стал выводить в своем блокноте какие-то фигуры.
– Как звать? – вдруг спросил он.
– Теймураз! – ответил я, вставая.
– Сиди, сиди! – жестом приказал ректор.
Давид просматривал газету. Ректор молчал. Так продолжалось несколько минут. Страх и беспокойство все больше овладевали мной. Во рту пересохло. Я несмело огляделся. В углу стояли высокие деревянные часы. Массивный медный маятник раскачивался медленно, словно нехотя: тик – налево, так – направо... В другом углу на небольшом круглом столике стоял розовый графин с водой. Ах, если б можно было выпить стакан воды! Чем дольше я смотрел на графин, тем сильнее хотелось пить. Наконец это желание стало столь непреодолимым, что я не выдержал:
– Уважаемый ректор!
– Слушаю.
– Можно воды?
– Пожалуйста!
Я подошел к столику. Налил и выпил один стакан, второй...
– Оставь немного и для нас! – сказал ректор.
Я поставил стакан, отдышался.
– Что, у тебя дома нет воды? – спросил ректор.
– Есть, – смутился я.
– Ладно. А теперь расскажи все, как было! – сказал строго ректор и приготовился слушать.
– Уважаемый ректор, я не виноват...
– Ты знаешь, о чем я спрашиваю?
– О собрании, – проговорил я и покосился на Давида.
– О собрании мне Давид рассказал. Об этом мы поговорим позже, со всеми... Расскажи, как ты, напившись, собирался избить соседа!
Ректор насупил брови и резким движением наклонился вперед. Теперь он был похож на сидящего на скале и готового взлететь орла. Его все равно не обманешь, он, конечно, знает все. Разумеется, Абибо позвонил ему. Что ж, если меня собираются исключить, ври не ври – все равно исключат. Скажу правду. Может, поверит, поймет... Он должен понять.
– Клянусь мамой, я не был пьян!
– Не пьешь?
– Пью... Но тогда я и капли в рот не брал!
– Тем хуже для тебя! Значит, ты шел к нему сознательно?
– Да, сознательно.
– Почему?
– Неделю тому назад, уважаемый ректор, из колонии бежали заключенные. Двоих застрелили, троим удалось спастись. Один из спасшихся – мой друг, мой школьный друг...
– Этого друга – вора, бежавшего из заключения, арестовали в твоем доме. Так, Барамидзе?
– Да, в моем доме. О том, что он у меня, знали лишь я, мама и Абибо.
– Абибо Тодрия – ответственное лицо. Он был обязан поступить так!
Сердце у меня упало. Все! Конец! Напрасно я ему рассказал – он ничего не понял! И что, собственно, ему понимать, когда для него все ясно – «он был обязан!». Вот так. Ничего я больше не скажу!
– Дальше, Теймураз? – спросил Давид.
Я сидел, опустив голову, и молчал. Ректор встал, прошелся по кабинету, потом подошел ко мне и сказал:
– Расскажи. Только говори правду!
Я не ответил.
– Барамидзе, уважаемый Давид мне кое-что уже объяснил, но я хочу узнать все, прежде чем приму меры.
Я молчал.
– Темо, мы хотим помочь тебе, помоги и ты нам! – попросил Давид.
– Не нужна мне ничья помощь, я скажу правду. Таверу я не видел шесть лет. Теперь он бежал из тюрьмы и пришел ко мне. Он не хочет быть вором, он хочет учиться... А Абибо – бессовестный, подлый человек! Я убью его!..
У меня сперло дыхание, губы задрожали. Ректор и Давид изумленно смотрели на меня.
– Объясни толком, в чем дело! – обнял меня за плечи ректор.
– Тавера подал тысячу заявлений – просил простить, поверить ему. Писал, что он хочет учиться, работать. Тысячу писем написал он! Никто ему не поверил, никто его не выслушал! Тогда он убежал, пришел ко мне, доверился мне и попросил помощи...
– Дальше? – спросил Давид.
– Дальше... Я, кроме Абибо, никого не знал. Пошел к нему, на коленях умолял поверить Тавере, не дать ему погибнуть. Он обещал помочь. И вот Таверу арестовали... Потом я пошел к Абибо. Его не было дома, или же был, но скрылся. Зачем ему скрываться, если он честный человек? Все равно я убью его.
Ректор долго молчал, водя карандашом в блокноте. Потом вдруг спросил, глядя в упор на меня:
– Ты веришь своему Тавере?
– Верю!
– Учиться, говоришь, хочет?
– Хочет!
– Сколько ему осталось?..
– Четыре года. Он говорит, что за четыре года кончится жизнь...
– За четыре года жизнь не кончается...
– Для него кончится!
– Как фамилия этого Таверы?
– Корсавели Тавера. То есть не Тавера, а Рамаз. Рамаз Корсавелн. Таверой мы его называли в школе.
– Рамаз Корсавелн, – ректор записал в блокноте. – А ты на каком курсе?
– На четвертом.
– Как ом учится? – обратился ректор к Давиду.
– Учится, – ответил тот с улыбкой.
– А что он за человек?
– Вот такой, каким видите...
– Это, конечно, хорошо – любить и верить друзьям. Но довериться можно не каждому. Слышишь, парень?
– Тавере можно.
– Если твой Тавера действительно хотел учиться и жить по-человечески, потерпел бы еще немного. Побег из тюрьмы – преступление. Ты это понимаешь?
– Понимаю.
– Теперь ступай в свою группу и не смей больше скандалить! Учись хорошо и думай о своих делах! Тавера сам о себе позаботится...
Ректор встал. За ним поднялся Давид. Встал и я, взглянул на лежавший на столе блокнот ректора. На листке красным карандашом был нарисован красивый ослик с печальными глазами и опущенными ушами. Под осликом крупными буквами было написано: «Рамаз Корсавели (Тавера)», а в нижнем углу – непонятные цифры: «233».
– До свидания! – сказал я.
– До свидания! – ответил ректор.
Я направился к двери. Давид последовал за мной.
– Давид, останься, пожалуйста! – сказал ректор.
Я тихо прикрыл за собой дверь.
– Ну что? Какое у него настроение? – подбежал ко мне какой-то студент.
– Не заходи, убьет! – предупредил я и вышел из приемной, спустился во двор и уселся па скамейке под плакучей ивой.
...Университет напоминает огромный улей. Перед ним всегда роятся пчелы – трудолюбивые рабочие пчелы и трутни – бездельники. Через широкую орнаментированную дверь непрерывно движется пчелиный поток – туда и обратно, туда и обратно. В дверях, точно как в улье, стоят грозные стражи с красными повязками на рукаве. Они придирчиво проверяют документы у каждого входящего. Студенту без удостоверения вход в улей запрещен! Временами появляются уважаемые всеми пчелы – матки. Это наши лекторы. Сторожа встречают их почтительным поклоном. Они, в свою очередь, так же почтительно снимают шляпы и входят в дверь, словно в божий храм, низко склонив голову... Там, внутри улья, ровными симметричными рядами выстроились клетки-соты – аудитории, кабинеты, лаборатории. Да, наш университет действительно напоминает полный меду улей – жилище богов. Какое это счастье – жить в таком улье, чувствовать себя маленькой трудолюбивой рабочей пчелкой!.
ГАЛАКТИОН
Кто-то подошел ко мне и легонько ударил по колену.
– А, Гурам...
– О чем задумался?
– Да так...
– А все же?
– Был у ректора. Вызвал по поводу этой истории с Абибо.
– Он узнал?!
– Все!
– И что же?
– Рассказал ему все, как было. Всю правду.
– Что он сказал?
– Ступай, говорит, займись своим делом. Записал имя и фамилию Таверы.
– К чему бы это?
– Не знаю.
– Ладно, пойдем посидим где-нибудь, расскажешь все по порядку!
...В летнем саду «Интуриста» свободных кабин не оказалось. Мы заняли столик у бассейна и попросили пива. Справа от нас, в углу, за столом сидел пожилой широкоплечий мужчина. Спина его – сильная, сутулая – показалась мне знакомой. Мужчина медленно тянул из стакана вино. Когда официант подал нам пиво, он постучал ножом по тарелке, обернулся к нам и окликнул официанта:
– Дружок, долго еще прикажешь ждать тебя?
– Сейчас, сейчас! Я не крылатый! Вас миллион, а я один! – огрызнулся официант.
– Гурам! – прошептал я. – Взгляни на него!
– На кого?
– На Галактиона!
Гурам быстро повернулся, но Галактион уже сидел в прежней позе – спиной к нам.
– Подай сперва ему! – сказал я официанту.
– Слушай, дорогой, ты закажи для себя, а о других позабочусь я сам!
Мы заказали и попросили официанта подать все на стол Галактиона.
– Пойдем, Гурам?
– А вдруг обидится...
– Почему же? Подойдем, побеседуем.
– Пошли!
Галактион удивленно взглянул на нас.
– Галактион Васильевич, разрешите за ваш стол! – проговорил я, сгорая от стыда.
– А что, дружок, нет свободных столов?
– Мы... мы хотим с вами, – выдавил Гурам.
– Пожалуйста, присаживайтесь! – пригласил нас Галактион. Мы сели. Наступило долгое неловкое молчание.
– Кто вы, молодые люди? – спросил Галактион.
– Студенты, Галактион Васильевич, – ответил я.
– Учитесь?
– Учимся.
– Хорошо! Отлично! Замечательно! – воскликнул Галактион, протягивая руку к бутылке. Потом вдруг забеспокоился, встал, взял с соседнего стола два стакана и поставил перед нами. – Пьете?
– Пьем.
– Значит, вы знаете меня? – улыбнулся Галактион и стал разливать вино.
– Кто же вас не знает, Галактион Васильевич!
– Да вот, наш официант не знает и знать не хочет! Смотрит на меня битый час – и не узнает!
Официант подал три бутылки вина, сыр, салат, холодную говядину.
– Не узнаешь меня, дружок? – обратился к нему Галактион.
– Как же! Вы частенько к нам заглядываете!
– На кого же, по-твоему, я похож?
– Хе-хе, на священника! – хихикнул официант, глядя на пышную бороду Галактиона.
– Молодец, дружок, угадал!
Официант ушел. Галактион покачал головой.
– Видали? «На священника»! Ну, а вы, как вы думаете, на кого я похож?
Я растерялся. Что ему ответить?
– Смеетесь, Галактион Васильевич... – проговорил Гурам упавшим голосом.
– Нет, нет, дружок, серьезно!
– Вы ни на кого не похожи, Галактион Васильевич! Вы – Галактион Табидзе, большой поэт! Вы – единственный! – выпалил я.
– Это верно, я Галактион Табидзе. Но внешне? На кого я похож внешне?
– На Гёте, – сказал Гурам.
– Нет.
– На Пушкина!
– Вот еще!
– На Мицкевича!.. Байрона!.. Рембо!..
– Эк, куда хватили!
– На Руставели, Бодлера, Фирдоуси!
– Да нет же, дружок! Разве не похож я на Акакия Церетели? – сказал Галактион, проводя руками по бороде.
– Ну конечно! Очень похожи! – воскликнул я.
– Ну вот! Так говорят все. А наш официант не узнал меня. Выпьем за Акакия!
Галактион был чуть пьян. В его умных глазах горели веселые искорки.
– А вы чем занимаетесь, друзья мои? Небось сочиняете стихи?
– Я – нет, а он пишет, – сказал Гурам.
– Я больше не пишу! – сказал я.
– Почему же? Стихи пишут все, чем ты хуже других? Пиши, пиши, это полезно! – Галактион погладил меня по голове.
– Конечно! Такие стихи, как ваши, конечно, полезно писать.
– Да нет, не обязательно, чтобы все стихи были хорошими! – Галактион явно иронизировал.
Гурам раскрыл рот, и я испугался, как бы он не сморозил какую-нибудь глупость. Так оно и вышло!
– Галактион Васильевич, а как вы пишете свои стихи?
Галактион одарил Гурама уничтожающим взглядом, но промолчал. Потом он налил себе вина, отложил на тарелку кусок мяса, закрыл глаза и тихо заговорил:
– Я люблю море. Море и солнце. Каждое лето я провожу па море – в Сухуми у меня дом. Знаете об этом? – Мы кивнули. – Вот я и еду в Сухуми... Иду на пляж. Зарываюсь по горло в горячий песок лицом к солнцу и закрываю глаза... Сперва – мрак, темень. Потом появляются круги – красные, желтые, оранжевые круги. Потом постепенно в глазах светлеет, они наполняются солнцем. Солнце проникает в кровь и плоть, и я чувствую, что весь полон солнца. Потом с неба спускается красивый белокрылый ангел, он садится рядом со мной и нашептывает стихи.
Галактион умолк. Он долго сидел с закрытыми глазами, словно прислушивался к чему-то, и я готов был поверить, что белокрылый ангел порхал сейчас здесь, над нами, нашептывая своему любимцу удивительные полные солнца стихи.
– Вот так-то, друзья мои! – сказал наконец Галактион серьезно и поднял стакан. – Выпьем за ангела!
– Галактион Васильевич, – осмелился я, – неужели и впрямь вы слышите ангела?
– А как же, дружок? Все мои стихи продиктованы именно им.
– И «Никорцминда»?
– И «Никорцминда»!
Наступило молчание.
– Куда же он запропастился? – вдруг забеспокоился Галактион.
Я постучал вилкой по тарелке и огляделся. В левом углу ресторана суетились официанты, юлой вертелся вышедший из-за стойки буфетчик. Соединяли столы, со всех сторон несли стулья. Туг же хлопотал наш официант.
– Слушай, друг, забыл про нас? – окликнул я его.
Официант беспомощно развел руками – дескать,видишь, что тут делается, – и помчался к кухне.
– Сейчас он подойдет, – успокоил я Галактиона.
Минут через пять примчался запыхавшийся официант.
– Ты что же, решил уморить нас голодом?! – набросился на него Гурам.
– Погоди, слушай, не видишь, что ли, какой гость пожаловал? – отмахнулся официант.
– Какой еще гость?
– Чемпион мира по борьбе.
– Как его фамилия?
Официант оторопел.
– Ты что, с луны свалился? Газет не читаешь? Не слышал фамилию Георгия Китуашвили?! Врачи говорят, что в нем сила двух молодых бычков!
– Ладно, ладно... Принеси-ка нам, ради бога, поесть да поскорей!
Официант убежал.
А за объединенным столом пир разгорался вовсю. Окруженный восторженными почитателями и толпой счастливых официантов чемпион восседал во главе стола и мощными челюстями крошил бычью кость...
– Ну, я пойду, друзья мои! Большое вам спасибо, большое! Будьте здоровы! – Галактион встал.
– Мы проводим вас! – вскочили мы.
– Нет, нет! Не беспокойтесь!
Он шел по саду медленным шагом, тихий, сутулый, не замеченный никем. И мне стало жалко бога, которого никто не признает, бога, который так близок, так человечен и так прост, что никто не видит в нем бога...
Галактион вышел из сада.
Тамада за объединенным столом произносил тост за чемпиона. Он стоял с огромной чашей в руке и воздавал хвалу герою, который прославил родной край, человеку, плечи которого еще ни разу не прикасались к ковру, голиафу, который сто раз выжимает двухпудовую гирю, сгибает металлическую балку, головой ломает дубовые доски, который где-то, в каком-то заокеанском городе одержал чистую победу над восемью себе подобными верзилами и невредимым возвратился домой...
– Друзья! – закончил тамада свою проникновенную речь. – Я прошу вас выпить за здоровье человека, жизнь и дела которого дороже и нужнее для нашей страны, чем жизнь и дела всех нас, взятых вместе! Прошу встать! Ура нашему славному чемпиону!
Гурам схватил бутылку и сильно ударил ею по тарелке. Тарелка разлетелась вдребезги. Все оглянулись, подбежал наш официант.
– Что случилось?!
– Ничего, тарелку разбил. Добавь к счету...
Мы расплатились и направились к выходу. У дверей я оглянулся. Тамада висел на шее у чемпиона и лобызал его щеки.
...До Кашветской церкви шли молча.
– Каждый делает свое дело, каждому свое. Этот чемпион – полезный по-своему человек. В чем же он виноват? – сказал я.
– Да кто его винит? Пусть себе борется на здоровье, – улыбнулся Гурам.
– А вот тех кретинов – тамаду и официанта, – вот кого следовало бы проучить!
– За что? Каждому свое, – вздохнул Гурам и взял меня под руку.
Ажурный павильон на верхнем плато Мтацминда сотнями огней сверкал над вечерним Тбилиси.
ПАРК ИМЕНИ КИРОВА
Я никогда не был в Гайд-парке, но уверен: вряд ли там услышишь столько сенсационных, анекдотичных, фантастических новостей, как в нашем тбилисском парке имени Кирова. Так, например, здесь я впервые узнал, что персидский премьер-министр Мосаддык, оказывается, был известным аферистом; что Уинстон Черчилль в день выдувал три бутылки коньяка; что президент Рузвельт был отравлен Трумэном; что Гарриман до 14 лет учился в Кутаисской гимназии; что капитан наших динамовцев Борис Пайчадзе в историческом матче с басками играл в золотых бутсах...
В этом парке каждый день снимаются и назначаются министры, директора, заведующие, редакторы, начальники милиции – не только в республиканском, но и в союзном и даже международном масштабе. Парк кишит пенсионерами, старыми холостяками и старыми девами, пришедшими на свидание домработницами, няньками, молодыми матерями, бездомными студентами и, конечно же, болельщиками футбола. Каждая «секта» здесь имеет свое облюбованное место: шахматисты собираются в нижней части парка – здесь есть тихие уютные уголки; любители домино – у пней; болельщики: – у грибка; политики – у кафе-павильона; влюбленные – в тени плакучих ив; пенсионеры – под репродуктором; матери с детьми – у фонтана, и так далее.
Что влечет сюда людей? Ей-богу, не знаю! Лично меня устраивает месторасположение парка: отсюда рукой подать до моего дома.
...Сгущаются сумерки. Я сижу на длинной скамейке под старой сосной и разглядываю разгуливающую в парке публику. Вот эти два старичка – они в прошлом году выглядели куда бодрее. Как они изменились! Добрых полчаса ползут по дорожке и никак не доберутся до своей скамейки! В будущем году они, наверно, уже не придут сюда... Настанет день, и я так же буду тащиться по дорожке, еле передвигая ногами, а потом и вовсе не станет меня... Здесь раньше было кладбище. Потом его закрыли, и вот вырос парк... Так будет, конечно, и с другим – Верийским – кладбищем. Оно уже закрыто. Спустя год-другой там также устроят парк... И ребята – мои ровесники – также будут вспоминать: «Помните, здесь раньше было кладбище...»
К тому времени, когда я умру, превратится в парк и третье кладбище – Вакийское... И так до бесконечности, все кладбища постепенно будут превращаться в парки. Помню, когда впервые открыли кладбище в Ваке, там была голая, выжженная солнцем холмистая степь. Потом появился первый тополь над чьей-то могилой. За ним—первая сосна, первая ива. И пошло! Кругом не было воды – ее носили издалека, с реки Верэ, в ведрах, бутылках, банках, носили на спине, на ослах. И деревья росли, мужали. Теперь кладбище утопает в зелени... Да, из него получится прекрасный парк.
– Здорово, Темо!
– Привет, Картлос!
– Был на футболе?
– Нет.
Картлос присел па скамейке рядом со мной.
– Почему?
– Так. Не люблю футбол.
– Что ж ты любишь? – удивился Картлос.
– Повидло!
– Возьми с собой на стадион и ешь на здоровье! – посоветовал Картлос.
– Так и поступлю, – согласился я.
– Эх, брат, посмотрел бы ты, как сегодня играл Баса! Обалдеть можно!
– Неужели?
– Не говори!.. Маргания рукой подаст мяч Хочолава, тот пасует Авто, Авто – дриблингом вперед! Два защитника, сторожившие Баса, срываются и мчатся к нему. Баса – рывком на левый край... Ах, как он играет без мяча!.. Авто обводит одного, другого – и пас Гагнидзе на правый край! Гагнидзе останавливает мяч. Все уверены, что сейчас последует передача на Баса. Четыре игрока наглухо закрывают Гагнидзе, а тот неожиданно пасует Авто! Авто бьет! Яшин прыгает влево, а мяч летит в левый нижний. Вот это был гол!..
– А Баса, что же сделал Баса?
У Картлоса перекосилось лицо.
– О чем после этого говорить с тобой! – махнул он рукой.
– Кто же в конце концов выиграл?
– Эх, не везет нам! Понимаешь, всю игру вели мы, а выиграли они: четыре – один...
– Здорово, видать, играли наши!
– Заткнись! Что ты понимаешь в футболе! Баса – это же настоящий дирижер! Стравинский! – Картлос гордо оглядел собравшихся вокруг нас ребят.
– Нашел с кем разговаривать! – вмешался Элгуджа. Он бесцеремонно отодвинул меня и сел рядом с Картлосом.
– Бить надо того, кто скажет, что футбол – это спорт, – заявил Картлос.
– Что же это такое? – спросил я.
– Искусство! – ответил Гоги.
– А как быть с Бетховеном? – усомнился я.
– Никак. В своем деле Баса тот же Бетховен и даже Карузо.
– В каком деле? – не отставал я.
– В спорте, в каком же еще?!
– Получается, футбол – все же спорт? – съязвил я.
– Спорт – это твои глупые стихи, болван! – взорвался Картлос.
Довольные слушатели зааплодировали Картлосу. Будь я уверен в своих стихах, стоило бы продолжить полемику, но я взвесил все «за» и «против» и предпочел уступить.
– Решено, футбол – искусство! – подвел итог Гоги.
– Пусть так, – согласился я.
– Гапон, расскажи, что нового на свете! – обратился Гоги к Нодару Двали, которого почему-то называли Гапоном.
– Вчера «Голос Америки» передавал – сок испанского муравья, оказывается, успешно применяется против плешивости.
– Конечно. Наш муравей – и тот хуже иностранного! – вздохнул Гоги и провел рукой по лысине.
– Привет. В чем дело? – спросил, подходя к нам, Карло, который вел за руку большеглазого, веснушчатого парнишку.
– О, Карло! Здорово! Чей это мальчуган? – спросил я.
– Племянник мой.
– Как тебя звать, малыш?
– Гиа!
– Молодец!
– Стихи знаешь? – спросил Картлос.
– Знаю.
– А ну, прочти!
– Не хочу! – захныкал мальчик и потянул дядю за рукав.
– Сиди, не рыпайся! – прикрикнул Карло на мальчика, потом обратился к нам: – Сегодня к врачу его водил.
– Болеет?
– Какое там!
– В чем дело?
– Понимаешь, мальчишка – ярко выраженный вундеркинд! Наизусть складывает, вычитает, множит, делит любые числа!
– Не может быть! – удивился Гапон.
– Гиа, сколько будет трижды три?
– Девять! – ответил тот, не задумываясь.
– Одиннадцать отнять два?
– Девять!
– 1712 отнять 1703?
– Девять!
– 2000 отнять 1991?
– Девять!
– Ва-а! – вырвалось у нас.
– Погоди, теперь спрошу я! – сказал Гапон.
– Нет, другим он не отвечает! – объяснил Карло.
– Один вопрос! – настаивал Гапон.
– Поди поиграй, Гиа! – подтолкнул Карло вундеркинда.
– Не бей мальчика! – зашумели ребята.
– Мальчик, – воспользовался паузой Гапон, – сколько будет два и четыре?
– Девять! – выпалил маленький гений.
Ребята завопили. Я покатился со смеху.
– Так. Все понятно! – сказал Гапон.
– Да-да, его действительно следовало показать врачу.
– Сколько тебе лет, мальчик? – спросил я.
– Девять! – крикнул он и убежал.
– Впервые вижу, чтобы дядя и племянник так походили друг на друга! – произнес удивленно Элгуджа.
– Кретин, а ты в его возрасте умел считать до девяти?! – вскочил Карло.
– Ладно, ладно. Что же сказал врач? – спросил Картлос.
– Посоветовал вовремя обратить на ребенка внимание.
– Правильно, за талантами нужен особый уход! – согласился Гоги.
– Смеешься?
– Мне-то какое дело, а вот Мусхелишвили действительно стоит призадуматься. Если парень продолжит в таком же духе, годика через два наш президент Академии наук останется без работы! – ответил Гоги.
Ребята прыснули. Карло с минуту молча смотрел на нас, потом встал и пошел искать молодого Эйнштейна.
– Темо, сходи, ради бога, с ним! Чего доброго, убьет бедного пацана! – попросил меня Картлос.
Я поднялся и направился к павильону. Карло и его племянника не было нигде. У скамейки, па которой два старика играли в шахматы, я остановился. Лысому, играющему белыми, грозил неминуемый мат. Его противник – рыжебородый старик – лукаво щурил глаза. Оба молчали.
– Ты что, обиделся? – спросил наконец рыжий.
– С чего ты взял? – удивился лысый.
– Почему же не играешь?
– Разве мой ход?
– Чей же?
– Так и сказал бы!
– А что тут говорить? Нужно играть, и все!
– Пожалуйста!.. «Что наша жизнь? Игра!..» – пропели белые, выдвигая пешку.
– «Сегодня ты, а завтра я!..» – продолжили черные. – Шах!
– Пардон, пардон! Я случайно!
– Пожалуйста, играй снова, – согласился рыжий.
Белые переставили коня.
– Конь так не ходит! – поправил рыжий.
– Пардон! Тогда мы пойдем вот так-с! – Лысый выдвинул тут же пешку.
– Шах!
– Э, нет, ход-то был твой! – затеяли белые интригу.
– Пожалуйста, – не поддался рыжий.
– Играй!
– Шах!
– Переставьте короля! – не выдержал я.
– Проходи, сынок, не вмешивайся не в свое дело! – сказал наставительно рыжий.
Действительно, я грубо нарушил шахматную этику. Но идти не хотелось, и я присел тут же на скамейку. Старики начали новую партию. Пока разыгрывались первые традиционные ходы, я стал разглядывать публику. Напротив меня на скамейке вполоборота сидела девушка. Правой рукой она опиралась на спинку скамейки, в левой держала раскрытую книжку. Из-под короткого платья виднелись ее красивые загорелые ноги. Лицо девушки скрывала прядь иссиня-черных волос.
– Все, все! Ход сделан!
– Фигура у меня еще в руке!
– Ход сделан!
– Говорю тебе, фигура в руке! – зашумели мои старики.
Девушка оглянулась. Оглянулась, и у меня оборвалось сердце: это была Лия! Она сразу же отвернулась, потом снова пристально взглянула на меня и опять нагнула голову, – должно быть, вспоминая, где она видела меня. Спустя минуту она еще раз бросила на меня быстрый взгляд, потом устроилась на скамейке поудобнее и углубилась в книгу.