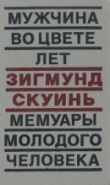Текст книги "Солнечная ночь"
Автор книги: Нодар Думбадзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
– Уважаемый Шалва, сегодня я не буду читать.
– Почему? – удивился Шалва.
– Я ничего не написал.
– Почему же? Ведь прошу я всех вас – пишите стихи!
– А что писать? Все равно вы нас на смех поднимаете! – проговорил Тенгиз.
– Что значит – на смех? Может, вы думаете, мне больше нечего делать, как только слушать вашу болтовню? Да лучше я сяду дома, почитаю Толстого, Экзюпери, Галактиона...*1 – обиделся Шалва.
– Поэт – натура нежная. С ним нужно быть чутким, – сказал Циклаури.
– Это кто же нежные натуры? Может, ты, Циклаури? Или Абесадзе? Да запряги вас вместо волов, вы гектар земли перепашете!
– Физическая комплекция тут ни при чем. Вы в душу поэта загляните, – подал реплику один из начинающих критиков.
– Гляжу, дорогой, и ничего не вижу.
– А вы должны увидеть, открыть! – настаивал критик.
– Я не Колумб! Я критик.
– Ведь сумел же Чавчавадзе открыть Бараташвили? – крикнул кто-то.
Бараташвили существовал. Чавчавадзе было что открывать. Пожалуйста, будем величать друг друга Белинскими, Толстыми, Бараташвили. Ведь нам никто не поверит?
–Тем хуже для них! – заявил Циклаури.
– Циклаури, ты напиши хоть одно стихотворение, хоть одну строфу, похожую на стихи Бараташвили, и я сам, своими руками воздвигну тебе памятник рядом с памятником Руставели. Чего же тебе больше?
– Дайте срок, – сказал Алавпдзе.
– Сколько же прикажешь ждать? В ваши годы Бараташвили был уже мертв!
– Но Гёте написал «Фауста» в восемьдесят лет! – напомнил Гурам.
–Так что ты советуешь, Чичинадзе? Ждать, пока Циклаури исполнится восемьдесят лет и он напишет «Фауста»?
– Я имею в виду не Циклаури.
– Значит, Абесадзе?
– И не Абесадзе.
– О ком же ты говоришь?
– Я говорю вообще.
– Что значит – вообще? Значит, по-твоему, критики не должны критиковать никого моложе семидесяти лет? Так, что ли?
Гурам проглотил слюну и, не придумав в ответ ничего, сел.
– Ведь вы сами писали стихи, и, если не ошибаюсь, довольно слабые, – съязвил начинающий критик.
– Правильно. Писал. Но мне сказали, что это плохие стихи, и я бросил писать. Есть еще вопросы?
Вопросов больше не было. Шалва встал и продолжал:
– Товарищи, я вам не враг, нет! Напишите хорошие, настоящие стихи, и я сам буду вашим первым панегиристом. Но кто, как не я, обязан сказать вам прямо,что хорошо и что плохо? Ну как не сказать Циклаури, что гордым может быть человек, животное, зверь, ну, птица, наконец. Но огурец... Нельзя же так, товарищи. Или компас. Подумайте, что получится, если возьмет какой-нибудь американский поэт и напишет: стрелка, дескать, тянется к северу потому, что на севере Трумэн, а к югу – потому, что там Чан Кайши! Ведь север и юг, к сожалению, есть не только у нашей страны. И вообще, товарищи, запомните: цель нашего кружка заключается не в воспитании сорока гениев. Не дай бог, чтобы в одном кружке, к тому же руководимом мною, было сорок Бараташвили, Чавчавадзе или Церетели! Не обманывайте себя. Для Грузии будет счастьем, если из вас вырастет хоть один талантливый поэт, прозаик, критик или переводчик. А если кто не понимает этого или не верит мне, пусть встанет, наденет фуражку и уйдет домой.
Шалва замолчал и сел. Никто не шелохнулся. Никто не осмеливался выйти первым. Сорок человек, словно завороженные, не шевелясь, смотрели на него.
Шалва догадался об охватившей нас неловкости, поэтому встал и вышел из аудитории.
ЗАКУСОЧНАЯ
Закусочную па одной из кривых улочек Навталуги *2 все называют духаном Окропсты. Закусочная – небольшой темный подвальчик, но чародею Окропете одному ему известными путями удалось поднять притягательную силу своего заведения на недосягаемую для многих солидных ресторанов высоту. Здесь всегда можно полакомиться шашлыком из молодого барашка, отменным филеем, бесподобной бастурмой, дымящимся чанахи, свежим сыром и трехлетиям вином. Правда, цены в духане Окропеты особые, не поддающиеся никакой калькуляции, но тем не менее мы иногда позволяем себе такую роскошь – пообедать в этом соблазнительном подвале.
Увидев нас, Окропега одной рукой взялся за бок, другой воткнул в деревянную стойку огромный кухонный нож и громко объявил:
– Часы, паспорта и пиджаки в залог не беру!
– Дяде Окропете наш привет! – улыбнулся Гурам.
– И студбилеты тоже!
– Сегодня день стипендии, дядя Окропета! – сказал Гурам.
– Какое сегодня число? – спросил подозрительно Окропета.
– Двадцать пятое, – сказал я.
– Садитесь, – разрешил хозяин подвала.
Мы уселись за столик. Окропета подошел к нам и уперся в стол своими огромными ручищами.
– Чем угостить?
– А что у тебя есть? – сказал я.
– Духан Окропеты – сказка, Окропета – волшебник! Ты только пожелай!
Я пожелал. Через две минуты на столе появились два шоти*3, тушинский сыр, два филея, зелень, огурцы, помидоры и четыре бутылки вина.
– Где же он? – спросил Окропета.
– Кто?
– Ну, тот, с большой головой... который читает длинные и странные стихи...
– Таких сколько угодно!
– Голос у него тонкий, а он все старается говорить басом... Под конец бьет себя по голове бутылкой.
– А-а-а, знаю! – вспомнил я. – Его сегодня убили. Похороны в следующую пятницу.
– Так я и знал, – вздохнул Окропета. – Уж больно скандальный был человек... Как его убили?
– Как его убили? – спросил я Гурама.
– Кого убили? – не понял Гурам.
– Циклаури!
– О-о, не только его, и другого убили. И этого хотели укокошить, еле спасся! – сказал Гурам и нежно погладил меня по голове.
– Как это хотели?! – возмутился Окропета.
– Вот так. Ни за что, ни про что...
– Кто же этот злодей?
– Есть один...
– Значит, провинился в чем-то.
– Ничего особенного. Почему, говорит, пишете плохие стихи?
– Ва, какое ему дело?! – удивился Окропета.
– Он говорит, что убить человека можно и плохим стихом.
– А ты бы сказал ему, что стихи не пуля: не нравятся – не читай.
– Сказал.
– А что он?
– Не верит.
– Тогда поделом ему. Пусть читает!.. Двоих, говоришь, убил?
– Да нет, это так говорится, что убил. Впрочем, если б у этих убитых была совесть, сами бы застрелились, – сказал Гурам.
– Так и сказали бы. А то – убили! Сердце у меня перевернулось! – обрадовался Окропета.
В подвале наступила тишина, которую нарушали лишь шуршание метлы и тихий звон перебираемой посуды. На стене передо мной открывались захватывающие эпизоды охоты. Олень с торчащей в ноге стрелой осуждающе смотрел на охотника, который почему-то держал в руке не лук, а ружье. Рядом стая гончих окружила кабана. Пестрые поросята, укрывшись за спиной отца, с интересом взирали, что же произойдет дальше. Третья картина была задумана как наглядное торжество добра над злом: охотник убивал лису, в пасти которой барахтался перепуганный петух. Интересная галерея завершалась не менее интересным объявлением:
«Петь, шуметь и танцевать строго воспрещается!»
Первую бутылку распили в молчании. Потом Гурама посетила муза красноречия. Он наполнил стаканы, прочистил горло и приготовился к речи.
– Не надо! – сказал я.
– Надо! – ответил он.
– Ну, валяй! – разрешил я.
– Сколько лет мы знаем друг друга? – спросил Гурам.
– Много.
– Все же?
– Одни, два, три... С детского сада.
– Ну?
– Что – ну?
– Сколько же лет получается?
– Будь другом, выпей и успокойся! – попросил я его.
– Я уже пьян. Выпьем за нашу дружбу!
– Выпьем.
Гурам снопа наполнил стаканы.
– Теперь я хочу выпить за здоровье твоей матери, – начал он.
Я поднял голову. Гурам сосредоточенно вылавливал мизинцем в стакане пробковую крошку – очевидно, раздумывал, что и как сказать.
– Не только за нее, вообще за здоровье матерей во главе с твоей!
– Почему – с моей?
– Потому!
– Спасибо.
– Погоди, не пей. Я хочу выпить за бога!
– Ты же пил за мою мать?
– Я хочу выпить за бога! – повторил Гурам. – За обманутого, поруганного, забытого, околпаченного бога!
– Да здравствует околпаченный бог! – сказал я.
– Сам ты колпак!
– А ты кто?
– Я тоже колпак, вдвойне колпак, иначе не пил бы с тобой за здоровье бога!
– Слушай, что ты пристал ко мне?
– Я хочу выпить за бога!
– Ну и пей, кто тебе мешает?
– Встань! – Я встал. – За твою мать!
– Спасибо.
– Знаешь ли ты, кто такая твоя мать? – спросил Гурам.
Я не ответил. Гурам долго смотрел на меня, потом подлил в стакан вина и начал:
– Твоя мать – бог. Ты видишь ее, она – тебя, ты зовешь ее мамой, она тебя – сыном, и потому ты думаешь, что бога нет? По-твоему, бог – кто? Бородатый дедушка? Сидит на облаках, моет бороду и орошает землю дождем, да? Бог так ясен, так близок и так прост, что, глядя на него, ты не знаешь, не представляешь, не веришь, что это бог. В этом несчастье бога, потому-то и не веруют в бога. Будь он где-то там, вдали, сам по себе, тогда каждый бы поверил в него. Вот в чем суть!.. А в бога нужно верить тогда, когда он не в лике божьем, когда он по-человечески делится с тобой хлебом, кормит, одевает, укрывает тебя, улыбается, целует тебя, готов умереть ради тебя, черту душу отдаст ради тебя, – вот тогда нужно верить в бога! Если бог объявится богом да возьмет тебя за ухо, поставит к стенке и скажет: «Я бог! Веруй в меня!» – тогда грош цена твоей вере. Нет, ты поверь в бога, который похож на тебя, на меня, на твою мать. Понятно?
– Понятно, – ответил я и, желая покончить с затянувшимся разглагольствованием Гурама, быстро осушил свой стакан.
– Молодец! – похвалил меня Гурам.
Окропета принес еще две бутылки вина, но, увидев окосевшего Гурама, вопросительно взглянул на меня.
– Совестно ему глядеть на тебя, – объяснил я.
Гурам налил Окропете.
– Выпей за здоровье его матери!
Окропета провел рукой по жирным губам и поднял стакан.
– Немного, ладно?
– До дна! – приказал Гурам.
– За ваших матерей!
– Пей!
– Дай бог им здоровья!
– Пей!
Окропета мигом опрокинул в рот стакан, потом искоса взглянул на нас и взялся за полную бутылку.
– Куда несешь? – приподнялся Гурам.
– Хватит вам!
– Хватит? – спросил меня Гурам.
Я кивнул головой.
– Ну, ладно, бери!.. Теперь выпьем за тебя, Темур!
– Выпьем вместе – за нас с тобой! – попросил я.
– Ладно. Я тебя очень люблю, Темур. Знаешь, за что?
– Знаю.
– Ни черта ты не знаешь!.. А ну, скажи, за что?
– Не знаю!
– То-то! Ты мой брат, настоящий брат! Раньше я боялся тебя, потом стеснялся. Долго боялся и стеснялся.
– Чего ты боялся?
– Не знаю... Боялся... Ты всегда был одинок...
– Что же тебя пугало?
– Не знаю... Когда в классе что-то пропадало, я боялся, что это ты. Когда ты пропускал уроки, я боялся, что это навсегда. Когда Тавера попался в воровстве, я боялся, что и тебя арестуют. После окончания школы я боялся, что ты не станешь учиться дальше. А когда мои опасения не оправдывались, мне становилось стыдно и радостно...
Гурам помолчал, потом продолжил:
– Ведь мы братья?
– Конечно. Что же дальше?
– Если с тобой что-нибудь случится, я покончу с собой!
– Дурак!
– Пусть.
Гурам выпил. Мне тоже захотелось произнести речь.
– За нас с тобой, Гурам! За того, кого ты называешь богом! За человека сильного, честного, доброго! За нашу веру! А теперь я пойду и сожгу все свои стихи, все до единого!
– Потомство оценит твой благородный поступок!
– Да, сожгу. И потом до утра буду читать одно-единственное божественное стихотворение.
ОДА НИКОРЦМИНДЕ* 4
Я лиру подъемлю мою.
Я пою
высоко и привольно —
природа живого дыханья, камня природа!
Сошло озаренье ко мне.
Твое солнце
берет мою душу лучами-руками.
О стихотворенье,
из камня и неба,
из неба и камня,
моя Никорцминда!
Застывшего немо,
меня
ты в себе растворяешь
и неба,
неба врата
предо мной растворяешь.
...Кто к небу вознес Никорцминду?
Кто создал все это?
Ваятель —
взял он орнамент из тени и света,
на спицах лучей,
что художнику ниспосылают светила
бессонных ночей.
О непреодолимая сила
гармонии,
вечная,
вещая
сила искания,
пришедшая в мир ораторией
ставшего музыкой камня!
Здесь создал творец,
как ему повелели созвездья,
легчайшие арки,
колонн голубые соцветья.
Здесь волею вышней
привел человеческий гений
игру полусветов и мраков
на грань сновидений...
Кто гений? Кто он,
полубог,
чье одно мановение
в двенадцать окон Никорцминды
вдохнуло горение
священное,
линий полет к облакам устремило
и пламенем светлого храма
века озарило?
И Время
вкруг купола
стало подобием нимба,
и церковь в сиянии этом,
как белая нимфа...
Ты в солнце паришь,
ты светла,
высока н надмирна,
но, словно порыв
вдохновения,
ты, Никорцминда,
порыв
разомкнувшихся вежд и простершихся дланей —
всех линийI
Свершенье надежд,
исполнение желаний,
покой и пространство
сердцем ты даришь, Никорцминда,
затем, что стоишь
на грузинской земле
нерушимо.
И в отблеск восхода,
как в сон о тебе наяву,
как возглас восторга,
твой купол
упал в синеву,
мир линий и ритмов,
зов звонов.
Паденье в пространство,
паренье
на плещущих крыльях грифонов
прозрачно
твое, Никорцминда...
Я славлю исканья!
Веками,
храня и меняя обличье,
исканья
из камня.
Венец их пою,
прославляю величье
твое, Никорцминда!
– За нашего бога, мой Гурам! За бога, который не сидит на облаках, не моет бороду, не орошает землю дождем, который ради нас душу отдаст черту!
Я выпил и закрыл глаза. Кругом мерцало, переливалось море синих, розовых звезд. Потом я почувствовал на плече чью-то огромную лапу и открыл глаза. В тумане вырисовывался незнакомый великан с бухгалтерскими счетами в руках. Это был не бог. Это был черт, явившийся за нашими душами.
...Мать сидела у окна и что-то читала. Она была настолько увлечена, что не заметила, как я вошел в комнату. До сих пор я ни разу не говорил ей, что пишу стихи. Она, в свою очередь, никогда об этом меня не спрашивала. Тем не менее я чувствовал, что мать о чем-то догадывается – часто ночью, мучась над непокорной рифмой, я вдруг замечал ее любопытный, настороженный взгляд. Мысли мои путались, я закрывал тетрадь и ложился спать. И вот сейчас я понял, что в руках у матери моя заветная тетрадь.
– Мама!
Мать вздрогнула, быстро захлопнула тетрадь и испуганно взглянула на меня.
– Эту тетрадь, сынок... – она запнулась. – Ты не обижайся... Прочту и положу на место.
Во взгляде матери я уловил мольбу, и мне стало ужасно неловко.
– Что ты, мама! Я просто стеснялся показать их тебе, думал, не понравятся...
– Сейчас дочитаю, осталось два-три стихотворения.
Я вышел на кухню. Когда спустя несколько минут я вернулся, мать накрывала па стол.
– Ну как, мама, понравились стихи? – спросил я с наигранным равнодушием.
Мать улыбнулась и кивнула головой.
– А все же?
– Так себе... – ответила мать.
– Как?! – удивился я.
– Ну да, стихи ничего себе! – повторила мать.
– Не нравятся? – спросил я испуганно.
– А тебе нравятся?
У меня вдруг пересохло во рту.
– Разумеется... Пишу – значит, нравятся... Каждому нравится своя работа.
– Как сказать... Вот я, например, недовольна своей работой – обед получился невкусным.
– То, что не нравится, я выбрасываю!
– А я все же решила оставить, может, тебе понравится. Садись попробуй.
Я нехотя взял ложку. Суп из фасоли показался на редкость невкусным. Я молча отодвинул тарелку.
– Ну вот, оставила тебя голодным! – забеспокоилась мать.
– Мама, чего, по-твоему, не хватает моим стихам?
– Хватает-то всего, все на своем месте: рифма, размер...
– Чего же еще?
Мать долго молчала, закрыв глаза и обхватив руками голову, потом сказала:
״– Стихи – как человек, сынок. Мало разве людей – все у них на месте: руки, ноги, нос, глаза, – и все же это не люди. Смотришь на такого: человек как человек, а узнаешь поближе – нет человека – чего-то ему не хватает именно человеческого... Ты не обижайся, сынок, но твоим стихам тоже чего-то не хватает. Чего-то такого, что нельзя высказать словами.
– Ты хочешь сказать – не хватает души?
– Нет, сынок, души-то в них как раз слишком много, так много, что не
остается места для твоей собственной души.
– Не понимаю!
– В том-то и дело. Не понимаешь...
– Ничего мое тебе не нравится, ничему не веришь. Тебе не угодишь! – вспыхнул я.
– С чего ты взял, сынок? Для меня дорого все написанное тобой, будь то хоть мой смертный приговор. Лишь бы чувствовались в нем твоя душа, твоя кровь, твои думы... Пиши о том, что беспокоит тебя.
– А это что? – схватил я тетрадь.
– Простые упражнения. Ты способный мальчик, и рифма дается тебе легче, чем другим: «край» – «рай», «заря» – «моря». Вот и все, – сказала мать и стала убирать со стола.
Мне еще не доводилось видеть свою мать столь прямой, строгой и бесцеремонной в разговоре со мной. Я смотрел на нее удивленно, даже с испугом. Она почувствовала, что обошлась со мной слишком жестоко, и расстроилась. Движения ее стали резкими, суетливыми. Она опрокинула стакан, уронила ложку и, наконец, разбила тарелку. Я подошел к ней, обнял за плечи и, улыбаясь, спросил:
– Мама, ты думаешь, я обиделся?
– Нет, сынок. Это я сегодня что-то не в духе. А стихи у тебя хорошие. Вот это, например: «Подари мне улыбку твою». Это, конечно, для Гулико?.. Или другое: «Луна над Метехи». И вот это: «Домик мой старый, милый...» Очень поправилось... Гулико ведь нравятся твои стихи?.. Сегодня я сама не своя. Читала с таким удовольствием, и вдруг... Ей-богу, не знаю, что со мной...
Мать разволновалась, язык у нес стал заплетаться, руки дрожали.
– Очень хорошие стихи! Я даже всплакнула. Как это у тебя сказано про меня? Так тепло, так хорошо.
Мать лгала, глядя мне в глаза. Она забыла все, о чем минуту тому назад говорила так смело и убежденно. Сейчас она лгала, лгала с единственной целью – не обидеть, не отпугнуть меня. И чем явней и наивней была эта ложь, тем ближе и родней становилась она, моя бедная, несчастная мать. Я готов был схватить проклятую тетрадь, изорвать ее в клочья, броситься на колени и долго-долго целовать дрожащие руки матери. С трудом сдерживая душившие меня рыдания, я выбежал из комнаты.
МОРЕ
Над раскаленным песком колышется легкое марево. Через накинутую на глаза косынку Гулико я смотрю на солнце. Оно переливается всеми цветами радуги – красным, зеленым, желтым, синим, сиреневым... Я пальцами суживаю веки – на небе появляется несколько солнц. Они дрожат, словно пестрые веерообразные павлиньи хвосты. Вот таким, наверно, видят небо эскимосы – полным красок и солнц. Какое счастье! Я улыбаюсь своим глупым мыслям и раздвигаю веки. Сейчас на небе по-прежнему одно солнце – огромное пылающее солнце.
– Пять калорий принято! Переворачивайтесь! – предупреждает дежурная по пляжу.
Интересно, сколько калорий принял я?.. Мало, оказывается, знать, что ты лежишь на горячем песке и загораешь под солнцем. Нужно еще считать, сколько калорий тепла приняло твое тело. Смешно!
Вдруг на лицо мне упала темь. Я скинул с глаз косынку и поднял голову. Надо мной стояла девушка – стройная, как тополь, с белым, точно выточенным из мрамора, лицом, огромными синими глазами и копной иссиня-черных волос. Это была она!
...Вчера вечером она вошла в мою комнату и спросила:
– Простите, вы и Авто живете вместе?
– Какой Авто?
– Авто!
– А-а, конечно! Садитесь, пожалуйста!
– Вас зовут Гиви?
– Да-да. «Господи, как она красива!..» Прошу вас, садитесь!
– Где он?
– Авто? «Какие у нее глаза, боже мой, какие волосы!..»
– Скоро он вернется?
– Скоро. Садитесь же, пожалуйста! Желаете шампанского?
– Спасибо, не хочу.
– Лимонаду?
– Нет!
– Угощайтесь шоколадом!
– Обещал встретить на вокзале, устроить номер... Куда же он делся?.. Хорошо еще, оказался свободный номер... Я выехала из Тбилиси днем позже... А вы вместе приехали?
– Кто? Я и Авто? Да. Вместе.
– Я внизу, в сто пятом номере. Передайте ему, пусть позвонит.
Девушка встала.
– Посидите немного. Выпьем по бокалу за наше знакомство.
– Хорошо.
Я быстро наполнил бокалы, и мы чокнулись.
– За наше знакомство!
– Да.
Мы улыбнулись друг другу, и вдруг улыбка застыла у меня на губах. В дверях стояла Гулико! Дальше все произошло так, как это бывает в плохих опереттах. Девушка обернулась, удивленно взглянула на Гулико и медленно поставила бокал. Хлопнула дверь.
– В чем дело? – спросила девушка.
– Ничего, так... – проговорил я и выбежал из комнаты.
Дверь в номер Гулико оказалась запертой изнутри. Возвратясь к себе, я застал Гурама, который сидел на кровати и смешно хлопал глазами. Девушки в номере не было.
– Слушай, – набросился на меня Гурам. – Что тут происходит?
– Что она сказала?
– Спрашивала про какого-то Авто.
– А что ты ответил?
Я ответил, что, во-первых, не знаю, кто такой Авто, и, во-вторых, он здесь не живет.
– А что она?
– Сказала «Кретин!» и ушла. Разве я виноват?
– Да нет, ты тут ни при чем! А я пропал! Гулико видела все!
– Что же вы тут вытворяли?
– Ничего! Пили шампанское.
– Еще что?
– Ничего.
– Кто она?
– Не знаю.
– Так я тебе и поверил! – рассмеялся Гурам...
...Рассказывают: встретились как-то два друга, один – веселый, другой – печальный.
– Как живешь, брат мой? – спросил веселый.
– Не спрашивай! – вздохнул печальный. – Приключилась со мной беда, да такая странная – никто мне не верит! Знаю, и ты не поверишь!
– В чем же дело? – удивился веселый.
– Жена меня из дому выгнала!
– В чем ты провинился?
– А вот послушай... Шел я как-то домой. Было холодно, дождь лил как из ведра... Вдруг слышу, зовет кто-то меня жалким голосом. Оглянулся, вижу: сидит на краю дороги лягушка и плачет горькими слезами... «Возьми меня, добрый человек, видишь – помираю...» Взял я бедняжку, принес домой, отогрел и посадил на лавку... Стал я обедать. И слышу опять голос лягушки: «Накорми меня, добрый человек!» Что тут было делать? Накормил я лягушку, напоил... Лег я спать... И снова заговорила лягушка: «Боязно мне одной, добрый человек, положи меня с собой». Как бы ты поступил на моем месте? Взял лягушку к себе в кровать. Прижалась бедняжка ко мне, лапками обняла и вдруг обернулась прекрасной молодой девушкой. Тут, как на грех, входит жена. Представляешь, что произошло дальше? Скандал! Истерика! Обморок! Я привел жену в чувство, а потом рассказал все, как было. Не поверила она ни одному моему слову и выгнала из дому. Каково?
– Да кто же такой сказке поверит! – улыбнулся веселый.
– А что я говорил?! И ты мне не веришь, – вздохнул печальный и, понурив голову, продолжил свой путь.
Не знаю, удалось ли мне убедить Гулико... Так или иначе, эта девушка сейчас стояла здесь, на пляже, рядом со мной.
– Простите, свободен? – спросила она, коснувшись ногой лежака.
– Пожалуйста! Садитесь! – ответил я и придвинул к себе валявшиеся под лежаком тапочки Гулико.
Девушка нагнулась. «Поправит лежак и сядет», – подумал я. Но не тут-то было! Она взялась за край лежака и поволокла. Я остолбенел.
– Простите, девушка...
– Вы мне? – обернулась она.
– Да. Видите ли... – Я хотел сказать ей, что лежак занят, я думал, что она собирается лишь присесть, но не осмелился сказать и глупо улыбнулся. – Вы из Тбилиси?
– Да. А в чем дело? – остановилась она и сняла очки.
– Просто так... Уж слишком вы белая!
– Не беспокойтесь, успею загореть!
– Ради бога, не делайте этого!
– Постараюсь!
– Благодарю вас.
– Пожалуйста!
Девушка надела очки и зашагала дальше, волоча за собой лежак. Метрах в десяти от меня она остановилась и принялась раздеваться. Я отвернулся.
Море было спокойно. Еле заметные волны с тихим шелестом набегали на берег и откатывались, оставляя на прибрежном песке белый пенистый след. А берег шумел, шумела пестрая, многоликая, многоязычная толпа. Играли в мяч, в карты, слышались громкий смех, возгласы, визжали дети. Где-то звенела гитара, доносилась песня... Одни, прикрыв носы бумагой, не двигаясь, раскинув руки, лежали под палящим солнцем. Другие с громкими воплями плескались у берега в воде, ныряли, кувыркались.
Некоторые заплывали далеко – их головы виднелись, словно маленькие движущиеся островки, ветерок доносил их веселый смех, крики. А море – бескрайнее, бездонное море – не замечало всей этой человеческой возни, не замечало толпы – хохочущей, поющей, стонущей, мятущейся. Море было спокойно.
Девушка разделась. На ней был темно-вишневый купальник. Темное, цвета спелой пшеницы тело подчеркивало белизну ее лица. «Косметика», – подумал я. Девушка легла на лежак. Вдруг к ней подошел плечистый, высокий, коротко подстриженный парень.
– Что ему нужно? – услышал я его грубый голос.
Сердце у меня сжалось.
– Кому? – спросила девушка.
– Тому типу, – парень бесцеремонно посмотрел на меня.
Я почувствовал, как похолодели мои руки, но сделал вид, что ничего не слышал. Я медленно нагнулся, выбрал плоский круглый камень и, размахнувшись, метнул его по водной глади. Отскочив несколько раз от поверхности, камень исчез в море.
– Ему? Ничего...
– О чем вы разговаривали?
– Ни о чем, – сказала раздраженно девушка. – Я попросила лежак.
– И все?
– Все!
– А почему он улыбнулся?
– Он улыбался не мне!
– Да?
Что она ответила, я не расслышал. Парень громко рассмеялся, потом опустился на колени, обнял голые плечи девушки и прижался головой к ее голове. Я отвел глаза.
– Темо! Темо-о-о! – донесся с моря крик Гурама.
Он и Гулико плыли к берегу. Я помахал им рукой и лег на спину.
Медный диск солнца приближался к горизонту. Куда же они запропастились?
Первым на берег вышел Гурам. Пыхтя и брызгаясь, он смешно запрыгал на одной ноге у самой моей головы.
– Пошел, пошел! – прикрикнул я на него.
– Ау-у, где мы были! – с трудом выговорил, лязгая зубами, Гурам и ткнулся посиневшим подбородком в теплый песок.
– Где?
– Далеко-о!
– И что вы там видели? – съязвил я.
– Нептуна! Понятно? – обиделся Гурам.
Подошла Гулико.
– Полотенце! – потребовала она.
– Есть! – ответил я, подавая полотенце.
Гулико вытерлась и удивленно огляделась.
– Где лежак? – спросила она меня.
– Какой лежак?
– Лежак.
–А-а, лежак! Гурам, куда девался лежак?
– ?!
– Здесь был мой лежак. Где он? – нахмурилась Гулико.
– Существует такая наука – о перемещении вещей, – сказал я.
– Встань сейчас же и принеси!
– Гурам, принеси, пожалуйста, лежак, – вон он! – попросил я.
– Ты отдал, ты и принеси! – огрызнулся Гурам.
Девушка вышла из воды и направилась к лежаку.
Гулико посмотрела на нее, потом на меня.
– Ты ей отдал мой лежак?
Я промолчал.
– Почему?
– Не знаю...
– Кто она?
– Не знаю...
– Не знаешь?
– Нет.
Девушка поняла все. Она быстро встала, схватила лежак и подтащила к нам. Я был готов провалиться сквозь землю.
– Извините, – сказала девушка, – я взяла без разрешения.
– Пожалуйста! Он нам не нужен! – ответила Гулико.
– Нам тоже, – улыбнулась девушка.
– Тем более! – сказала Гулико.
– Что тем более? – не поняла девушка.
– Ничего. Можете взять себе!
– Но он не нужен нам, мы уходим.
– Тогда сдайте лежак дежурному и не забудьте возвратить мой студбилет. Зовут меня Гулико, фамилия – Цибадзе.
– Гулико! – взмолился я.
– Отвернись!
Я отвернулся, а когда снова обернулся, не было ни девушки, ни лежака, ни Гулико... Ее платье мелькнуло у выхода с пляжа.
– Пойду и я, – сказал Гурам.
– Подожди, посмотрим на закат.
– Кто же проводит Гулико?
– Не уходи.
– Странный ты человек, просто кретин какой-то, – вздохнул Гурам и сел.
Я поискал глазами виновницу моей беды. Она одевалась. С поднятыми вверх руками и чуть согнутой в коленке ногой девушка напоминала античную фигуру. Парень взял под мышку злополучный лежак и направился к выходу. Поправляя платье, девушка вдруг обернулась. Наши глаза встретились. Она улыбнулась. Я ответил улыбкой.
– Нет, не такой уж ты кретин! – понимающе произнес Гурам и снова вздохнул.
Солнце уже коснулось воды. От горизонта к берегу потянулась ослепительно сверкающая золотая тропинка. Мне захотелось побежать по этой тропинке, успеть коснуться рукой солнца, пока оно не скрылось за горизонтом. Желание было так сильно, что я даже привстал. Гурам сидел не двигаясь и задумчиво смотрел на солнце, которое все глубже опускалось в море. Вдруг он вскочил и сломя голову помчался к бульвару. Он бежал широкими шагами, увязая в песке, падая, снова подымаясь, пока не скрылся из глаз. Вернулся Гурам так же неожиданно, задыхаясь, подбежал к берегу и положил па солнечную тропинку огромный синий цветок гортензии. Потом он растянулся на песке рядом со мной и, с трудом переводя дыхание, сказал:
– Я подарил солнцу цветок! – И счастливо улыбнулся.
Я молча кивнул головой. Теперь в воде виднелся только узкий серп солнца, и красный его луч был похож на вытянутую золотую руку, на кисти которой покоилась синяя гортензия. Потом солнце исчезло в море, и в наступивших вдруг сумерках растворилась золотая рука с цветком...
– Смотри, Гурам, солнце унесло цветок!
Гурам улыбнулся.
– Солнце унесло цветок...
В фойе «Интуриста» не было ни одного свободного кресла. Я огляделся, но не нашел Гулико. Подниматься наверх не хотелось.
– Спустимся в кафе, – сказал я Гураму.
– А Гулико?
– Позвоню.
– Может, поднимешься к ней?
– Нет, позвоню.
– Как хочешь...
Я подошел к окошечку администратора и взял телефонную трубку.
– Привет, Темо! – поздоровался со мной администратор.
– Здорово, Саша!
– Значит, так: ты перейдешь в другой номер...
– Это почему же?
– Так. Приехали иностранцы.
– Да что вы, в самом деле! Приехали, уехали! Надоело таскаться из номера в номер! Нашли козла отпущения!
– Ничего не поделаешь, звонили сверху!
– А ты бы ответил снизу, что номер занят!
– Не поможет!
– Ну и черт с вами! Никуда я не уйду!
– Выведут!
– Кто?
– Отстань, ради бога, своих хлопот хватает! Говорю же тебе – дадим другой номер!
– Алло! – сказал я в трубку. – Триста второй номер!
– Триста второй не отвечает.
Я положил трубку.
– Когда мне переселяться?
– А ты уже переселен в триста третий.
– Спасибо... Ну как, сочинил что-нибудь новое?
– Стихи. Ночью написал. Хочешь, прочту?
– Потом.
...Гулико причесывалась перед зеркалом.
– Прежде чем войти, принято стучать, – сказала она, не поворачивая головы.
Я вышел, постучал и снова вошел.
– Садитесь.
Я присел на кровать. Гулико, не обращая на меня внимания, продолжала причесываться.
– Гулико, – начал я, – ну что ты дуешься? Не стыдно тебе?
– Конечно, стыдно. Видишь, даже волосы покраснели.
– Пойдем выпьем кофе.
– Ступай, я приду.
– Знаешь, приехали какие-то иностранцы, и меня перевели в триста третий помер, рядом с тобой.
– Замечательно!
– Еще одна делегация, и меня вселят к тебе!
– Бедный мальчик!
– Ну, вставай!
– Сказала тебе: иди, я приду.
– Пойдем вместе!
– Мне нужно переодеться.
– Надень синее платье.
– Не твое дело!
– Ну, я пошел.
Гурам уже сидел за столиком и читал газету.
– Где вы пропали? Где Гулико? – набросился он на меня. – Умираю с голоду!
– Сейчас придет. Заказал?
– А, – махнул рукой Гурам, – он и без заказа знает.
Официант принес три кофе, три бутерброда и бутылку боржома.
– В какую цену колбаса? – спросил подозрительно Гурам.
– Не волнуйся, больше пяти рублей не насчитаю, – успокоил его официант.
– Мне-то что, это тебе следует волноваться, – рассмеялся Гурам.