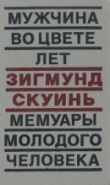Текст книги "Солнечная ночь"
Автор книги: Нодар Думбадзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
В дверях стояла мать, моя седая, красивая мать, такая красивая, как и двенадцать лег тому назад, когда она была самой красивой на свете матерью.
– Здравствуй, мама! – сказал я.
Она не плакала. Она улыбалась. По ее щекам текли слезы и собирались у дрожащего подбородка.
– Здравствуй, мама! – повторил я.
ГУЛИКО
На Лоткинской горе лишь весна, а в городе лето в разгаре. Тбилиси горит. Дымится асфальт. Раскаленное солнце шагает по крышам, заглядывает в окна, потом повисает над городом и... надолго застывает. Мтквари мелеет с каждым часом и, наконец, превращается в еле движущийся ручеек, – третьего дня какой-то нахал у Мухранского моста переходил реку, даже не скинув туфель... Да, в Тбилиси лето, и сидеть в комнате немыслимо.
Я встал до восхода солнца. Мать готовила чай.
– Звонят, сынок.
Я открыл дверь. Гурам направился прямо на кухню.
– Здравствуйте, тетя Анико! – сказал он, присаживаясь к столу.
– Здравствуй, сынок!
– Слышал, Темо? Черчилль бряцает оружием!
– Не может быть! – удивился я.
– Не веришь – послушай радио! – иронически улыбнулся Гурам.
– А что радио?
– Черчилль, говорят, бряцает оружием.
– Ну и что дальше?
Ничего. Поднявший меч должен ударить! – изрек Гурам.
– Кому же он угрожает, сынок? Что говорит радио? – спросила мать.
– Нам, тетя Анико, нам!
– А ты что, но войне соскучился? Не надоели тебе очереди за хлебом и керосином? – спросил я и отпил чай.
– К черту! Пропади все пропадом! – воскликнул Гурам.
– Это почему же?
– Потому, товарищ Барамидзе, что устал я! Устал от вечной нервотрепки, от хлопанья ушами на экзаменах, от постоянного страха потерять стипендию! Опротивела вечная дрожь в коленках! Надоело выпрашивать несчастную тройку! Хватит! Статистики мне не сдать -это совершенно ясно. Так пусть начнется поскорей! Хоть будет на кого свалить беду – на Черчилля!.. Подумать только, от отца родного покоя нет!
– А что отец?
– Издевается! «Я сам, – говорит, – во всем виноват. Следовало, – говорит, – отдать тебя в школу для дефективных, ходил бы ты сейчас с золотой медалью».
– Неужели? – усомнился я.
– Смейся, смейся, а там, брат, не учение – лафа! Идет, скажем, экзамен. Па стене вывешены разные рисунки: яблоко, груша, персик. Выходишь отвечать, тебя спрашивают: «Ну-ка, Барамидзе, подумай хорошенько, не торопись, что это такое?» – и показывают на яблоко. Ты всматриваешься в рисунок и отвечаешь: «Яблоко, уважаемый учитель!» – «Молодец, молодец!» – радуется учитель и ставит тебе пятерку. Если яблоко назовешь грушей – получишь четверку, скажешь «персик» – выставят тройку.
– А если сказать «компот»?
– Ну, с компотом – прямо в аспирантуру!
– Когда же ставят двойку? – засмеялся я.
– Это когда яблоко называют трамваем.
– В таком случае, сынок, ты действительно получил бы золотую медаль! – утешила мать Гурама.
Все засмеялись. Быстро покончив с чаем, мы собрались уходить. Я взял конспекты.
– Скоро вернетесь? – спросила мать.
– Сегодня будем заниматься до утра! – ответил Гурам.
Сбежав вниз по лестнице, мы сели в пятый номер трамвая, доехали – разумеется, без билета – до Крытого рынка, там пересели в десятый номер, и – тоже без билета. А сойдя с десятого номера трамвая, мы уже пешком двинулись вверх по Лоткииской горе – туда,где пока еще была весна, где стоял знакомый домик со злым петухом и доброй собачкой в небольшом тенистом дворике и где жила хорошая, очень хорошая девочка Гулико.
Гулико – наша однокурсница. Спасаясь от городского зноя, я и Гурам занимаемся у нее.
Во дворе Гулико прохладно, и, кроме того, нам просто приятно ее общество. Комитет комсомола поручил Гулико следить за правильной балансировкой двоек и троек в наших зачетных книжках, и до сих пор она кое-как справлялась с поручением. Но в последнее время дело осложнилось: удельный вес двоек в нашем учебном балансе резко увеличился. О том, что к вершинам науки ведет не широкая столбовая дорога, а узкая каменистая тропа, нам с Гурамом было хорошо известно еще с первого курса, поэтому мы честно и добросовестно старались не пропустить ни одного слова из того, о чем сейчас Гулико рассказывала нам. А рассказывала она о восстании матросов на броненосце «Потемкин». При этом описание горячего флотского борща со злополучными червями, после которого, собственно, и началось восстание, получилось столь живым и натуральным, что у меня потекли слюнки.
Гулико листает конспект и временами поглядывает на нас, проверяя степень нашего прилежания. Гурам сидит за круглым столиком, положив щеку на локоть и прикрыв глаза, – не поймешь, слушает он или дремлет. Я сижу под алычой, прислонившись спиной к ее прохладному стволу, и не свожу глаз с красивой головки Гулико. Косые лучи солнца играют в ее золотистых локонах, и кажется, что вот-вот волосы вспыхнут алым пламенем.
– Гулико! – вдруг вырывается у меня.
– Ну? – спрашивает она, не поднимая головы.
– Ничего.
– А все же?
– Пересядь, иначе волосы загорятся!
– Очень смешно! – говорит Гулико.
Гурам, словно ленивый кот, нехотя приоткрыл один глаз, потом извлек из кармана папироску и жестом попросил у меня спички. Я глазами показал на голову Гулико. Гурам медленно встал, подошел к Гулико, приложил папироску к ее огненным волосам и сильно затянулся.
– Не зажигается! – сказал Гурам, пожимая плечами.
– Хватит вам дурака валять! – рассердилась Гулико. – Не хотите заниматься – черт с вами! Я этот конспект знаю наизусть!
– Добрая наша, хорошая, красивая, умная Гулико, хватит нам просвещаться, пойдем погуляем! – взмолился Гурам.
– И ты так думаешь? – спросила меня Гулико.
– Давно уже, повелительница, да не смел признаться! – склонил я голову.
Гулико улыбнулась и закрыла тетрадь.
– Мама! – позвала она.
– Что, доченька? – выглянула в окно тетя Тамара.
– Мама, мальчики уходят. Я провожу их. Если задержусь, не беспокойся.
– Иди, дочка. А как с вашим конспектом? Неужто все выучили?
– Задайте любой вопрос! – напыжился Гурам.
– Скажешь тоже! Много я понимаю в ваших конспектах!
– Нехорошо, нехорошо, девушка. Осенью придете на повторный экзамен! —сказал наставительно Гурам.
Тетя Тамара улыбнулась.
– Мы пошли, мама!
С верхней площадки фуникулера ночной Тбилиси похож на опрокинутое, усеянное звездами небо. Все знакомые звезды и созвездия – там, внизу, под вами. Вот Большая и Малая Медведицы, вот Волопас, Весы, Водолей. Вот разлитое легким туманом, словно Млечный Путь, мерцание далеких огней. То и дело вспыхивают и гаснут, подобно кометам, автомобильные фары. Сам фуникулер похож на несущуюся в космосе нашу планету: всюду, куда ни кинешь взгляд, чернеет небо, сверкают мириады звезд. И кажется человеку, что не земля – он сам, сгусток живой, дышащей, мыслящей, мечтающей жизни, несется в неизведанные дали бескрайней вселенной, в вечном, бесконечном поиске радости, счастья, красоты, любви...
Я не знаю, о чем думает Гулико. Она стоит у края площадки, облокотившись о перила, и смотрит вниз, на Тбилиси. Мне безразлично, о чем думает Гурам, но Гулико... Мне хочется, чтобы она думала о том же, о чем и я. Боже мой, сколько раз я спрашивал ее об этом в надежде услышать желанный ответ!
Увы, мысли ее всегда оказывались далекими от моих. Вот теперь я думаю: если б Гурам вдруг вздумал уйти... «Останься», – скажет Гулико. Гурам все же уйдет. Тогда Гулико тоже захочет уйти. Я попрошу ее остаться. Она согласится... Тогда я скажу ей все! Скажу, что вот уже два года я люблю ее, что все время думаю о ней, что ома может не любить меня – для меня это ничего не значит... Но нет, я знаю, Гулико любит меня... Я думаю...
– Я пошел! – сказал вдруг Гурам и вздохнул. – Утром рано вставать, опять за керосином нужно идти...
– Погоди немного, вместе пойдем, – сказал я.
– Не могу.
– Не можешь – уходи. Мы останемся. Правда, Темо?
– Конечно! Какой смысл сейчас спускаться в город? Земля горит!
– Ладно. Я пошел. Пока!
– Пока.
– Утром зайдешь?
– Ладно.
Гурам ушел.
Я смотрю па Гулико, она – на Тбилиси. Я думаю о Гулико. О чем думает она? Спросить?
– Темо!
– Что, Гулико?
– О чем ты думаешь?
От неожиданности я растерялся:
– Ни о чем... О чем мне думать?.. А ты?
– Я? Я думаю о тебе, – сказала Гулико и улыбнулась.
– Вот сейчас, в эту минуту?
– Вот сейчас, в эту минуту!
– А еще о чем? – спросил я с замиранием сердца.
– Еще о себе.
– Еще?
– Больше ни о чем. Думая о тебе, я думаю и о себе. И все. На большее, видно, ума не хватает.
– Ты думаешь обо мне вообще или только сейчас?
– Вообще.
– Часто?
– Часто.
– Очень часто?
– Ну... не очень...
Гулико опустила голову и стала разглядывать свои тонкие прозрачные пальцы. Я испугался и замолчал, но Гулико заговорила сама.
– Я думаю о тебе, Темо... Иногда... И долго...
Я придвинулся к Гулико. Мой локоть коснулся ее локтя. Гулико вздрогнула, но не отодвинулась.
– Гулико!
Она взглянула мне в глаза долгим, пристальным взглядом.
– Гулико, что ты думаешь обо мне? – произнес я чуть слышно дрожащим голосом.
׳– Что и ты обо мне...
Сердце подступило к горлу, дыхание сперло. Я обнял Гулико. Она зажала мою руку между плечом и щекой, прильнула к ней головой и закрыла глаза.
– Гулико, знаешь, что я о тебе думаю? Сейчас все скажу...
Она отрицательно покачала головой. Но меня уже понесло, понесло, как сорвавшуюся с горы глыбу, которая долго лежала у самого обрыва, чудом удерживаясь, и, наконец, покатилась, покатилась с грохотом, сметая все на своем пути, вырывая кусты, ломая деревья.
– Летом я поеду на море... Нет, сперва в горы. Там овцы, пастухи... Потом на море. А может, в деревню поеду... Но море... Я люблю море, Гулико... Море и солнце. Солнце и море – это два чуда. Правда ведь? Конечно, правда. Я могу сидеть у морского берега, спиной к морю, и смотреть, как всходит солнце... Потом повернуться к морю и смотреть, как солнце садится в море... И так всю жизнь... Летом мы вместе поедем на море. Я положу голову на твои колени и весь день буду смотреть на тебя. Ты смотри на море, на солнце, но только не на меня. Я боюсь твоего взгляда, боюсь и радуюсь ему... Лучше уж я буду смотреть на тебя, а ты лишь иногда на меня? Да? Мы вместе поедем на море, правда, Гулико?
– Да, Темур, да, – прошептала Гулико и чуть приоткрыла глаза.
Я повернул ее лицом к себе, запустил руки в огненные ее волосы и привлек к себе. В глазах девушки сверкали слезы, сверкало огромное невысказанное счастье и еще какое-то незнакомое мне таинственное чувство, которого я всегда боялся. И чтобы перебороть этот необъяснимый страх, я прильнул к глазам Гулпко нежным, длинным поцелуем...
...Потом все стало на свои места. Там, внизу, по-прежнему мерцали огни ночного Тбилиси, похожего на опрокинутое звездное небо. Кругом чернело бескрайнее небо, усыпанное мириадами блесток, и я сам сгусток живой, дышащей, мыслящей, мечтающей жизни – уже не был одинок в своем нескончаемом полете в неизведанных просторах вселенной в поисках радости, счастья, красоты, любви...
МАТЬ
Я тихо приоткрыл дверь. Мать сидела у окна а глядела па Варазис-Хеви. Она всегда ждала меня, когда бы я ни вернулся домой, ждала с печальными глазами, в которых угадывался немой упрек. Я чувствовал, что совершаю преступление по отношению к матери, уходя без предупреждения, возвращаясь поздно, но поступать иначе не мог. В течение двенадцати лет никто меня не спрашивал, куда я иду, когда вернусь. И малейшее покушение на мою свободу сейчас меня раздражало. Мать хорошо понимала мое состояние и поэтому с каждым днем становилась все печальней и молчаливей. Мы мучились оба, мы не спали ночами, и когда, бывало, я тайком бросал взгляд па лежавшую в постели мать, я видел ее глаза – печальные, влажные, полные невысказанного упрека. Она никогда ни о чем меня не расспрашивала, ничего не рассказывала. Молчал и я.
Но сегодня был особенный день. Мне нужно было высказаться, облегчить душу, мне нужен был собеседник. Я подсел к матери, положил руки ей па колени и посмотрел в се умные карие глаза.
– Что, сынок? – спросила мать и погладила меня по голове.
– Мама, ты помнишь море? Я помню. В детстве ты возила меня в Кобулети.
– Да, сынок.
– И мы вместе смотрели па заход солнца.
– Помню.
– Море и солнце – два чуда, правда, мама? Солнце – это такое чудо, смотреть на которое никогда не надоест. Правда, мама?
– Нет, сынок! – сказала мать, закрыв глаза и покачав головой. Она долго молчала, думая о чем-то своем.
– Мама!
– Солнце – чудо, – продолжала мать, – но ты не видел настоящего солнца... Выжженная солнцем бескрайняя степь... Мертвые камни, деревья, земля... Пересохшее горло... Отупевшие мозги... Есть в жизни минуты, когда человек ненавидит солнце и радуется его заходу, надеясь, что завтра оно не будет столь безжалостным... Понял, сынок?
Я не ответил. Мать грустно улыбнулась.
– А солнце, которое светит тебе, – оно, конечно, чудо, и смотреть на него не надоест до самой смерти...
Мать провела горячими руками по моему влажному лбу. Я опустил голову на ее колени.
– Видишь ли, мама, я уже не маленький... Ты по-прежнему видишь во мне восьмилетнего мальчика, а ведь мне двадцать. Ты всему удивляешься, тебе не нравится все то, что я считаю хорошим, тебя пугает все то, что мне доставляет радость. На все ты смотришь с подозрением. Забудь, мама, прошлое или скажи: как мне жить?
– Этого забыть нельзя!
– Чего – этого? Что мне уже не восемь лет?
– И этого тоже, – сказала мать, и подбородок у нее задрожал.
– Почему, почему же, мама?!
– Потому что для меня ты остался восьмилетним мальчиком.
– Но ведь мне двадцать лет, мама!
– Для меня это ничего не значит.
– А то, что я сегодня... сегодня...
– Что – сегодня?
– Сегодня я сказал Гулико, что она мне дороже всего на свете, что мы вместе поедем на море, что я положу голову на ее колени и мы весь день будем смотреть на солнце, которое ты не любишь, и что мы всю жизнь будем вместе... Это для тебя тоже ничего не значит, мама?
Мать встала, одной рукой обняла меня и привлекла к себе, другой стала перебирать мои волосы и тихо зашептала:
– Значит. Как это не значит, сынок! Это самое важное для меня, мой мальчик! Лишь бы ты был со мной, был бы родным, моим, не чужим! Слышишь? Не будь чужим для меня, сын мой, и я забуду все-все! Скажи мне, что ты любишь меня, что мы всегда будем вместе! Скажи, мой мальчик, успокой несчастную свою мать!..
Мать опустилась на стул, закрыла лицо руками. Она не плакала, только руки у нее дрожали. Я почувствовал, как к моему горлу подступает горький комок, и сжал челюсти, чтобы не расплакаться.
Мать скоро успокоилась, опустила руки, выпрямилась.
– Мама, – начал я, – я люблю Гулико уже два года. Представляешь, целых два года!
– Это немного, сынок! – сказала мать с улыбкой.
Я растерялся.
– Я и тебя очень люблю, – произнес я неуверенно.
– Знаю, – опять улыбнулась мать.
– Но только...
– Но только Гулико ты любишь еще сильней и хочешь быть всегда с ней, – прервала мать.
– Нет!
– Да!
– Гулико я люблю иначе. Гулико я полюбил сейчас, а тебя... Тебя я люблю давно.
– Да. Давно. Так давно, что уже забыл про это.
– Мама, – вдруг спросил я, – ты любила папу?
Мать закрыла глаза и ничего не ответила. Я понял,что сболтнул страшную глупость.
– Ты помнишь отца? – спросила она.
Я задумался. Отец... Неужели я не помню отца?.. Как же, среднего роста, красивый, с иссиня-черными волосами... Носил кожаное пальто и сапоги, иногда тупоносые туфли и узкие брюки... Был строг до чрезвычайности... Если у кого была к нему просьба, подсылали меня. Меня он обожал... Что еще? Больше ничего... Я закрываю глаза, хочу представить себе такого человека – моего отца... Ничего не вижу... Пустота, абсолютная, пугающая пустота... Значит, все это – с чужих слов, по рассказам других людей. Я ничего не помню и, как бы ни старался, не вспомню...
– Нет, мама, не помню... Думал, что помню...
– И фотокарточки его не видел?
– Нет.
Мать подошла к шкафу, открыла сумку, достала какую-то фотографию и положила передо мною. Я удивленно смотрел на старый, пожелтевший кусок картона, на котором был изображен голенький, весело улыбающийся годовалый малыш, лежащий на медвежьей шкуре.
– Кто это?
– Твой отец.
– Что еще? – спросил я и почувствовал, как по моей коже побежали мурашки.
– Ничего. Это твой отец, а я – твоя мать.
Я подошел к матери, прильнул головой к ее груди и заплакал. Она стояла молча, не успокаивая меня.
– Прости меня, мама. Прости за боль, которую мы тебе причинили – и я, и мой отец... Я все сделаю ради тебя, все, что ты пожелаешь... Хочешь, убью человека, хочешь, забуду Гулико, хочешь, застрелюсь... Только прости меня, прости...
Мать нежно гладила меня по голове и молчала. Потом, словно очнувшись, она тихо заговорила:
– Нет, сынок, ничего мне от тебя не надо. И убивать ради меня не следует никого – ни себя, ни другого. И Гулико не нужно забывать. Люби, если любишь, и если она любит тебя. Вы пока не понимаете и долго еще не поймете, что такое любовь... Жизнь моя еще не окончена, но дорога моя, кажется, подошла к концу... Пока жива, не оставлю тебя, не дам споткнуться. Понадобится – протяну руку помощи... Но у тебя свой путь, сынок, и ты должен следовать по этому пути.
– Но как, мама, как?
– Не знаю... Кабы я знала, тогда и горя было бы мало.
– А все же? Что я должен делать?
– Все, что называется честностью и добром.
– Что же это?
– Не знаю. Люди иногда совершают зло, думая, что творят добро.
Мать умолкла, подошла к окну и стала смотреть на Варазис-Хеви. Я подошел к ней, стал рядом. Она догадалась, что я ждал от нее еще чего-то, повернулась ко мне и улыбнулась.
– Только сперва научись отличать добро от зла.
– Как?
– Я не знаю. Жизнь сама научит тебя.
– А теперь? Что мне теперь делать?
– Теперь? – Мать призадумалась. – Иди спать, сынок...
Она поцеловала меня в лоб. Я молча разделся и лег.
...Утром, проснувшись, я увидел сидевшую у окна мать. Положив голову на локоть, она сладко спала. На лице матери играла улыбка.
Я оделся, взял книгу и тихо направился к двери.
– Уже встал, сынок? – услышал я голос матери.
Я повернулся и улыбнулся в ответ.
– Куда ты идешь?
Впервые в жизни этот вопрос доставил мне радость: кто-то интересуется, кто-то хочет знать, куда я иду, когда вернусь! Боясь растратить тепло этих трех обыкновенных, но дорогих сердцу слов, я положил книгу и остался дома.
ПАРНАС
В университете было около трех тысяч студентов. Половина училась, четвертая часть ждала получения диплома, остальные переходили с факультета на факультет, выбирая профессию, писали заявления, выпрашивали академические отпуска, перед экзаменами представляли справки о болезни, бродили по коридорам, играли, боролись и так далее.
Мы, любители литературы, создали свой официальный кружок «Парнас», который возглавлял официальный руководитель – уважаемый Шалва. «Парнас» представлял собой литературное объединение пяти критиков, около двадцати поэтов, шести прозаиков, двух очеркистов и девяти переводчиков. Я, разумеется, принадлежал к группе поэтов, хотя иногда пробовал силы и в прозе. По пятницам мы собирались в 94-й аудитории, знакомили друг друга и руководителя с результатами наших недельных творческих мук, а в месяц раз лучшие из произведений выносили на суд общественности —многочисленных поклонников муз, до отказа заполнявших наш студенческий клуб.
Гурам не пропускал ни одного собрания кружка. Он не был ни поэтом, ни прозаиком, ни очеркистом, ни критиком, ни даже переводчиком. Он называл себя «дилетантом» и помогал мне в подборе рифм.
Сегодня пятница. Я и Гурам сидим в последнем ряду и ждем, когда аудитория наполнится сорока гениями. Они входят странной, рассеянной походкой, не замечая никого, забывая о приветствии. Потом, очнувшись, спохватываются: «Ах, ты здесь? Извини, пожалуйста, задумался...»
– Эй, Ираклий! – окликнул Гурам рыжего поэта с кипой книг под мышкой, который вошел в аудиторию, направился к задним рядам, глядя на нас, и сел перед нами, так и не заметив нашего присутствия. – Знаю, ты сейчас где-то там, на Олимпе, но очнись на минуту!
– А, это вы? Как это я вас не заметил? – удивился поэт.
– Ничего. Где ты был? – спросил Гурам.
– Дома.
– Нет, где ты был сейчас, в эту минуту? – не отставал Гурам.
– Так. Думал о чем-то.
– О чем?
– Ну, что ты пристал? – обиделся Ираклий. – Думал!
– Стихи сочинял?
– Нет.
– Рифму искал?
– А ты откуда узнал?
– Ну, ну! Какая тебе нужна рифма? – обрадовался Гурам.
– Понимаешь, я сейчас работаю над циклом стихов о Самгори, и вот... одно место...
– Не клеится?
– Да как сказать... Рифма не идет!
– Какая? Говори же!
– Ме-фис-то-фель! – произнес Ираклий по слогам.
Гурам разинул рот от удивления.
– Ошалел?
– Поэты – они все по-своему ошалелые! – глубокомысленно изрек Ираклий.
Гурам расхохотался.
– Перестань ржать! – прикрикнул я на него. – Подбери-ка лучше рифму.
– Слушай, – обернулся Гурам к Ираклию, – каким это образом Мефистофель очутился в Самгори?
– Да, как он туда попал? – поддержал я Гурама.
Ираклий не ответил. Уставившись в потолок, он невнятно бормотал:
– Мефистофель... Мефистофель... Мефистофель...
– Очнись, Мефистофель, – толкнул его Гурам. – Прочти строфу.
– «И властвовала засуха в Самгори, словно исчадье ада, Мефистофель...»
Понятно. Значит, Мефистофель? Пожалуйста: картофель!
– Не годится, – покачал головой Ираклий.
– Аристотель!
– Не подходит!
– Пантофель! Известная артистка – Нечецкая!
– Нет!
– Ну тогда «Идиот»!
– Не подходит!
– Зато к тебе подходит, болван! – взорвался Гурам. – Нашел с кем сравнивать засуху – с Мефистофелем! Идиот!
– Успокойся! – обнял я Гурама. – Пожалей человека!
Аудитория заполнялась. Вошел руководитель. Он посмотрел на часы, оглядел комнату и спросил:
– Арчил здесь?
– Здесь.
– Тамаз?
– И Тамаз здесь.
– Нодар?
– Здесь я!
– А где Тариэл?
– Здесь он, здесь!
– Ну, здравствуйте, товарищи!
– Здравствуйте, уважаемый Шалва!
– Начнем? – спросил Шалва.
– Начнем, пожалуй! – ответили хором все, кроме Ираклия: он все еще искал рифму.
– Как дела, Тариэл? – обратился Шалва к Тариэлу.
– Благодарю вас, идут дела, – ответил Тариэл.
– Пишешь?
– Так, кое-что...
– Пиши, пиши, брат. Кому, как не вам, писать, творить, обогащать нашу литературу?
– Я постараюсь, – обещал Тариэл.
– Ну, смотри не подведи! – подбодрил его Шалва и опять посмотрел на часы.
– А ты как, Гурам?
Гурам встал:
– Не смею роптать на милость божью.
– Значит, не жалуешься?
– Нет.
– А это что? Никак волосы у тебя лезут? – спросил Шалва, поглаживая Гурама по голове.
– Что вы! У меня систематические волосы!
– Какие?
– Систематические!
– Отлично! Ну как, начал писать стихи?
׳– Нет.
– Прозу?
– Нет.
– Переводишь?
– Нет.
– И критических статей не пишешь?
– Нет, уважаемый.
– Почему? Все пишут, чем же ты хуже других? Взять хотя бы Отара. Человек работает и в драме, и в поэзии, и в прозе, и в критике, и переводами занимается. И вообще трудится товарищ. Потрудись и ты.
– Обязательно, – ответил смущенный Гурам.
– Так. А теперь приступим к делу. Кто сегодня отчитывается?
– Я! – выпалил Ираклий.
– Выйди-ка сюда, – попросил Шалва.
Ираклий вышел, поднялся на кафедру, положил руки на общую тетрадь – точно так, как когда-то свидетели, положив руки па Библию, обещали говорить правду, только правду, всегда правду, – и уставился в потолок. Наступила тишина. Молчала аудитория, молчал Ираклий. Я стал считать про себя. Дошел до шестидесяти, а Ираклий все молчал.
«Шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три», – продолжал я.
– Ну? В чем дело? Чего ты ждешь? – спросил Ираклия Шалва.
– Музу! – ответил Гурам.
– Главное – начать. Муза никуда от него не уйдет, – объявил Шалва.
В зале засмеялись. Ираклий встрепенулся и начал:
– В прошлую неделю, выйдя из дому, я подошел к киоску и попросил у продавца газету...
– Что это, рассказ? – испугался Шалва.
– Предисловие.
– Стихотворение не нуждается в предисловии. Свой «Мерани» Бараташвили начинает безо всякого предисловия. Не так ли, Гурам?
– Так точно, – подтвердил Гурам.
– Я не Бараташвили! – объяснил Ираклий.
– Конечно, кое-какая разница заметна, – согласился Шалва.
Зал грохнул.
– Смеетесь? – прищурил глаза Ираклий.
– Что ты, Циклаури! Продолжай, пожалуйста! – успокоил поэта Шалва.
– А вы знаете, о чем писала газета?
– О чем же?
– О том, что Самгори охвачен волной великих строек коммунизма!
– Что же это получается, Циклаури: купил прошлогоднюю газету и еще обижаешься на нас?
Ираклий запнулся, взглянул на газету, которая на всякий случай лежала тут же перед ним, и вовсе умолк. Шалва решил прийти па помощь поэту:
– Ничего, ничего! Что же было дальше?
– Потом я написал цикл стихов о Самгори...
– Вот и отлично! Прочти их!
Опять наступила тишина. Я начал считать: раз, два, три... Но тут Циклаури заговорил.
УТРО В САМГОРИ
Землю эту засуха топтала,
Ветер злой носился, как коса,
Горы здесь дремота омывала,
Чудеса на свете, чудеса!
День пройдет, и степь, прогнав унынье,
Возродится зеленью садов,
Соберет самгорец вместе с дыней
Помидоров красненьких улов!
Честь тебе и слава, наш Самгори!
Пусть цветут вокруг тебя леса!
Знаю я: журчанье воли Иори
Оживит тебя, моя краса!
Пусть сияет в небе солнце жарко!
Ты – земля и родина отцов!
Знаю я: пришлешь ты нам подарок —
Горы гордых, вкусных огурцов.
Ираклий перелистал тетрадь. Я взглянул на Шалву – он сидел ни жив нм мертв.
ДИАЛОГ С САМГОРСКИМ КРЕСТЬЯНИНОМ
Я: – Откуда ты,кто ты, дружище?
Крестьянин: – Я жил в горах, и гол, и нищий!
Я: – Теперь живешь ты ведь привольно?
Крестьянин: – Дай бог! Есть, пить – всего довольно!
Я: – И сын небось, тобой взращенный...
Крестьянин: – О да! В Тбилиси он, ученый!
Ему я скромный дар земли отцов
Везу – мешок самгорских огурцов!
Ираклий снова перелистал тетрадь, но Шалва остановил его:
– Скажи, пожалуйста, Циклаури: цикл стихов о Самгори или об огурцах?
– Я еще не кончил, уважаемый. Разрешите продолжить?
– Читай!
Долго еще читал Ираклий. Мы слушали стихи о помидорах, огурцах, луке, водах Иори, форелях Тбилисского моря и даже о каком-то пароходе, который невесть каким образом оказался приобщенным к теме процветания самгорскнх огородов. «Мефистофеля» Ираклий не стал читать за отсутствием соответствующей рифмы. Наконец он умолк.
Мы молчали.
– Мда-а... Кто следующий? – спросил Шалва.
– Я! – встал Симон Абесадзе.
– Выходи, порадуй нас. А ты садись, Циклаури!
Ираклий испуганно взглянул па руководителя.
– Садись, садись. Обсуждать будем в следующую пятницу, – успокоил его Шалва.
Ираклий походкой ревматика направился к месту.
– Ну, как стихи? – спросил он нас шепотом.
– Полить их уксусом – получится отменный маринад! – ответил Гурам.
Ираклий оторопело взглянул на него и отвернулся.
Начинай, Абесадзе! – обратился Шалва к Симону.
– Шумно...
– Шум – оратору не помеха. Начинай!
– Компас! – крикнул Симон.
Удивленный столь необычным заголовком, зал умолк.
– Компас! – повторил Абесадзе.
– Какой компас? – спросил Шалва.
– Как – какой? – удивился Симон. – Обыкновенный.
– Морской или сухопутный?
– В данном случае сухопутный.
– Следовательно, твои стихи читаются только на суше?
– Дайте мне прочесть! Всего две строфы! – обиделся Симон.
– Слушаем!
– Компас.
К северу стрелка рвется одна,
К югу другая стремится.
В чем тут загадка, скажите, друзья!
В чем тут секрет таится?
Две стрелки компасу даны не зря,
В движенье их – смысл изначальный;
На севере город великий – Москва,
На юге – Гори наш славный!
Симон захлопнул тетрадь и улыбнулся улыбкой победителя. В аудитории воцарилась мертвая тишина: созданный поэтом совершенно новый художественный образ ошеломил слушателей. Я взглянул на Гурама, он удивленно моргал глазами. Признаться, я и сам был растерян и ждал, какую оценку даст стихам наш уважаемый Шалва.
– Кто хочет высказаться? – вдруг спросил он.
Никто не отозвался.
– Что, не понравились стихи?
– Стихи очень интересные, но... – подал голос одни из критиков.
– Так. Чем же они интересны? Говори!
– Пусть сперва скажут другие, – отступил критик.
– Ты скажи свое, другие свое скажут.
– Свое я уже сказал. Стихи интересные. Особенно удачно найден финал.
– Чем же он удачен? – не отставал Шалва.
– Ну как же! Север притягивает стрелку потому, что на севере Москва, а юг – потому, что там Гори.
– По-твоему, это правильно?
– Может, и неправильно, во всяком случае, поэтично! – парировал критик.
– Садись, Церодзе... Что думает Гурам?
– Ничего.
– Как же так? У тебя нет никакой мысли?
– Мысли у меня есть, но не об этих стихах.
– По-твоему, стихи бессмысленны?
– Наоборот, очень даже оригинальны. Подобного осмысления компаса я нигде еще не встречал.
– А стихи о компасе вообще ты встречал?
– Не могу припомнить. Скорее всего нет.
– Хорошо. Садись. Если вспомнишь – скажи.
Гурам сел.
– Ну, кто еще желает?
Аудитория молчала. Шалва подождал с минуту, потом обратился к Симону:
– Скажи, пожалуйста, Абесадзе, тебе приходилось видеть компас?
Краска обиды и оскорбления залила лицо поэта.
– Смеетесь, уважаемый Шалва?
– Это ты смеешься, брат, над нами! Разве у компаса две стрелки?
Симон иронически улыбнулся:
– А сколько?
– У компаса одна стрелка. Понимаешь? Одна стрелка с двумя разноцветными концами.
– Для поэзии это не имеет решающего значения.
– Это имеет значение для путешественника.
– Главное – смысл образа. А его-то вы не поняли! – вспылил Симон.
– Что ж, Шекспира я кое-как понимаю, а твоего компаса не осмыслил, – улыбнулся Шалва.
– Да что вы, в самом деле! Неужели действительно не понимаете, почему стрелку притягивают север и юг?!
– Почему?
– Да потому, что на севере Москва, в Москве – Кремль, в Кремле – Сталин!
– У Сталина магнит в кармане, что ли?
Симон посинел.
– Товарищи! – встал Шалва. – Так писать стихи нельзя. И вообще, не надо писать стихи о компасах, биноклях и термометрах. Нужно знать – что, о чем, для кого и для чего мы пишем.
– Я прекрасно знал, о чем писал! – крикнул Симон.
– Что ты знал? Что у компаса две стрелки? Да? И потом, что ты прикажешь делать, скажем, персиянину? Ведь для него и Москва и Гори – все север!
– Мои стихи не для Персии! – выпалил Симон.
– Вряд ли они подойдут и для Гори...
– Я еще молод, – пустил слезу Абесадзе.
– Потому тебе и говорят по-хорошему. Будь ты постарше, разбил бы я тот компас об твою башку! – взорвался Шалва.
В аудитории раздался смех.
– Вот заберу свои стихи и вовсе уйду из кружка! – пригрозил Симон.
– Только не доверяйся своему компасу, иначе домой не попадешь! – предупредил его Шалва.
В зале захохотали. Абесадзе вскочил с места и вышел, громко хлопнув дверью.
Шалва несколько раз прошелся по аудитории, затем вызвал меня:
– Барамидзе, есть у тебя что-нибудь новое?
Лежавшая в кармане тетрадка со стихами вдруг обожгла меня, словно я прислонился к раскаленной печке. Я провел рукой по вспотевшему лбу и тихо произнес: