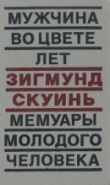Текст книги "Солнечная ночь"
Автор книги: Нодар Думбадзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Рамаз, Тавера.
– Где он?
Вопрос был задан столь неожиданно, что я растерялся.
– Где? Не знаю... Утром видел его... Где он сейчас – не знаю...
– Не знаешь?
Я понял, что это уже допрос.
– Где он сейчас – не знаю! – повторил я окрепшим голосом.
– Хорошо... Что еще?
– Дядя Абибо, я и Тавера вместе учились... Тавсра отсидел шесть лет, и больше он не может... Он сказал, что за шесть лет написал сто заявлений, но их никто не читал, или никто ему не поверил... Он сказал, что навсегда покончил с воровством, что он хочет спокойно жить, учиться, работать, что у него нет никого, к кому бы он мог обратиться за помощью, за советом, что сидеть еще четыре года он не в силах, ему должны поверить, иначе он покончит с собой... У Таверы, дядя Абибо, кроме меня, действительно никого нет, а у меня – никого, кроме вас...
– Никого, кроме тебя? – переспросил Абибо.
– Никого.
– И он пришел за помощью к тебе?
– Да.
– А ты ко мне, в полночь?
Не выдержав пристального взгляда Абибо, я опустил глаза.
– И ты не знаешь, где он?
– Я сказал ему, что вы добрый, хороший человек, что вы поверите ему и поможете...
– Почему он не пришел сам?
– Не посмел...
– Хочет, чтобы его простили?
– Да. Поверили и простили. Он больше не будет воровать. Он хочет жить по-человечески.
– Хочет?
– Дядя Абибо, вы верите мне?
Он, видно, не ждал такого вопроса и потому смешался.
– Верите?
– Смотря в чем...
– Вообще.
– Вообще? Вообще ты хороший парень, почему бы тебе не поверить?
– Так вот, Тавера лучше меня. Он в школе был отличником. У него девять похвальных грамот, девять! Но один раз он ошибся... Должны же человеку поверить? Если вы верите мне, поверьте и Тавере! Поступите с ним так, как поступили бы со мной... Вас все знают, уважают, все будет так, как скажете вы...
– Завтра! – сказал Абибо и погасил настольную лампу.
– Что завтра? – не понял я.
– Завтра узнаю все, завтра вечером.
Я не видел Абибо – в комнате было темно.
– Мне прийти завтра?
– Завтра вечером!
Абибо щелкнул кнопкой выключателя. Он стоял спиной ко мне, а когда обернулся, я вновь увидел его чистые, спокойные голубые глаза.
– Завтра! – повторил он и открыл дверь.
Последняя лекция – история Грузии. Половина девятого. Еще пятнадцать минут, и я пойду домой... Сейчас Тавера сидит на моей кровати, ждет меня... Абибо, наверно, уже вернулся с работы. Он тоже ждет моего прихода... Мать на кухне, сидит у окна, смотрит на часы. Она, конечно, ждет меня больше всех!..
На кафедре стоит низенький профессор. Он прекрасно читает лекции, и потому слушать его приходят все – в аудитории яблоку негде упасть...
...Вахтанг Горгасал был человеком могучего телосложения, и была в нем силища неимоверная...
...Я и Гурам сидим вместе. Гурам не сводит глаз с профессора, но думает он о чем-то своем. О чем? Наверно, о Тавере. Утром я все ему рассказал, и он обозвал меня дураком. Гулико сидит перед нами. Огненная ее голова среди стольких черных голов горит, словно солнце. Гулико внимательно слушает профессора и время от времени что-то записывает...
Пригласил молодой царь визирей и поведал им о своем решении – пойти походом на аланов и хазар, дабы вызволить из неволи похищенную сестру свою Мирандухт...
...С тех пор как мы вернулись из Батуми, я ни разу не встречался с Гулико. Ее мучает женская гордость, меня – мужское самолюбие. Она ждала моего поражения, я – ее капитуляции. Гурам вызвался было выступить в роли парламентера и долго курсировал между двумя лагерями. Но потом в нем заговорило чувство собственного достоинства, и он махнул на нас рукой...
Тавера ждет меня. Ждет меня мать. И Абибо тоже ждет...
...В узком Дарьяльском ущелье войскам пришлось бы трудно. Потому и договорились противники – выставить своих палаванов. Вышел от хазар некий Тархан – косая сажень в плечах. Фарсман Фарух защищал честь грузин. Сошлись палаваны. Размахнулся Тархан и рассек пополам Фарсмана вместе с конем. Приуныли грузины. И велел тогда царь Вахтанг подать коня...
– А ты не проговорился, что Тавера у тебя? – в сотый раз спрашивает меня Гурам.
Я отрицательно качаю головой.
Тавера, Тавера... А ведь он мог быть сейчас с нами здесь, на лекции. В университете от этого ничего бы не изменилось. Наш сторож – дядя Мосэ – все так же зорко охранял бы вход, придирчиво проверяя студенческие билеты, дабы никто из посторонних не ухитрился проникнуть на лекцию и присвоить чужую долю знаний. Наш завклубом Вахтанг Мчедлишвили все так же жаловался бы на репертуарный голод и, наверно, пригласил бы Таверу в драмкружок, которому позарез нужен был курчавый студент с мужественным баритоном на роль мавра...
...И полетела наземь голова Тархана, и объял ужас войско хазар и аланов. Выступил тогда вперед богатырь-алан по имени Бакатар, под тяжестью которого прогибался конь. И крикнул Бакатар царю Вахтангу: «Плыви ко мне, царь, и сразимся в честном бою!» Ответил богатырю царь: «Я царь, повелитель твой, а ты, алан, раб мой! Плыви сюда сам, меч Вахтанга ждет тебя!» – «Я иду к тебе, – молвил Бакатар, – но покля нись, что не нападешь на меня, пока конь мой не достигнет суши!» Поклялся царь...
...Тавера начал курить в восьмом классе. Тогда же он сыграл Гитлера в пьесе Романа Черкезишвили. Пьеса называлась «Падение Берлина».
ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
Историческая драма в одном действии, двух картинах.
Действующие лица
Гитлер – Рамаз Корсавели
Геббельс – Важа Чанишвили
Геринг – Арчил Эргемлидзе
Паулюс – Павле Ратиани
Ева Браун – Инола Ткемаладзе
Лейтенант – Теймураз Барамидзе
1-й солдат– Гурам Чичинадзе
2-й солдат – Нестор Джапаридзе
3-й солдат – Нодар Микиашвили
Автор – Роман Черкезишвили
Режиссер – пионервожатая Лили Угулава.
Репетиции проводятся ежедневно с 6 до 9 часов в клубе 15-й школы. Премьера 3 февраля.
Вход по пригласительным билетам.
Пионервожатая-режиссер Лили Угулава раздала роли. Заняв места вокруг стола, мы приступили к чтению пьесы. Автор – Роман Черкезишвили – раскрыл тетрадку в толстом переплете, кашлянул в кулак и несмело начал: «Действие происходит в Берлине, в рейхстаге. За длинным столом сидят Геббельс, Геринг, Паулюс, Ева Браун. Гитлер стоит. Он нервно грызет ногти, почесывает голову и кричит. Время от времени доносятся звуки взрывов – бомбят Берлин».
Гитлер. Я сровняю Россию с землей! Я поставлю Сталина на колени! Через неделю Сталинград будет лежать у моих ног!
Ева. Конечно, милый, конечно! Не нервничай, прошу тебя!
Она нежно гладит Гитлера по щеке, успокаивает его. Гитлер целует Еву и садится.
Геббельс. Мой фюрер! (Встает.) Наши войска под Сталинградом оказались в серьезном затруднении. Необходима мобилизация всех сил, иначе наше поражение неминуемо! Я боюсь, что...
Гитлер (вскакивает с пеной у рта, бьет кулаком по столу). Боитесь? Трусы! Убирайтесь вон! Чтобы ноги вашей не было в рейхстаге, трусы! Презренные трусы! Овцы! Овцы! Овцы!..
Геринг (вскакивает). Я не овца! Я не боюсь!
Гитлер. Иди ко мне, мой Геринг. Я обниму тебя.
Пока Гитлер обнимает Геринга, Ева укоризненно говорит Геббельсу:
Ева. Как тебе не стыдно, Геббельс! Разве можно расстраивать его! Ведь он и без того почти невменяем!
Геббельс. Пожалуйста, если уж и правду нельзя сказать, я замолчу!
Он умолкает. Гитлер последний раз целует Геринга и восторженно восклицает:
Гитлер. Мой толстый, мой верный Геринг! Ты поедешь в Сталинград!
Геринг (в ужасе). Я?!
Гитлер. А кто же? Я, что ли?
Геринг (бледнея). Брат мой Гитлер, я нужен фюреру именно здесь! И я скорее умру, чем покину его! В Сталинград поедет Паулюс!
У Паулюса перекосилось лицо.
Гитлер (Паулюсу). Поедешь?
Паулюс (дрожащим голосом). Поеду... Конечно, поеду!
Гитлер. Молодец! Браво! (Целует Еву, затем Паулюса. Снимает свои ордена и вешает их ему на грудь.)
Паулюс (плачет). Мой фюрер! Это самые счастливые минуты в моей жизни! Я поеду в Сталинград! Я уничтожу коммунизм! Я предам Россию огню и мечу! Я постараюсь захватить в плен самого Сталин»!
Ева вскакивает в радостном порыве.
Ева (Гитлеру). Можно, я поцелую его?
Гитлер. Целуй!
Ева целует Паулюса. Тот испуганно косится на Гитлера: не ревнует ли он?
Давай, давай!
Паулюс целует Еву. Гитлер отворачивается.
Паулюс. Я покажу коммунистам, что такое немецкое оружие!
Слышны разрывы бомб. Паулюс лезет под стол. После наступления тишины он продолжает:
Я разрушу Сталинград, как Карфаген! И если мне не суждено возвратиться с поля брани, знайте: моим последним словом будет «фюрер»! (Садится и плачет.)
Геббельс. Мой фюрер! Простите мою минутную слабость! Теперь я публично заявляю: дни коммунизма сочтены! Не сегодня, так завтра Сталин сложит оружие! Россия будет нашей колонией! Да здравствует Германия!
Гитлер. Иди, поцелую тебя!
Они целуются. Ева разливает вино в высокие бокалы.
Ева. Господа, выпьем за Германию, за фюрера!
Все пьют и по-немецки поют «Мравалжамиер» * (грузинская застольная песня).
Гитлер. Теперь ступайте. Я и Ева хотим спать.
Ева зевает. Все уходят. В комнате гаснет свет.
Занавес
Вторая картина в основном была построена на звуковых и световых эффектах. Действие происходило в Берлине, в бомбоубежище. Сцена представляла полуразрушенную канцелярию Гитлера. В беспорядке валялись вещи, бумаги. Свет то и дело гас и вновь зажигался. Четыре мощных вентилятора на сцене вздымали тучи пыли. За кулисами непрерывно гремели барабаны. Берлин агонизировал...
Неожиданно на сцене появлялись я и мои автоматчики.
– Руки вверх, Гитлер, Геринг, Геббельс, Риббентроп и госпожа Ева! – кричал я.
Канцелярия безмолвствовала. Тогда я с автоматом наготове врывался в комнату и видел валявшихся на полу Еву, Гитлера и немецкую овчарку, рядом с ними – бутылку с ядом.
– Отравились, трусы! – говорил я и гордо смеялся.
– Отравились, трусы! – повторяли со смехом мои ребята.
– Друзья! – начинал я свой монолог. – Враг разгромлен в собственном логове! Добро восторжествовало над злом! Рядовой Чичинадзе, доложите товарищу Жукову, что война окончена!
Гурам поворачивался на каблуках и уходил. На этом спектакль заканчивался.
На генеральной репетиции присутствовали педагогический совет и художественный совет родителей в полном составе.
– Закройте дверь и никого не выпускайте! – приказал директор.
Первым потребовал слова отец Инолы Ткемаладзе.
– Уважаемый директор! – начал он. – Надеюсь, никто здесь не станет возражать, если я скажу, что моя семья воспитывает ребенка в полном соответствии с принципами и требованиями э-э... советской педагогики. Девочка в школе учится на «отлично», кроме того, она занимается музыкой, изучает английский... Чем же, спрашивается, объяснить тот факт, что в пьесе ей поручена роль, э-э, извиняюсь, дамы легкого поведения, э-э, сожительницы злейшего врага человечества, людоеда Гитлера – Евы Браун?
– Это искусство! – сказала пионервожатая.
– Это разврат! – взорвался отец отличницы. – В спектакле мою дочь целуют трижды: дважды Гитлер и один раз Геббельс! Я увожу ее из кружка и из школы. Да! Идем, дочка!
Еву увели.
Отец Арчила Эргемлидзе вежливо высказался в том духе, что, дескать, нехорошо, когда сын старого большевика играет Геринга.
Мать Важа Чанишвилн категорически поставила вопрос о хромом Геббельсе.
– С какой стати, – заявила она, – люди должны думать, что мой сын хромой?!
– Но ведь Геббельс в самом деле был хромой! – возразила режиссер.
– Это не имеет никакого значения! – парировала обиженная мать. – Половина города и не догадывается об этом... А мой сын...
Один из членов совета неодобрительно отозвался о развитии сюжета пьесы:
– Из героической летописи Отечественной войны произвольно изъят целый ряд важнейших эпизодов... Кроме того, Гитлер выглядит значительно моложе своих лет, и поэтому образ получился неубедительным. И, наконец, совсем уже странно слышать грузинскую речь из уст Гитлера и его сообщников. По-моему,первую картину следует вообще снять.
– Мда-а, Гитлер и мне не нравится! – заявил директор. – Черкезишвили, – обратился он к побледневшему вдруг автору, – откуда вы взяли предсмертные слова Гитлера?!
– Я... Я их сам сочинил.
– А кто тебе дал право сочинять слова, которые никто не слышал? Откуда тебе известно, что делал Гитлер в своей канцелярии?!
Черкезишвили не смог вспомнить, кто рассказывал ему о последних днях фюрера, поэтому он опустил голову и промолчал.
– Уважаемый директор, нельзя же подходить к вопросу так педантично, – вмешалась мать Нодара Микиашвили. – Дети что-то пишут, играют, забавляются. Что же в этом плохого? Пусть играют, дай бог им здоровья!
– Конечно, для вас ничего плохого! – вскочил отец Паулюса. – Ваш сын играет красноармейца, а мой... Благодарю вас!
– Товарищи, стыдно говорить об этом! Неужели все происходящее здесь вы принимаете всерьез? Ведь в конце концов это восьмиклассники, дети! – улыбнулся один из преподавателей.
И все же премьера не состоялась... Пионервожатая за слабую работу получила строгий выговор, а Роману Черкезишвили было запрещено сочинение пьес па тему Отечественной войны...
...Почему же до сих пор не звонят? Уже без четверти девять!..
...И преступил царь свою клятву. Труп Бакатара унесла река. И тогда дрогнули ряды аланов и хазар, и обратились они в бегство...
...Наконец-то! Звонок! Я сорвался с места, выскочил из аудитории, сломя голову промчался через университетский двор. Гурам бежал за мной... Подъезд, первый этаж, второй, третий, четвертый...
Бледная мать стояла в дверях.
– Мама! Что случилось?
– Взяли его...
Я без слов опустился на ступеньку и оторопело взглянул на запыхавшегося Гурама. Потом что-то больно кольнуло меня в сердце. Дыхание сперло. Что подумает Тавера! Боже мой, что же это такое? Тавера... Что он подумает? Что он подумает?.. В висках у меня шумело, кровь прилила к лицу.
– Нет его? – испуганно спросил Гурам.
– Нет! – ответил я, вставая.
– Войди в комнату, сынок! – попросила мать.
– Войди! – повторил Гурам.
Но я уже ничего не слышал, я спускался вниз по лестнице.
– Не надо, сынок! – преградила дорогу мать.
Я осторожно отстранил ее и пошел дальше.
– Если ты меня любишь, не делай этого, – просила она, шагая рядом со мной.
Я подошел к двери Абибо и нажал на кнопку звонка. Никто не отозвался. Я забарабанил по двери кулаком. Ни звука. Тогда я со всей силой ударил дверь ногой.
– Рехнулся? – набросился на меня Гурам.
Я оттолкнул его и стал плечом выбивать дверь.
– Выйди, покажись, мерзавец! Выйди, арестуй меня! Знаю ведь, ты дома! Выйди, негодяй! Доказал свое геройство, подлец! Выйди, арестуй меня, гадина! Попрошайка!!
– Сынок, перестань, пойдем домой! – умоляла мать.
Выбежавшие на шум соседи удивленно взирали на нас.
– Выходи, открой дверь, я плюну тебе в лицо!
Я плюнул в дверь и исступленно заколотил кулаками. Потом у меня вдруг подкосились ноги. Я сел на пол, зарылся головой в колени и заплакал.
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО
Теймураз Барамидзе! Вот уже двадцать два года тебе светит солнце. Оно светит тебе наравне с другими, ибо «и сорняк равно, как роза, освещается лучами» – так сказал твой великий предок.
Теймураз Барамидзе! Ты, не знавший зла, был со всеми добр. Ты не знал забот, ибо не о ком было тебе заботиться. Ты любил солнце, которое грело, но не жгло тебя. Ты обожал море – оно ласкало тебя, как нежная мать. Ты любил Гулико – девушку твоей мечты, девушку, без которой ты не мог жить, которая любила тебя. У тебя есть друг Гурам – человек, который верен тебе и останется таким до самой смерти... Что же изменилось в твоей жизни? Почему с годами растут твои заботы? Почему ласковые прежде лучи солнца вдруг стали жгучими? Почему любимое море сейчас тебе внушает страх? Почему тебя больше не тянет к Гулико – к твоей милой, хорошей Гулико? Что с тобой стряслось, старина? Откуда эти сомнения, подозрения, печаль? Откуда? О, если б человек рождался столетним! Если б с годами не росли, а убывали его заботы, горе, и вместе с ними – слух, зрение, разум, и умирал бы человек беззаботным и бесчувственным, как младенец в утробе матери!.. Что? След в жизни? Ах, какой там след! След всегда один и тот же – шагаешь ли вперед, пятишься ли назад! Что? Ты не хочешь оставить след человека, пятящегося назад? Отлично! Шагай вперед! Смелее! Что? Боишься? Чего же ты боишься?!
Ничего я не боюсь! С чего ты взял? Кто сказал, что солнце жжет меня? Кто вздумал, будто море пугает меня? Кто врет, что я разлюбил Гулико? И почему ты думаешь, что с годами растут мои заботы?
Ты сам мне сказал об этом, дорогой!
Я?
Да, да, ты, Теймураз Барамидзе! Ты сказал, что боишься жизни, но не сказал почему. Не потому ли, что там, в кафе, довелось тебе заглянуть в опустошенное сердце старого Дурсуна? Быть может, плевок Абибо смутил твою душу? Не испугало ли тебя недоверие людей к твоему другу Тавере? А может, терзает тебя горькая утрата Гулико?..
.................................................................................................................................................................................
– Гулико, как давно мы не виделись, Гулико!
– Здравствуй, Темо!
– Гулико, что произошло между нами? Почему мы так охладели друг к другу?
– Не знаю, Темо.
– А все же?
– Не знаю!
– Быть может, из-за того глупого случая на море?
– Не думаю. Это скорее послужило поводом.
– Поводом?
–Да. Иначе почему мне с тех пор не хочется встречаться с тобой?
– Но ведь мы каждый день видим друг друга.
– Да, но мы ведь не встречаемся.
– Но почему же, Гулико?
– Не знаю, Темо, клянусь мамой.
– Может, ты полюбила другого?
– Нет, клянусь тебе, никого. Просто я перестала думать о тебе, ты больше не нравишься мне. Ты стал каким-то странным.
– Почему?
– Хотя бы потому, что ты не любишь меня, а говоришь так много. Обманываешь себя и меня.
– Ты так думаешь?
– Уверена. И я уже не люблю тебя.
– Причина?
– Не знаю. Это трудно объяснить. Ты парень честный. Признавайся, разве ты любишь меня?
– Не так, как прежде.
– Вот видишь! И я не спрашиваю причины.
– Как же нам быть дальше, Гулико?
– А так... Забудем все...
– Нельзя все забыть, Гулико!
– Можно!
– Как?
– Вот я уже забыла тебя. Забыла даже, как звать.
– Меня зовут Темур!
– Простите, я вас не помню. Как ваша фамилия?
– Барамидзе, Темур Барамидзе, ваш коллега, студент четвертого курса экономического факультета.
– Нет, не помню... Вы посещаете лекции?
– А как же! Я сижу за вами, на второй парте... вы Гулико Цибадзе. Вы живете на Лоткинской горе...
– Нет, вы обознались... Извините, я спешу. Прощайте!
– Прощайте... Прощай, Гулико!
Звякнул колокольчик председателя.
– Товарищ Барамидзе, будьте любезны, обратите на нас внимание. Кажется, на комсомольском собрании факультета разбирается ваш вопрос, а не мой!
Собрание проходило в девяносто четвертой аудитории. На собрании, кроме нескольких десятков студентов, присутствовали секретарь партбюро факультета Давид и лектор права Георгий. На повестке дня стоял один вопрос: «О недопустимых действиях студента Барамидзе, выразившихся в учинении в состоянии опьянения дебоша, нанесения физического оскорбления соседской двери и словесного оскорбления соседу – ответственному работнику, которого студент Барамидзе обозвал «попрошайкой», хотя тот никогда не был замечен в попрошайничестве».
Я как обвиняемый сидел за отдельным столом у стены. Погруженный в раздумье, я не слушал, о чем говорилось в обвинительном заключении, которое читал секретарь комсомольского комитета Ушанги Кочакидзе. Это и послужило поводом для замечания председателя.
– Товарищи! – продолжал секретарь. – Указанный случай свидетельствует о том, что политико-воспитательная работа на факультете хромает! Не хромает, а прямо-таки провалена! На следующем собрании мы обсудим этот вопрос... Хватит, товарищи! Мы не хотим краснеть из-за других! Кто лекции пропускает? Барамидзе и Чичинадзе! У кого переэкзаменовка? У Барамидзе и Чичинадзе! У кого задолженность по членским взносам? У Барамидзе и Чичинадзе!
– Дорогой Ушанги! – встал Гурам. – Насколько мне известно, сегодня разбирается не мой вопрос!
– Настанет и ваш черед, товарищ Чичинадзе! – пригрозил Ушанги.
– Вот тогда и поговорим обо мне, мой золотой!
– Товарищ Чичинадзе, не учите меня! Я сам знаю, когда и что говорить! – крикнул Ушанги и посмотрел па председателя.
Тот зазвенел колокольчиком, Гурам сел.
– Товарищ Барамидзе, объясните собственно причину вашего хулиганства! – обратился ко мне Ушанги.
– Ничего я не помню. Был пьян.
– Значит, не отрицаете, что были пьяны? – спросил председатель.
– Врет он! – крикнул Гурам. – Я был там, от него и не пахло вином!
– Значит, Чичинадзе признается, что со стороны Барамидзе имело место хулиганство в трезвом состоянии?
– Ничего я не признаю! Я говорю, что Темо не был пьян. Вот и все.
– Товарищ Барамидзе, что вы скажете о заявлении Чичинадзе?
– Я же сказал: ничего не помню.
– Чем вы руководствовались, ломая дверь в квартире вашего соседа, официального лица, и обзывая его нецензурными словами?
– Наверно, была причина, потому и обзывал, – сказал Гурам.
– Какая причина, Барамидзе?
– Не помню.
– Может, вы вспомните, Чичинадзе? Или вы также были пьяны в лоск?
– Ты, дружок, выражайся вежливее, а то как стащу тебя вниз, да как...
– Товарищ Чичинадзе, ваш наглый выпад мы зафиксируем в протоколе!
– Фиксируй, где хочешь! Если ты наш товарищ, говори с нами по-товарищески! А то – «чем вы руководствовались»!.. Чего ты пыжишься?!
– Это официальное собрание, товарищ, и оно имеет свой регламент!
– Почему в таком случае здесь не присутствует официальное лицо, о котором вы говорите?
– Это вас не касается! Президиум собрания не нуждается в ваших поучениях! – сказал Ушанги, кинув взгляд па президиум.
Президиум кивком головы выразил свое согласие.
– Барамидзе, скажите, что произошло! – обратился Ушанги ко мне.
– Не скажу.
– Не скажешь?
– Во всяком случае, не тебе!
– Скажи собранию!
– Вряд ли для собрания интересны наши соседские дела.
– Значит, вы не подчиняетесь собранию? Да вы знаете, что вас ждет за это? Вы будете исключены из комсомола!
– Исключай, пожалуйста, того, кого принимал ты! А меня в комсомол принимало общее собрание!
– Хватит, товарищи! Пора кончать с подобными безобразиями! Кто учинил пьяный дебош? Барамидзе!
Кто оскорбил ответственное лицо? Барамидзе! – Ушанги начал все сначала.
– Да кто же это ответственное лицо? Покажите нам его, назовите фамилию! Что за секреты! – выкрикнула Аграфена Данелия.
– Не суйтесь не в свое дело! – Председатель предупредительно поднял колокольчик.
– Для чего же нас позвали, если это не паше дело? Тогда мы уйдем, – обиделась Аграфена.
– Вы уйдете, когда мы разрешим! Хватит с вас того, что пожаловали на собрание с напомаженными губами... И с серьгами в ушах!
– Товарищ председатель, какое вам дело до напомаженных губ Аграфены? – спросил Арчил.
– Товарищ Арчил, строим мы коммунизм или не строим? – спросил вдруг Ушанги.
– Я-то строю, а как ты – не знаю...
– Значит, по-твоему, я не строю коммунизм?! – Ушанги удивился так, словно у него из рук выбили кирпич.
– Право, не знаю! Я работаю в другой бригаде! – уклонился Арчил от ответа.
– И вообще по какому праву ты защищаешь женщину, которая носит платье выше колен?!
Аудитория зашумела. Все обернулись к Аграфене, которая зарделась и опустила голову.
– Товарищ докладчик, вернемся к основному вопросу, а короткое платье Аграфены обсудим на следующем собрании вместе с вопросом Чичинадзе! – вмешался я.
– Вот видите, товарищи! Он, – Ушанги пальцем показал па меня, – издевается над собранием, он не признает себя виновным!
– Это ты издеваешься над нами! Здесь разбирается серьезный вопрос, а ты толкуешь о каких-то серьгах и коротких платьях! – вскочил Гурам.
– Товарищ Чичинадзе! Вы заблуждаетесь, думая, что помада, серьги и короткое платье – несерьезный вопрос. Это так же серьезно, как... – Ушанги запнулся.
– Как?..
– Как... Как вообще все! И помните, что напомаженных людей с серьгами в ушах и в коротких платьях мы не пропустим в светлое здание коммунизма!
– Ну да, если в дверях поставят тебя, – проговорил Арчил.
– И в узких брюках тоже! – припугнул Арчила Ушанги.
В аудитории раздались сдержанные смешки.
– Значит, ты будешь охранять врата коммунизма, разрешая вход исключительно людям немытым и непричесанным, мужчинам в широких брюках, женщинам без помады, без серег и в длинных платьях. Так, что ли? – спросил Арчил.
Аудитория громко засмеялась.
– Потом, потом возьмешь слово, товарищ Арчил! – прервал его председатель.
– Это провокация! Твой вопрос мы вынесем на следующем собрании! – крикнул Ушанги.
– Запиши, запиши, пожалуйста! – попросил Арчил.
В аудитории поднялся переполох.
– Товарищи! – вскочила Люба Нодия. – Что это? Нам запрещается одеваться красиво и опрятно?
– Товарищ Нодия! – повысил голос Ушанги. – Вы также относитесь к категории студенток, подобных Аграфене. Нам известно, что вы систематически подводите брови и на левой руке носите кольцо. Да!.. Между прочим, и лак на ногтях у вас слишком яркий! Стыдно! Я бы на вашем месте, товарищ Нодия, сидел бы тихо и не рыпался!
– Какой я тебе товарищ, кретин! – взорвалась Люба. – Я замужняя женщина, хочу – кольцо надену, хочу – брови подведу, хочу – остригусь наголо! Тебе-то какое дело, невежа?!
– Товарищ Нодия! За оскорбление личности ваш вопрос будет вынесен на следующем собрании! – заорал председатель.
Люба, рыдая, упала лицом на парту. Аудитория взбесилась.
– Сойди вниз!
– Кого ты учишь уму-разуму?!
– Темо, иди сюда, садись с нами!
– Вспомни-ка лучше, как вы с Ило профсоюзные деньги присвоили!
– Кто это сказал?! – посинел Ушанги.
– Я сказал! – встал Отар Санеблидзе.
– По какому праву?!
– Знаю!
– Что ты знаешь?!
– Знаю. Ило сам все рассказал!
У Ушанги застыло лицо.
– Я этого так не оставлю... На следующем собрании...
Ему не дали говорить. Кто-то свистнул... Вдруг встал Давид. Сразу наступила тишина.
– Товарищи, – начал секретарь партбюро. – Весьма прискорбно, что на собрании создалась такая ситуация. Как видно, комитет комсомола не только не подготовил, но вообще не изучил вопрос Барамидзе. Так нельзя, товарищ Ушанги!.. Я не берусь судить, насколько прав или не прав Барамидзе, но бесспорно одно: здесь не чувствуется ни малейшего взаимного понимания и уважения. Как вы думаете, товарищ Георгий, можно ли в таких условиях проводить собрание?
Георгий встал. Он осуждающе оглядел аудиторию, недовольно покачал головой и снял очки.
– Откровенно говоря, мы сторонники дисциплины, строгой дисциплины. Очевидно, это обусловлено тем, что за долгий период научной деятельности нам часто приходится вступать со студентами в тесные контакты, устанавливать с ними взаимные связи и отношения. На сегодняшнем этапе многолетнего анализа и умственной, так сказать, интерпретации этих взаимоотношений мы вынуждены констатировать страшную аритмию и депульсацию, имеющие место в развитии явлений – подразумевается вопрос оценки кадров – с точки зрения нарушения морально-этических нормативов... Слово «студент» как понятие претерпевает процесс абсолютного уничтожения, морального, если можно так высказаться, аннулирования. Кто хулиган? Студент! Кто карманщик? Студент! Кто невежа? Студент! Кто виновен во всяких нарушениях государственного правопорядка? Студент!.. Товарищи, я воспитал тысячи студентов, и...
– Уважаемый Георгий, – сказал Давид, – вы, конечно, читали «Наставник» Акакия Церетели?
Раздался сдержанный смех.
– Я понимаю, на что вы намекаете, уважаемый Давид. Смею вас заверить, что я читал не только Церетели, но и Дидро, Руссо, Вольтера, Маккиавелли, мемуары Наполеона и Бисмарка. Да! Меня печалит судьба нашей молодежи, отсюда и строгий тон моего выступления. Я доволен нашим докладчиком. Резковато, но принципиально! Подумайте, товарищи! Молодежь – опора, надежда народа. Кому мы собираемся оставить в наследство нашу землю, пропитанную кровью и потом отцов? Кому? Юнцам в узких брючках и остроносых туфельках? Вертихвосткам с выщипанными бровями и напомаженными губами?!
Давид улыбнулся.
– Дорогой мой, Александр Македонский вовсе голым ходил, а завоевал весь мир! Брови подводила сама царица Тамара и от румян, говорят, не отказывалась.
В аудитории захохотали.
– Это несерьезно, это не полемика! – взорвался Георгий. – Дайте мне высказаться! Вы что думаете? Я строил эту жизнь, держа маузер в одной руке и книгу – в другой!..
– Каюсь, не знал этого! Вообще-то, мне кажется, было бы лучше держать вещь обеими руками...
Георгий оцепенел.
– Вы защищаете молодежь, которой чужды понятия чести, дисциплины, вежливости, уважения к старшим! Знаете ли вы, что их ровесник,– Георгий простер руку к аудитории,– что их ровесник-студент вчера убил человека? Знаете ли вы, что недавно двое их ровесников-студентов ограбили магазин? Что их ровесник-студент на Кукийском кладбище изнасиловал женщину? И что их ровесница-студентка стала матерью незаконнорожденного ребенка?
– А знаете ли вы, что их ровесник-солдат собственным телом закрыл вражескую амбразуру? Что их ровесница-партизанка пошла на виселицу, не выдав своих? Что их ровесник-студент вчера спас тонувшего в Куре старика? Не знаете! Не хотите знать! Да и не обязательно вам это знать!
В аудитории грянули аплодисменты. Давид жестом потребовал тишины и продолжал:
– Я не знаю, товарищи, в чем провинился Барамидзе. Впрочем, это нетрудно выяснить. И поскольку это оказалось не под силу товарищу Ушапги, сегодня-завтра это сделает партбюро или ректорат. Если Барамидзе виноват, он будет наказан. Но сейчас меня волнует другое. Откуда этот нигилизм в отношении к нашей молодежи? Кто тебе дал такое право, Ушанги, обвинять своих товарищей, своих ровесников в каких-то смертных грехах? Какое тебе дело до платьев Данелия и кто, собственно, установил норму длины женских юбок?
– А она пила воду из колонки, перегнулась, и я увидел ее оголенное тело! – вскочил Ушанги.
– Кто же тебя просил смотреть? Или, по-твоему, из-за тебя Данелия не должна нагибаться?
– Да я невольно...
– Понравилось?
В зале захохотали.
– А какое дело тебе до ногтей Любы Нодия? Кто тебе поручил измерять ширину брюк Арчила? Да если хочешь знать, одно его стихотворение мне дороже тебя вместе с твоими широкими брюками!
– Не все зависит от вас, уважаемый Давид! – крикнул Ушанги.
– И не от тебя, мой дорогой! А ты возомнил себя этаким стражем во вратах коммунизма! Кто тебя уполномочил контролировать ширину брюк и длину платьев вступающих в коммунизм людей? Это еще вопрос – впустят ли туда самого тебя... А вы, уважаемый Георгий? Кто вам дал право выступать здесь и обливать грязью нашу молодежь? О каких сдаче-приеме страны вы говорите? Что это – склад? Придет время, молодежь сама возьмет в свои руки и жизнь, и землю, и страну, вас не спросит! Молодежь предаст нас земле и на надгробных камнях напишет наши имена!