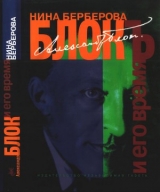
Текст книги "Александр Блок и его время"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Глава XXI
Для Блока все непросто даже в эти первые месяцы революции. Есть вещи, которые его смущают: он не может их не замечать и оставаться безучастным. На Украине русские солдаты братаются с немцами, но к северу, на Рижском фронте, немцы стремительно наступают. Не хватает хлеба, по ночам постреливают, вдали грохочет пушка. Неужели это и есть «бескровная революция»? Недовольство растет. На улицах слышны жалобы: «Пусть скорее приходят немцы, а не то мы все подохнем с голоду!» На фронте для дезертиров восстановлена смертная казнь, и никто с этим не спорит. Вновь введена цензура. Финляндия, а потом и Украина провозглашают свою независимость. «Великая Россия» вот-вот рухнет. Много говорят о большевизме, и два имени – Ленин и Троцкий – привлекают внимание Блока. Его притягивает это учение. Оно будоражит революционный народ, которому Блок сочувствует, и в то же время, как многие другие, он полагает, что вся эта пропаганда оплачена Германией.
Свирепствует страшная засуха. В окрестностях Петербурга горят леса и луга. Грязно-желтый густой туман доходит до предместий. Урожай гибнет. Над страной нависли печаль и тревога. Блок растерян:
«Страшная усталость… В России все опять черно… Для России, как и для меня, нет будущего».
Нужно выбирать. В июле Ленин и Троцкий пытаются захватить власть. Несмотря на неудачу, ясно, что они не признают себя побежденными.
«Я по-прежнему „не могу выбрать“. Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо – сейчас пустое для меня, я ничего не понимаю!»
Вокруг него каждый сделал свой выбор. Интеллигенция поддерживает Керенского, желая продолжения войны до поражения Германии и немедленного ареста Ленина и Троцкого. Блок осуждает эти меры; он согласен с народом, но за согласием нет еще обдуманного и твердого выбора. Он согласен с народом, но его раздирают сомнения, противоречия, преследуют тревожные мысли. Он цепляется за чувство, которое и прежде подспудно жило в нем, – подавленное, скрытое – смесь презрения к Западу и отчуждения от него. Это ощущение владело им, когда он писал «Скифов».
«Сейчас самые большие врали (англичане, а также французы и японцы) угрожают нам, пожалуй, больше, чем немцы: это признак, что мы устали от вранья. Нам надоело, этого Европа не осмыслит, ибо это просто, а в ее запутанных мозгах – темно. Но, презирая нас более, чем когда-либо, они смертельно нас боятся, я думаю; потому что мы, если уж на то пошло, с легкостью пропустим сквозь себя желтых и затопим ими не один Реймский собор, но и все остальные их святые магазины. Мы ведь плотина, в плотине – шлюз, и никому отныне не заказано приоткрывать этот шлюз „в сознании своей революционной силы“».
Мережковский стремится объединить вокруг себя всех, у кого еще есть силы и воля обороняться против «грядущей тьмы». Блок держится в стороне. Уже начинают поговаривать о его большевизме, он остается безучастным. Жизнь снова становится «подлой». Любовь Дмитриевна далеко, она играет в Пскове, и теперь он знает, что не может без нее жить. «Люба, Люба, Люба, – пишет он на каждой странице своего дневника. – Люба, Люба! Что же будет?.. А я уже, молясь Богу, молясь Любе, думал, что мне грозит беда, и опять шевельнулось: пора кончать».
Она приезжает, но что он теперь может дать ей? Растерянный, усталый, стареющий – даже солнечный луч вызывает у него грустную улыбку: «Вот немного тепла и света для меня». У Любы своя жизнь, театр, успехи, он в тридцать семь лет жалуется на боли в спине и говорит о приближающейся «тихой старости». Его здоровье внушает все больше опасений, доктора не могут определить, что это за непонятная боль в спине и в ногах. Он с любопытством наблюдает за своей болезнью: «Вдруг – несколько секунд – почти сумасшествие… почти невыносимо». И через два дня: «Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума».
Любовь Дмитриевна с ним, но ей прискучила такая жизнь, и она этого не скрывает. Лето сухое и жаркое, с сильными грозами; в полночь отключают электричество – приходится искать свечи. В газетах слышны истерические нотки, тем более – в людях. Кругом удушье. Глухой гнев, тревожный, гнетущий, висит над городом. Не достает лишь повода, чтобы он разразился. «Я же не умею потешить малютку, – записывает он 3 августа, – она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слушать мои разговоры». Любе передается его отчаяние, и она говорит о «коллективном самоубийстве». «Слишком трудно, все равно – не распутаемся».
К нему по-прежнему льнут женщины. Дельмас навещает его; приятельницы, незнакомые женщины присылают ему письма и любовные признания. Каждую ночь все та же женская тень маячит под окнами. Но женщины больше не интересуют его, и если он подходит к окну, то лишь затем, чтобы послушать приближающийся грохот канонады: вспыхнул корниловский мятеж. Сможет ли он когда-нибудь еще жить свободно, спокойно и мирно? Отказаться от службы? Долго ли еще будет работать эта Чрезвычайная комиссия? Все наводит на мысль, что долго, и в то же время его просят войти в состав Литературно-репертуарной комиссии бывших Императорских театров. Он не вправе отказаться, и вот он уже прикован двойными узами к этой машине, скорее бюрократической, чем революционной.
«Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и муку, по случаю моих завтрашних именин.
Да, „личная жизнь“ превратилась уже в одно унижение, и это заметно, как только прерывается работа».
Война все не прекращается! Усиливается разруха, кругом нищета, упадок, все пошло прахом. Ему остались только прогулки в Шуваловском парке и купание в озере. Когда выпадает несколько свободных часов, он садится в поезд и исчезает: всю ночь напролет пьет в хорошо знакомых местах, куда его всякий раз тянет, когда жизнь становится невыносимой.
Сентябрь. «Все разлагается. В людях какая-то хилость, а большею частью недобросовестность. Я скриплю под заботой и работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но ходят многие слухи». Октябрь! По приказу Троцкого вооруженные рабочие выходят на улицы Петербурга; Ленин произносит пламенную речь, определившую ход событий. Крейсер «Аврора» входит в Неву, направляет пушки на Зимний дворец, и власть переходит в руки большевиков.
Ледяная, темная, тяжкая зима. По вечерам неосвещенные улицы пустеют. Тюрьмы переполнены новыми пленниками, которым вчера еще все рукоплескали. Больше нет связи! Город отрезан не только от мира, но и от самой России. Из Москвы никаких новостей. На фронте – полный хаос, о бывших союзниках уже никто не вспоминает! Немцы продвигаются, и ничто не может их остановить.
Его мать получает печальное известие из Шахматова от бывшего работника:
«Ваше Превосходительство Милостивая Государыня Александра Андреевна.
Именье описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки немного, пудов 15 или 18. В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Александровича открывали топором, все перерыли.
Безобразие, хулиганства не описать. У библиотеки дверь выломана. Это не свободные граждане, а дикари, человеки-звери. Отныне я моим чувством перехожу в непартийные ряды. Пусть будут прокляты все 13 номеров борющихся дураков.
Лошадь я продал за 230 рублей. Я, наверное, скоро уеду, если вы приедете, то, пожалуйста, мне сообщите заранее, потому что от меня требуют, чтобы я доложил о вашем приезде, но я не желаю на Вас доносить и боюсь народного гнева. Есть люди, которые Вас жалеют, и есть ненавидящие.
Пошлите поскорей ответ.
На рояли играли, курили, плевали, надевали бариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, медали, а еще не знаю, что было, мне стало дурно, я ушел…»
Блок на письмо не ответил. Никто из них больше не бывал в Шахматове, в 1918 году пожар уничтожил дом вместе с книгами и архивами. Двоюродный брат Блока, бывший здесь в 1920 году проездом, не узнал эти места: все заросло колючим кустарником.
Однако нужно жить, то есть во что-то верить, кого-то любить, желать, ждать, надеяться хоть на какую-то радость. Но душа исполнена одной ненавистью. Ненависть против тех, кто ничего не хочет и не может, против буржуа во всех обличьях, буржуа, защищенного материальными и духовными ценностями, которые он скопил, ненависть против Мережковского с Сологубом, желающих сохранить «руки чистыми», ненависть против барышни, распевающей глупые романсы за перегородкой в ожидании своего «жеребца», ненависть против левых эсеров, к которым он примкнул: сотрудничая с большевиками, они ведут мелочные споры по вопросу о мире; ненависть против горьковской газеты, критикующей политику Троцкого. Он хотел бы заткнуть уши, чтобы до него не доносились бесчинству пьяной толпы, которая крушит и грабит магазины, винные подвалы и напивается до бесчувствия. «О сволочь, родимая сволочь!» Он хотел бы больше не слышать обо всех этих бессмысленных и глупых декретах, не способных поддержать хоть какой-то «революционный порядок», и не желает знать об условиях Брест-Литовского договора, который все вокруг него бранят!
Ему, с 1907 года говорившему в ряде статей о связи интеллигенции и народа, ясно одно: если интеллигенция целый век жаждала политических перемен в России, падения самодержавия, прихода к власти нового класса, то ныне она должна принять Октябрьскую революцию без рассуждений и колебаний, признать ее и к ней примкнуть. Вот что он пишет в своей последней статье «Интеллигенция и революция» в конце 1917 года – столь жестокого и насыщенного событиями. В тот миг, когда должна была окончиться эта ненавистная война, когда «диктатура пролетариата» вот-вот «приоткроет истинное лицо народа», в первый и единственный раз он выразил свое отношение к Октябрьской революции, которую, по его словам, полностью поддержал. Эта статья и поэма «Двенадцать», написанная месяц спустя, – главные произведения Блока, посвященные революции.
«Что такое война?
– спрашивает Блок в статье „Интеллигенция и революция“. –Это болота, кровь, скука. Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та пошлятина; имя обоим – „великая война“, „отечественная война“, „война за освобождение угнетенных народностей“ или как еще? Нет, под этим знаком – никого не освободишь.Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы… в оркестре. Но если мы их действительно любили, а не только щекотали свои нервы в модном театральном зале после обеда, – мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это – о том же, все о том же».
Он предвидит гибель тех, на кого обрушились революционные потрясения.
«Те из нас, кто уцелеет, кого не „изомнет с налету вихорь шумный“, окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ».
* * *
«Мы – звенья одной цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие“.
Интеллигенция должна избегать всего „буржуазного“, забыть о себе, не оплакивать умерших: ни людей, ни идей. Он призывает „слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра.
К чему загораживать душевностью путь к духовности? Прекрасное и без того трудно…
Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте музыку Революции“».
Белый то в Петербурге, то неизвестно где. Есенин здесь, чувствительный, как гимназистка. В голове у него сумбур, но его поэтический дар неоспорим; другие остаются в тени. Говорят, в Москве все иначе: Брюсов, футуристы поддерживают новую власть. Но Москва далеко! А здесь Сологуб и другие призывают саботировать правительство.
Блок заставляет себя вслушиваться в «эту музыку революции»; она его преследует. Тогда все исчезает: низость жизни, пошлость, тупость; днем и ночью он чутко прислушивается. И незаметно для него из тьмы возникает образ и предстает перед ним. Он вызывает у поэта ужас, отвращение, смятение – но не блаженство и безмятежность: это образ Христа. «Иногда я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Но он не в силах отвести от него глаз. «Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Иисуса Христа“. Наваждение усиливается: „Что Христос перед ними – это несомненно. Дело не в том, „достойны ли они его“, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого – ?“»
И он пишет «Двенадцать». В этой поэме нет ничего вымышленного. Именно так маршировали они через Петербург зимой 1918 года, днем и ночью, в мороз и снег, круша, убивая, насилуя, горланя песни о свободе, с винтовкой за плечами. Их можно было повстречать в переулочках вокруг Пряжки, вдоль Невского, в Летнем саду, на набережных, ныне усеянных осколками стекла и камнями. И впереди «Двенадцати» он видел «женственный призрак», столь же реальный, как они сами. Блок не понимает, что значит этот призрак. Он закрывает глаза, но по-прежнему видит его.
Правые называют это богохульством и люто его ненавидят. «Левые» – Луначарский, Каменев – не одобряют этот «устаревший символ». Каменев говорит ему, что эти стихи не следует читать вслух, поскольку он якобы освятил то, чего больше всего опасаются они, старые социалисты. И Троцкий советует ему заменить Христа Лениным.
«Двенадцать» становятся его заработком. Каждый вечер Любовь Дмитриевна читает поэму в артистическом кафе, где собираются модные поэты и буржуазная богема: ничтожные личности, сильно накрашенные женщины приходят, чтобы послушать «жену знаменитого Блока, продавшегося большевикам». Люба зарабатывает деньги, о работе в театре нечего и мечтать.
«Скифы» вышли во время подписания Брест-Литовского мира и кажутся пояснением к этому договору, обращенным к союзникам. Для России война закончена, и Блок, исполненный надежд, зовет Европу сделать выбор. А если нет… Тут он не скупится на угрозы. Из глубины Петербурга полуживой Блок грозит европейским «Пестумам», сам еще не понимая, что это его «De Profundis».
И снова Блок вспоминает Владимира Соловьева. Эпиграф к «Скифам» взят из его стихов:
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Стихи написаны от лица монголов, то есть русских, ведь они – азиаты. Азия уязвлена Европой; она веками сознавала себя безобразной, грязной, жалкой, отверженной, невежественной. Европа прекрасная, опрятная, изобильная, просвещенная. Но Азия – «имя же ей легион» – одолеет соперницу «тьмами». Чем ответить на презрение Запада? Как «желтые» могут отомстить «белым»?
Все, что Россия подавляла в течение долгих веков, прозвучало в этих строках, полных горечи и гнева. Безответная любовь к этой Европе, зависть, желание соединиться с ней, никогда не встречавшее отклика, – все это перешло в стойкую ненависть. Ревность Петра Великого, Пушкина, Герцена проступает в «Скифах».
Блок полностью осознал, каким последним средством борьбы располагала Россия: она может дать дорогу азиатским ордам, которые обрушатся на Европу. Именно этот путь изберет ее ненависть.
Но что станется с ее любовью к Западу? «Желтому» хотелось бы стать братом «белого»; любовь его душит, он изнемогает под ее тяжестью. Эта чрезмерная и непостижимая любовь к Европе страшна; она ведет к гибели любящего и любимого. И Россия рыдает, предлагая Европе вечный мир, в который не верит сам автор.
В «Скифах» уже нет былой блоковской магии. Стихи не столько прекрасны, сколь знаменательны. Полемический пыл делает их несовершенными; эту вещь можно ценить, но нельзя по-настоящему любить.
«Двенадцать» станет его первым революционным произведением. Эта поэма отмечена неоспоримым талантом, она расчистила дорогу стихам Маяковского, да и всей будущей революционной поэзии. Поэма необычна и неповторима; с поразительной виртуозностью Блок использует уличные песни и просторечие. Также, как Лермонтов в своей «Песне о царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и купце Калашникове» воскресил русский былинный фольклор, Блок в «Двенадцати» увековечил фольклор революционный.
В «Скифах» он попытался заговорить от имени русского народа. Быть может, сочиняя «Двенадцать», он хотел написать народную поэму. Здесь угадывается желание писать совсем по-новому, не только творить прекрасное, но и принести пользу. В нем самом и вокруг него все пошатнулось, и эта поэма (устаревшая много больше, чем самые «символистские» стихи Блока) совершенно точно отражает его душевное состояние и незабываемый образ города в ту первую зиму новой эры.
Глава XXII
Вселенское братство! Вечный мир! Отмена денег! Равенство, труд. Прекрасный, удивительный Интернационал! Весь мир – ваша Отчизна. Отныне нет никакой собственности. Если у тебя два плаща, один у тебя отнимут и отдадут неимущему. Тебе оставят одну пару обуви, и если тебе нужен коробок спичек, «Центрспички» его выдадут. Новорожденный, академик, рабочий и проститутка получают одинаковый паек керосина. Через полгода у государства ничего нет, у народа ничего нет, ни у кого ничего нет, голодающая страна ходит босиком. Молодежь шагает с воодушевлением, горделиво взирая на старую Европу, которая все еще упорно сражается с немцами. Все распевают хором задорные песни, декламируют стихи на голодный желудок, но с горящим взором. Дети никогда не видели апельсинов, не знают, когда жил Николай II – до Александра II или после, – не ведают, что в поездах существовало несколько классов…
…Они идут по призрачному городу навстречу небывалой, завораживающей жизни. Это призраки, они невесомые. Старики умирают сами, бунтари расстреляны, те, кто не желают понимать, что земной рай близок, бегут за границу. В зимних льдах или прозрачном летнем свете столица, словно тяжелобольной, постепенно меняет свой облик.
Но театры переполнены. «Дона Карлоса», «Принцессу Турандот», «Проделки Скапена» играют двести, четыреста, восемьсот раз. На оберточной бумаге выходят стихи Блока, Сологуба, Ахматовой, Гумилева, еще неизвестных молодых поэтов, воспевающих героев гражданской войны, нехватку хлеба, любовь, неважно что, ведь никто с них не спрашивает, и они сами ни от кого ничего не ждут.
Никто толком не знает, что творится за пределами города. Говорят, что Сибирь и юг России заняты врагами нового режима, что в театральной и литературной жизни Москвы творится что-то неслыханное. Но ничего точно не известно. Неизвестно даже, жив ли Вячеслав Иванов и продолжает ли писать Брюсов. Теперь все это так далеко!
В Петербурге Горький, достигший вершин власти, увеличивает число учреждений, чтобы поднять культурный уровень масс. Мгновенно рождаются «Всемирная литература» – крупное издательство, издающее шедевры мировой литературы, – и «Пролеткульт» – школа пролетарской культуры, куда молодые поэты из рабочих приходят поучиться у старорежимных поэтов. На специальных курсах музейным экскурсоводам разъясняют связь между живописью Фра Анджелико и феодальным строем. В театрах толкуют Маркса директору, трагической актрисе, дворнику, суфлеру. Улицы заросли травой, дворцовый мрамор потускнел; нет ни экипажей, ни трамваев; Петербург, как Венеция, гулко звучит под ногами пешеходов.
Блок служит не только в Комиссии правительственных театров, где под руководством Каменевой готовит новый репертуар, но также и в Издательской комиссии при Наркомате просвещения. Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию противозаконной деятельности бывших министров закрылась, но рождаются другие органы, и они требуют его присутствия. Иногда он за один день участвует в пяти заседаниях. Все еще существует группа «Скифы», оставшаяся от левых эсеров, о которой тоже нельзя забывать. Он все еще «призван»!
Два документа, написанные почти в одно и то же время, дают нам представление о его душевном состоянии. Первый – ответ на анкету Сологуба: «Что сейчас делать?..» Блок отвечает на этот вопрос как художник; ему нечего сказать ни о снабжении, ни о пустующем престоле, ни о парламентаризме, ни о крестных ходах. Что сейчас делать художнику?
«Художнику надлежит знать, что той России, которая была, – нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия – умерли. Они могут еще вернуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас. Не забудьте, что Римская империя существовала еще около пятисот лет после рождения Христа. Но она только существовала, она раздувалась, гнила, тлела – уже мертвая.
2) Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу (злоба – великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба не достойна. Одно из лучших средств к этому – не забывать о социальном неравенстве, не унижая великого содержания этих двух малых слов ни „гуманизмом“, ни сентиментами, ни политической экономией, ни публицистикой. Знание о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное.
3) Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними».
Второй документ – прощальное письмо к Зинаиде Гиппиус, которая вместе с Мережковским уезжает в Париж.
«Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы – мне; больше, чем лирическое[41]41
З. Гиппиус посвятила Блоку стихотворение. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы – меня; я не обращаюсь поэтому к той „мертвой невинности“ которой в Вас не меньше, чем во мне.
„Роковая пустота“ есть и во мне и в Вас. Это – или нечто очень большое, и – тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, „декадентское“, – тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.
Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным проснулось главное.
В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго – оставалось только рубить.
Великий Октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напугает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.
Не знаю (или – знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало – могло быть во много раз больше.
Неужели Вы не знаете, что „России не будет“ так же, как не стало Рима – не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также – не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился?»
1919. Несмотря на холод и голод, жизнь кое-как устраивается. Все должны где-то служить, работать в учреждении, состоять на государственной службе. Сидеть дома означает лишиться пайка. Поэтому Блок не отказывается ни от какой «мобилизации», и каждый вечер у него неизбежные собрания, лекции, деловые встречи. Его отношения с людьми ограничены работой. Нужно выбирать классические пьесы, читать и готовить отзывы о пьесах современных, объяснять актерам отобранные вещи, обсуждать с руководством «Народных театров» пропагандистские произведения, присутствовать на репетициях и представлениях. Планы обширны, но мало что из них удается осуществить. Каменева не ладит с Андреевой – женой Горького, которая тоже работает в Репертуарной комиссии. Андреева хочет отнять Блока у своей соперницы и добивается его назначения директором Петербургского Большого Драматического театра. У него много работы, но никакой реальной власти, поскольку политкомиссар по театрам и Андреева имеют право вето. Тем не менее он добросовестно выполняет свою работу, а поначалу – даже с некоторым воодушевлением. Репертуар этого театра в основном классический: Шекспир, Мольер, Шиллер, исторические пьесы Мережковского, комедии Гольдони. Блок должен произносить речи, составлять репертуар на год вместе с комитетом, куда он входит, править новые переводы. В театре поставлены «Разбойники», «Отелло», «Синяя птица» и, как тогда шутили, «бывший» «Король Лир». Социальный заказ пока не давит с такой страшной силой на искусство, и в первые годы свобода в этой области еще довольно велика. Образованные, уже не очень молодые актеры Драматического театра горды и счастливы тем, что работают с Блоком. Но он не может посвятить все свое время театру, хотя это доставляет ему удовольствие: его ждет другая работа, и прежде всего – «Всемирная литература».
Горький, желавший перевести на русский язык шедевры мировой литературы, собрал для этого колоссального предприятия все «культурные силы». Откопали старые переводы, их подновили, переиздали переводы бабушки, Елизаветы Григорьевны Бекетовой, и Александры Андреевны под редакцией Блока, что дало ему возможность купить немного табака на черном рынке. Хотя поговаривали об отмене денег, государство все еще оплачивало работу сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Вина больше не купишь – только самогон; его гонят тайно. В помещении «Всемирной литературы» несколько раз в неделю академики, профессора, поэты, писатели, люди без профессии, ищущие работы, собирались вокруг Горького, пили «чай» – безвкусный настой из сушеной моркови, без сахара: зачастую это единственное горячее питье за весь день. Истертая, поношенная одежда становится все причудливее и сводится до минимума: часто под шубой нет ни рубашки, ни пиджака; ничего, кроме гимнастерки, перешитой из старого одеяла. Блок упорно продолжает ходить свежевыбритым, всегда в белом свитере с высоким воротником, и упорно не желает говорить о бытовых тяготах.
И все же эта жизнь тяжела. Месяцами термометр показывает минус двадцать. Каждый день нужно поднимать из подвала тяжелые поленья; три часа он тратит на дорогу от Пряжки до центра города и обратно, глотает все ту же ячневую или пшенную кашу без сливочного и подсолнечного масла, часто даже без соли.
Пайки скудные: сто пятьдесят граммов сырого хлеба с отрубями, немного воблы, твердой, как камень, несколько селедок, иногда немного сала и табака. Блок продает книги, мебель, дорогие вещи, которые у него еще остались. Изнуренный этой жизнью, худой, печальный, молчаливый, он изо всех сил борется, чтобы не сдаться, не опуститься, чтобы не заболеть. Он читает лекции о Гейне, которого переводит для «Всемирной литературы», и принимает предложение сотрудничать в «Исторических картинах» – еще одно начинание Горького, призванное поднять культурный уровень масс. Нужно было написать исторические сцены на заданные темы, которые ставили в народных театрах. Блок написал историческую картину «Рамзес» из жизни Древнего Египта.
Выходит дополнение к третьей книге его стихов «Седое утро», а потом сборник ранних стихов. И так как это приносит деньги, Блок издает все, что ему удается отыскать: статьи, пьесы…
После двух лет нищеты и одиночества, проведенных в Москве, в перенаселенной квартире, Белый приезжает в Петербург, надеясь, что здесь будет полегче. Его жена осталась за границей. Несчастный, изнуренный, изголодавшийся, он ищет, куда бы ему забиться, ищет немного тепла и еды. Но он не создан для жизни среди волков, он никогда не умел устраиваться и не знает, что предпринять, чтобы достать дополнительный паек. Он сидит в выстуженной комнате, неподвижный, скрючившийся под шубой, в глубоком отчаянии. Чернила замерзают в чернильнице, и он не может писать; он пытается починить единственные брюки и, чтобы не заболеть тифом, сражается со вшами. В 1921 году, уже за границей, он напишет жене о том, как в те годы смерть заглядывала ему в глаза, и казалось, что снег погребет их всех и отделит от мира, от всего, чем они дорожили[42]42
Неизданное письмо. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].
Во время встречи Белого с Блоком родилась идея основать Вольно-Философскую ассоциацию. На торжественном открытии этой ассоциации, где обсуждались религиозные, философские, художественные вопросы, Блок выступил с докладом «Конец гуманизма». Впрочем, ассоциация просуществовала недолго. С самого начала на нее смотрели косо; в феврале 1919 года ее члены были арестованы, потом выпущены, но надзор становился все более строгим, в конце концов эту ассоциацию признали не соответствующей марксистскому учению и в 1921 году закрыли.
Товарищества, содружества, союзы, комиссии рождались, умирали, и их место немедленно занимали другие, в которых Блок должен был выступать в качестве председателя, заместителя, почетного члена. Находясь среди акмеистов, совершенно ему чуждых молодых людей, он испытывает неловкость, однако не может отказаться возглавить «Союз поэтов». Но после нескольких обсуждений он с радостью уступает это место Гумилеву. Тот, пользуясь своим влиянием на молодых поэтов, вел себя с нарочитой властностью, самоуверенностью, что стало причиной многих трудностей в отношениях не только с Блоком, но и с властями, и с Горьким во «Всемирной литературе». Белый и несколько друзей из группы «Скифы» задумали основать журнал и предлагают Блоку возглавить его. Он соглашается и в течение двух лет будет одним из редакторов «Записок мечтателей» – последнего свободного журнала, запрещенного в 1921 году.
В Петербурге открылись два клуба, Дом искусств и Дом литераторов, и все учреждения, имеющие отношение к искусству и литературе, таким образом, централизованы. В этих Домах образованы «коммуны», где живут художники и писатели; открываются школы поэзии, перевода, кружки по истории литературы. Работают библиотеки, рабочие комнаты, залы для собраний и даже столовые, где подавали все ту же кашу. И Блок – член совета этих Домов – должен тратить на них еще больше времени!
Квартиры отбирают; каждому, а нередко и на семейную пару, полагается по одной комнате. После смерти генерала Кублицкого в январе 1920 года Блок переезжает в квартиру, где живут его мать с теткой, в том же доме, но двумя этажами ниже. Сюда легче таскать дрова, но отношения между Любовью Дмитриевной и ее свекровью все ухудшаются, часто вспыхивают неприятные сцены, от которых Блок очень страдает. Публике из артистического кафе наскучило слушать каждый вечер «Двенадцать», и Любови Дмитриевне пришлось принять приглашение в Народный театр. Эта молодая женщина, привыкшая к вольной жизни, избалованная поклонением, без всяких жалоб приспосабливается к трудному и утомительному быту: уборка, стряпня, стирка, поиски еды, ежедневные представления на другом конце города, откуда приходится возвращаться пешком, голод, холод не в силах поколебать ее стойкости. Она продает на рынке или меняет все, что может отыскать, на мерзлую картошку. С мешком за плечами она возвращается из театрального кооператива, принося с собой муку, соль, керосин. Ни электричество, ни телефон не работают, никаких средств связи больше не существует. Все лошади съедены. С огромным трудом после многочисленных ходатайств и долгих поисков удается найти одну клячу, чтобы отвезти на кладбище тело генерала Кублицкого. Эта изматывающая, отупляющая жизнь, которую приходится вести Любови Дмитриевне, причиняет Блоку дополнительные страдания. Чтобы раздобыть немного денег, он продает даже книги. Он помогает ей чем только может. В непроглядной и холодной мгле, под порывами колючего ветра, он тащится в кооператив, впрягшись в детские санки. Вдоль длинного, замерзшего, пустынного канала по темному городу, под снегопадом, он едва передвигает ноги. Пустые лавки, разбитые оконные стекла, дома, открытые всем ветрам, с которых давно сорваны и сожжены двери, дворы, полные испражнений из прорвавшей канализации, – вот его путь через мертвый город.








