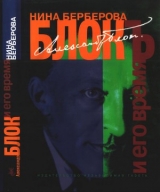
Текст книги "Александр Блок и его время"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой, иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,
Тогда – остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
……………………………
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле,
Чем quantum satis! [43]43
В полную меру (лат.). – Примеч. ред.
[Закрыть] Бранда воли,
А мир – прекрасен, как всегда.
Это отрывок из третьей главы «Возмездия» – поэмы, которую у Блока нет времени окончить. По ночам, проходя по городу, он вспоминал о ней, но как только входил в свой дом, на него наваливались другие заботы. То его одолевает налоговая инспекция, то домком ни с того ни с сего вздумал его выселить. Потом выдумали и принудили его к дикому ночному дежурству: вместе с другими жильцами он должен охранять улицу и двор. В довершение ко всему нет ни свечей, ни керосина, ни света.
В бывшей комнате отчима за ширмами он устроил себе постель, поставил письменный стол, книжный шкаф – впрочем, большая часть книг продана или обменена на скудную снедь; посреди комнаты возле чугунной печки стоит обеденный стол. Из окна ничего не видно: ни заводских труб, ни кораблей, ни мачт, ни облаков. В свободные вечера Любовь Дмитриевна чинит старую одежду, Блок читает и правит театральные пьесы для красноармейцев, которые поступают в репертуарную комиссию. И часто по утрам он очень рано отправляется в театр – не на заседание какой-нибудь комиссии, а чтобы разбирать вместе с артистами и рабочими дрова, которые Андреева только что выхлопотала для отопления театра.
Глава XXIII
Пришла весна, и белые ночи высветили срубленные деревья, рухнувшие дома, уже зарастающие травой проспекты. Дворцы опустели, бронзовые решетки сорваны, посольства обезлюдели, министерства эвакуированы в Москву. Все окутано смертью, величественной и прекрасной. С первыми лучами солнца люди вышли на улицы; они умели держаться с достоинством, несмотря на оборванную одежду, напоминающую карнавальные костюмы, и обувь без подметок, – жалкие, но не смешные. Обросшие люди в сюртуках, болтавшихся на исхудавшем теле, с голодными и горящими глазами, влачились как тени, с книгами под мышкой, из Эрмитажа в Академию, из Дома Искусств – в Вольно-Философскую ассоциацию. Некоторые, как Гумилев, по вечерам переодевались во фраки: им больше нечего было надеть. Пяст носит клетчатые брюки, возможно, купленные его отцом на Парижской всемирной выставке; египтолог Шилейко, в сорок пять лет выглядевший на шестьдесят пять, никогда не снимает пальто, даже в самую сильную жару, а Волынский – специалист по итальянскому Возрождению – спит в галошах, опасаясь, что их украдут. Ничто не нарушало величия этих мест и этих теней, и изголодавшаяся молодежь, которая тянулась за ними в университетские залы, в Эрмитаж, на концерты, на улицу, столь же достойна своей эпохи.
Вот уже десять лет длится борьба акмеизма против символизма, и не прекращаются разногласия Гумилева и Блока. Блок не выносит тона, избранного главой акмеизма, и напыщенности его манер, скопированной у Брюсова. Гумилев подражает Мэтру и, высокомерный, требует от младших – чуть моложе него самого – не любви, но почитания. Несмотря на эти странности, он – благородный и смелый человек.
Блок не испытывает неприязни к Гумилеву, восхищаясь его талантом, но его раздражает акмеистское окружение. Он ненавидит эти вечера, устроенные Союзом поэтов, где в храмовой тишине нараспев читают стихи, спорят о достоинствах формы, с благоговейным обожанием вслушиваются в слова мэтра, изображающего из себя судию. Ему кажется, что от всего этого «несет Эредиа», и одна из его последних статей как раз и направлена против этих теорий, откуда изгнано всякое вдохновение; но статья эта так и не вышла, поскольку набор рассыпали по приказу властей: чисто литературная полемика отныне возбранялась.
Анна Ахматова, отошедшая в 1914 году от акмеистов, которым она принесла славу, – самая необычайная из петербургских женских теней. Ее нищета и огромная разноцветная шаль, в которую она могла укутаться с головой, стали легендарными. Она проходит
Она пишет стихи о гибнущем Петербурге – городе поэтов! Сологуб здесь, Белый и Ходасевич приехали сюда из Москвы, Кузмин, почти такой же нищий, как Пяст, с огромными глазами, плохо выбритый, с неизменным мешком за спиной. Но нет уже той «священной дружбы поэтов», о которой говорил Пушкин.
Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды.
Начиная с 1905 года у Блока не было соперников в поэзии. Никогда он не знал зависти и ненависти, но и потребности в дружеской близости тоже не испытывал. А сейчас – меньше чем когда бы то ни было. Этот «призванный» революцией поэт вечно окружен людьми, с которыми приходится разговаривать. А главное, он охвачен тревогой, грустью, отчаянием. Все меньше и меньше признаний появляется в его дневнике, и они становятся все сдержаннее в этом 1920 году: из-за частых обысков вести дневник опасно. И все же некоторые записи знаменательны:
«Искусство несовместимо с властью».
* * *
«Изозлился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, Господи».
* * *
«Утренние, до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели.
Научиться читать „Двенадцать“. Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда…»
* * *
«Следующий сборник стихов, если будет: „Черный день“».
* * *
«…Вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в другую сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы».
В записных книжках попадаются и более выразительные высказывания:
«Как безвыходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко – на солнце и жить совершенно иначе».
* * *
«Тоска. Когда же это кончится? Проснуться пора!»
Его признанный биограф – тетка Бекетова – лишь вскользь говорит об этих последних годах его жизни. Впрочем, она признает, что он продолжал работать.
«Он работал только из чувства долга, ему казалось, что революционные огни погасли, что кругом было серо и уныло. Александр Александрович был глубоко разочарован и замкнулся в своей печали».
Все утомляет его, все кажется тщетным, но самая докучная обязанность – собрания бесчисленных комитетов, где часами происходят бесконечные словопрения, и ему тоже приходится говорить, хотя все это совершенно бесплодно. Блок устраивает два литературных вечера. На первом он произносит речь в память о Владимире Соловьеве по случаю двадцатилетия его кончины, на другом читает две последние главы из «Возмездия», но это не приносит ему радости.
Отъезд! Случайно брошенное слово теперь не сходит с уст. Мысль об отъезде все сильнее овладевает умами, и внезапно Блок с испугом ловит себя на том, что и сам начинает подумывать о такой возможности. Куда ехать и как это сделать? Навсегда или только на время, чтобы можно было отоспаться и забыть этот вечный страх, голод, холод, лишения, короче – прийти в себя. Ахматова решила остаться. Гумилев отмалчивается, его личная жизнь покрыта тайной. Сологуб рассчитывает уехать навсегда. Белый и Ремизов, хотя в этом не признаются, уже несколько месяцев пытаются раздобыть паспорта. Даже Горький с помощью врача добивается визы, чтобы уехать в Германию. Блок не помышляет об эмиграции, но мечтает о длительном отдыхе в Финляндии. Он ждет, колеблется и наконец решает подать прошение об отъезде.
В этом отрезанном от внешнего мира городе рождаются неотвязные мысли. Словно в волшебной сказке, которая ненароком может сбыться, люди грезят о Европе, где уже окончилась война. Она по-прежнему существует, там можно жить, писать, там даже подметают улицы. Изредка начинают ходить поезда, и Блоку предлагают прочитать в Москве несколько лекций и провести литературные вечера. В апреле 1920 года он едет в Москву с тайной надеждой повидаться со Станиславским и снова поговорить о «Розе и кресте». Как в 1904 году в первый его приезд, Москва встречает его рукоплесканиями. Но на сей раз ему приходится выступать уже не в узком и замкнутом кругу интеллигенции. На его выступления собирается по две тысячи человек, каждый вечер зал переполнен. Все слушают, аплодируют, упиваются музыкой его стихов, потрясены их трагической ясностью. У выхода его ждет толпа. Его приветствуют, провожают, и люди долго будут помнить о «блоковских днях» в Москве.
«Какие прекрасные люди в Москве!»
Здесь тоже холодно, голодно, но присутствие в Кремле Ленина, Троцкого, Каменева, лихорадочная политическая жизнь придают городу необычайное оживление. Москва, кишащая и переполненная народом, куда каждый день стекаются всё новые жители, – зеркало новой России. Брюсов вступает в коммунистическую партию. Вячеслав Иванов нигде не показывается и готовится к отъезду. Прежние кумиры сошли со сцены, футуристы во главе с Бобровым и Маяковским ликуют, отдавая свою поэзию и энергию на службу пропаганды. В Кремле Каменев с супругой принимают Блока не слишком радушно. Хотя его ценят за прошлые заслуги, все же понимают, что в будущем от него ждать нечего. Впервые он слышит бытовавшее тогда выражение: использовать людей, выжимать их как лимон. Для Кремля Блок уже «выжат». В этом духе высказался Бобров[46]46
Большинство мемуаристов приписывают эти слова А. Ф. Струве. – Примеч. ред.
[Закрыть] на одном из собраний в присутствии самого Блока:
«Блок мертвец, его больше нет!»
Но восторженная толпа считает иначе: его провожают до вокзала, обступают, забрасывают цветами. Ему кричат: «Возвращайтесь! Мы любим вас! Вы наш!»
После бурлящей, шумной московской жизни томительное затишье, молчание Петербурга, его израненная красота производят на Блока тягостное впечатление. Он привез с собой немного денег, но потерял всякую надежду увидеть свою пьесу на сцене. Ею заинтересовались многие театры, но ответ везде один: надо подождать, что будет дальше.
Глава XXIV
Первые серьезные приступы смертельной болезни появились в 1918 году. Он чувствует боли в спине; когда он таскает дрова, у него болит сердце. Начиная с 1919 года в письмах к близким он жалуется на цингу и фурункулез, потом на одышку, объясняя ее болезнью сердца, но причина не только в его физическом состоянии, она глубже. Он жалуется на глухоту, хотя хорошо слышит; он говорит о другой глухоте, той, что мешает ему слушать прежде никогда не стихавшую музыку: еще в 1918 году она звучала в его стихах.
«Мне нечем дышать, я задыхаюсь. Неужели я болен?»
Его тяготят отношения с людьми, и дом его печален. Ночью он не ложится спать, а сидит в кресле, забросив все дела; днем бродит по квартире, по улицам, мужественно борясь с болезнью. Последний год был ужасен: он все видел, все понимал, и у него не осталось никаких иллюзий. Это третий год возмездия.
«Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит. Я думал о русской санатории около Москвы, но, кажется, выздороветь можно только в настоящей. То же думает и доктор. Итак, „здравствуем и посейчас“ сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка»[47]47
Из письма к критику (имеется в виду письмо Блока к Чуковскому от 26 мая 1921 года). – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].
Мучительно ясен разговор с другом, упрекавшим его за стихи 1918 года:
Наступает зима 1920–1921 года. Снова нужно таскать дрова из подвала, ежедневно участвовать в многословных и совершенно бесцельных прениях. Нет бумаги, чтобы издавать книги, нет декораций и костюмов, чтобы ставить спектакли. Культурная жизнь все больше зависит от людей ограниченных, посредственных, открыто ведущих компанию, уже получившую название: «борьба за снижение культуры»[49]49
Термин ввел глава этого движения М. Левидов. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].
Его состояние ухудшается, врачи говорят об эндокардите, но его нравственные страдания столь ужасны, что иногда ему кажется: он умирает не от болезни, а от тоски. Нужно срочно уезжать; Любовь Дмитриевна напрасно обивает пороги учреждений – все движется слишком медленно!
В феврале 1921 года он участвует в вечере, посвященном годовщине смерти Пушкина. Этот вечер будет проходить трижды, слишком много людей не могли попасть в зал Дома писателей. Услышав свое имя, Блок поднимается, худой, с красноватым лицом, с седеющими волосами, с тяжелым и погасшим взглядом, все в том же белом свитере, в черном пиджаке, в валенках. Он говорит, не вынимая рук из карманов. В публике есть его единомышленники, но кое-кто пришел специально, чтобы уличить его в крамоле; есть представители власти, чекисты и молодежь – будущие строители новой эпохи. Блок говорит:
«Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни… Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение… Пушкин умер. Но „для мальчиков не умирают Позы“, – сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.
Пора, мой друг, пора!
покоя сердце просит…
Это – предсмертные вздохи Пушкина и также – вздохи культуры пушкинской поры.
Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.
Мы умираем, а искусство остается».
Так говорил Блок за полгода до смерти, и его слушатели были не только свидетелями блестящего литературного выступления, но и страшной драмы, которая разворачивалась у них на глазах. Через месяц в Большом Драматическом театре объявлен вечер его поэзии. Магия его стихов покоряет публику; его слушают с замиранием сердца, ему рукоплещут, он окружен всеобщей любовью и обожанием. Мало кто из поэтов знал такой успех.
Бесстрастное лицо, глаза устремлены выше последних лож, приглушенный голос. Его просят прочесть стихи о России. «Это все – о России», – отвечает он.
Лицо его хранит отпечаток суровой красоты:
Я и сам ведь не такой – не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Он читает «Музу», «На поле Куликовом», «Стихи о Прекрасной Даме», но словно забывает о «Двенадцати», и когда просят прочесть поэму, его лицо искажает мучительная судорога.
Его болезнь усиливается, врачи прекрасно понимают природу психического расстройства, с которым отчаянно борется Блок. «Я оглох», – твердит он. Он больше не слышит «музыки революции», он уже не слышит никакой музыки. Кто-то другой, возможно, сказал бы: «Я больше не чувствую красоты, у меня иссякла вера».
В мае 1921 года он в последний раз едет в Москву; но он очень болен, ему трудно ходить и дышать, и он счастлив, когда после многочисленных ходатайств добивается разрешения взять такси, чтобы доехать до вокзала. Он почти ни с кем не видится, литературные вечера его утомляют. У него болит нога, и он вынужден ходить с палкой. Пальцы у него забинтованы. Однажды, перечитывая стихи «Как страшно мертвецу среди людей», он сказал: «Это обо мне. А я и не знал!»
Кажется, что его больше ничто не трогает, все ему безразлично, он словно все время дремлет. Однажды его находят уснувшим на бульварной скамье; в другой раз с побледневшим лицом и неподвижным взглядом, неузнаваемый, он застывает посреди комнаты. Ему с трудом удается выйти из этого сомнамбулического состояния.
Вернувшись из Москвы, он уже не выходит из комнаты. Страдания его становятся невыносимыми; он не может лечь, лежа он задыхается. Когда боль стихает, длинные худые пальцы перелистывают рукопись «Возмездия», которую он правит и мечтает закончить. Этой весной он пишет последние страницы прозы «Ни сны, ни явь».
«Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень.
Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой…
Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой.
Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:
– Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами – у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут – я здесь».
Боли уже не прекращаются. К нему никого не пускают, конец близок.
То лето 1921 года стало черной страницей в истории русской поэзии. Оно незабываемо для всех, переживших его. Сологубу, ожидавшему заграничной визы, отказали. От отчаяния его жена бросилась в Неву, и лишь следующей весной нашли ее тело.
Горький готовится к отъезду. Ремизов с женой, выправив наконец все документы, тоже уезжают. Белому пообещали выдать паспорт. Гумилев арестован 3 августа и в конце месяца расстрелян. Внезапно все почувствовали себя на краю бездны, стремительно поглощавшей все прекрасное, великое, дорогое, незаменимое. С необычайной остротой мы переживали и наблюдали конец целой эпохи, и зрелище это вызывало священный трепет, было исполнено щемящей тоски и зловещего смысла.
Последние дни Блока были ужасны – он кричал днем и ночью. Не приходя в сознание, он умер 7 августа 1921 года. Накануне пришел его заграничный паспорт.
В ту пору газеты не выходили, и только одно объявление в траурной рамке, приклеенное к дверям Дома писателей, возвестило о смерти поэта Александра Блока.
В день его смерти в шесть часов вечера отслужили короткую заупокойную службу по православному обряду. Нас было человек десять, собравшихся вокруг его смертного ложа. С сильно поредевшими волосами, с темной бородкой и поседевшими висками, худой, с лицом, изможденным страданием, он был неузнаваем. В комнате, где не осталось мебели, плакали Любовь Дмитриевна и Александра Андреевна.
Три дня спустя в чудесный солнечный день Петербург прощался с поэтом. Больше двухсот человек шли в похоронной процессии. Белый, Пяст и другие друзья несли на Смоленское кладбище открытый гроб. Надгробных речей не было.
У всех было ощущение, что вместе с его смертью уходит в прошлое этот город и целый мир. Молодые люди, окружившие гроб, понимали, что для них наступает новая эпоха. Как сам Блок и его современники были детьми «страшных лет России», так мы стали детьми Александра Блока. Через несколько месяцев уже ничто не напоминало об этой поре русской жизни. Одни уехали, других выслали, третьи были уничтожены или скрывались. Приближалась новая эра.
Скоро родится новый город с высотными домами, рабочими кварталами, огромными стадионами, парками культуры, памятниками героям революции, город, где совсем другие силы будут бороться за другие идеалы, город, которому суждено было сменить даже имя.









