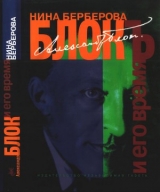
Текст книги "Александр Блок и его время"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Глава IXI
Третья книга стихотворений Блока – лучшее, что было создано в русской поэзии, величайшее, что появлялось в ней после смерти Тютчева в 1873 году. Никогда еще поэт не достигал такой глубины мысли, такого совершенства формы, такой искренней интонации. Его прямой и благородный дар, его бурный лирический гений, его жажда истины творят шедевры.
Отвращение и любовь к жизни, неприязнь к людям и тяга к ним, тщета искусства и необходимость его, все смешалось, все причиняло боль, и страдания его были тяжки. В магии его стихов есть какой-то яд; они неотступно преследуют сильных и сокрушают слабых. Блок не сходит с пути, проложенного его эпохой; и в конце становится все более очевидно, что все на свете – лишь грязь, тлен и боль.
Вместе с культом Прекрасной Дамы в Блоке умирает вера. Быть может, он сохранил еще крупицу веры, но ему ненавистна всякая мистика. Во второй книге уже звучат ноты, подводящие нас к его поздним стихам. Он делает первый шаг к ясности, открывает реальную жизнь и погружается в полную безысходность.
Но это всего лишь шаг, слабая попытка. Остается зыбкость, романтический покров еще не сорван, и там, где голос Блока свободен от всякой искусственности, мысль и стиль еще не вполне совершенны.
Теперь все изменилось. Дева Радужных Ворот, Незнакомка из сомнительных ресторанов – все это осталось в прошлом. Он знает, что город – призрачный город «Ночной фиалки» с его набережными, закованными в гранит, царем и террористами – не более чем мираж; и вся страна, как и город, тоже призрачна, да и сам он с его отчаянием, тоской, мечтами, болезнями – всего лишь призрак, один из последних, быть может, последний призрак этого отрезка русской истории.
Ощущение неразрывной и неотвратимой связи с мировыми событиями и судьбой страны ему не внове. Блок уже переживал его в эпоху символизма – это мирочувствие, этот чудесный дар, однажды врученный Белым! Но тогда во всем дышала гармония, единство. Землетрясение на Филиппинах, пурпурные облака в шахматовском небе, автомобиль, стремительно мчащийся по петербургским улицам, танго, звучавшее в Париже, – все сливалось воедино и обладало неповторимым значением, внушало ужас и восторг. Из этой эпохи Блок навсегда вынес тягу к изнанке мира, желание заглянуть за фасад вещей.
Теперь его темой стала тема отчизны и эпохи. Над ним тяготеют законы пространства и времени.
Он далек от Вячеслава Иванова, увязшего в утонченных извивах «символистской мысли»; далек и от Белого, полностью поглощенного антропософией немецкого профессора Штейнера. Белый пытается создать новую философию из антропософии, идей Гете и Соловьева, музыки Бетховена и Вагнера и даже эвритмических танцев. Молодые поэты тоже бесконечно ему чужды – все эти акмеисты и футуристы, движимые неукротимой страстью к упрощению. Первые хотят вернуть словам их первоначальный смысл и для этого требуют образов вместо рассуждений, вторые – прямоты, мужских и зычных голосов, простой и здравой мысли. Далек он и от Брюсова, заплутавшего в тонкостях формы, и Мережковского, ощущающего себя «над схваткой».
Россия заняла место Девы и проститутки, эта смиренная и пьяная, презренная и несмотря ни на что боготворимая Россия, чьим сыном он был, чью судьбу он призван разделить. Она – «родная Галилея» для него – «невоскресшего Христа». Галилея или поле Куликово, какая разница! Она его поглотила, сожрала. Со смесью фатализма, ужаса и сладострастия он отдается ей, растворяется в ней. С нею «и невозможное возможно»; они будут вместе до смерти, навеки связанные бесконечной грустью, разделившие одну судьбу:
О бедная моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?
На какой-то миг у него мелькает мысль о возможном расставании:
Не пора ли расставаться?
Но он знает, что никогда не решится на это, ибо что же тогда останется?
И опять – коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец —
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна… Что ж, конец?
Нет… еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе…
Есть только она одна, но ему не удается уловить ее лик. В 1913 году он видит ее уже окруженную деревянными крестами. Кто она? Заводы дымят, из смрадных трущоб тянет вонью, крытые соломой деревни пылают. Он знает, что все это исчезнет, на смену придет новое. Но что это будет? Новый мир? Эта жизнь покажется сновидением, как сегодня кажется сном татарское нашествие. Какая роль отведена ему? Он ничего не знает. Ныне он с нею один на один.
Трудно представить себе более полное одиночество! Без друзей – у него нет ничего общего с «писательской братией», соседями по литературному словарю XX века, – без жены, ибо его настоящая жена, связанная с ним роковыми узами, упорно прячет от него свое лицо. Он пытается разглядеть таинственные черты: не отмечены ли они божественной печатью страдания? Или это всего лишь страшный оскал гнусного животного? Здоровье его пошатнулось, он сник душой, он сам себя не узнает:
Да и сам я не такой, не прежний —
Недоступный, чистый, гордый, злой,
Я смотрю верней и безнадежней
На простой и скучный путь земной.
Пока жизнь его не сокрушит, он останется гордым и чистым, но предстоит жестокая борьба.
В поэзии Блока последовательно развивается тема жизни в любви. Он проделал долгий путь: от религиозного лиризма «Стихов о Прекрасной Даме» до отголосков уличных песен в его поздних произведениях, от первого учителя Владимира Соловьева до спутника его последних лет Аполлона Григорьева. Женские образы отражают разные стороны его любовного опыта. Юноша, преклонявшийся перед Вечной Женственностью, стал через десять лет мужчиной, предающимся неистовству всепоглощающей страсти. Больше нет ни экстаза, ни лихорадки, лишь сердечные бури, необузданные порывы, тяжелое и безысходное пьянство, душевный надрыв и сознание собственного недостоинства:
Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.
Что ведет Блока от «идеала Мадонны к идеалу содомскому»[38]38
Ф. Достоевский. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть]? Жажда бесконечности, неизведанных и острых ощущений, абсолюта. Его ведет пьянящая истина: душа бессмертна и не может довольствоваться временными и ограниченными радостями. Душа, отравленная бесчисленными желаниями, знает, что только свершение этих желаний способно утолить жажду бесконечности. Перед лицом этой жажды, этого ожидания невозможного, будничная жизнь кажется тусклой и несносной.
Уже в 1908 году он предчувствует скорбную судьбу России. Его интересует не политика, а как сохранить бессмертную душу его страны, и будущее, в котором он прозревает ожесточенную борьбу во спасение вечных частиц этой души. Он берется за эту тему не как мыслитель, вооруженный умозрительными схемами, но как поэт – чувствующий, страдающий и любящий. Россия – новое воплощение Вечной Женственности. Сначала он видит ее «вечно ясной», затем ее черты становятся дикими, искаженными страстью и страданием, прекрасными, и странно напоминают ему «Фаину» и «Кармен». Вскоре он заговорил о «роковой стране», о ее «пьяном голосе», о ее «разбойной красе». И он подходит к «Двенадцати». На эту поэму его вдохновляют не политические убеждения, но дух народного мятежа, который он так остро почувствовал. Блок должен был решить: «с Богом» ли этот мятеж или «против Бога»? Он, всегда готовый «растоптать самое святое», смеявшийся над «куцей конституцией», ненавидевший «барыню в каракуле», приветствовал события 1905 и 1917 годов. «Ландшафт его души» состоит из ветра, снежных бурь, диких далей. Уже давно носит он в себе «скуку смертную»[39]39
«Двенадцать», гл. 8. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].
Блок создал новый, неповторимый стиль. Его метафоры несравненно прекрасны, а его метафорические неологизмы – бесподобно смелы. Он сочленяет цепочки метафор; они перетекают одна в другую, сливаются и становятся метафорической темой – поэтической реальностью.
Эта развернутая метафора иногда заканчивается катахрезой (не связанной с первоначальной метафорой). Не принятая в классической поэзии, катахреза сильно обогатила поэзию романтическую. Не меньше чем парадоксальные истины, Блок любит и часто прибегает к диссонансам.
Но главная особенность его поэтики состоит в том, что в каждом стихотворении есть музыкальная точка отсчета, которую он понимает как гармонию звуков; ради нее он не боится жертвовать словами, лишь бы сохранить дорогое ему звучание.
Эту поэзию продолжают называть символической, хотя в ней нет ни одного традиционного символа. Множество мелких тем, вплетенных в главную тему, образуют сложное целое. Это целое часто граничит с запредельным, и символы, если они существуют, становятся принадлежностью фона, привносят предчувствие или привкус другой реальности, в которой поэт чувствует себя так же свободно, как в первой.
Со времен Ломоносова (1711–1765) в русской поэзии существуют особые размеры: шестистопный ямб (он соответствует александрийскому стиху), пятистопный и четырехстопный ямб (самый распространенный) и т. д. Поэты XIX века следовали почти исключительно правилам силлабо-тонического стихосложения. Брюсов, Гиппиус, Сологуб первыми расшатали эти традиционные размеры. Белый и Блок с большой виртуозностью создавали новые размеры: с одной стороны, они разработали ямб, доведя его до высшего совершенства; с другой стороны – разрушили тот же классический ямб, прибавив к нему паузы, пеоны, вводя в него спондей. Из этих бесчисленных сочетаний выросло все разнообразие современных размеров.
В третьей книге Блок в известной мере возвращается к классическим формам и рифмам. Здесь он тоже работает в двух направлениях: доводит классическую рифму до предельной изощренности, но вместе с тем, порвав с традицией, смело вводит в русскую поэзию обильные ассонансы. Его стилистические возможности столь неограниченны, что, вполне освоив тот или иной троп, он тотчас же стремится его разрушить.
Анна Ахматова и Маяковский – каждый по-своему – обогатили свое творчество благодаря этому разрушению привычных размеров, рифмы и всей прежней просодии. Блок необычайно расширил словарь, и современный поэтический язык обязан ему своим несравненным богатством.
Глава XX
Война застигла Блока в Шахматове. Он встретил ее как новую нелепость и без того нелепой жизни. Он любил Германию, немецкие университеты, поэтов, музыкантов, философов; ему трудно понять, почему народы должны сражаться в угоду своим властителям. Самый тяжелый и позорный мир лучше, чем любая война. Любовь Дмитриевна сразу же выучилась на сестру милосердия и отправилась на фронт. Михаил Терещенко отказался от всякой литературной деятельности.
В ту первую военную зиму акмеизм пользуется растущим успехом. Многие участники «Цеха поэтов» несомненно талантливы, но само течение напоминает Блоку поэтические принципы Брюсова: от него исходит та же лабораторная затхлость. Лидер молодых поэтов Гумилев был для него не противником, а скорее чужаком – они не могли преодолеть взаимного непонимания. За исключением Анны Ахматовой, обладавшей истинным поэтическим талантом, и Осипа Мандельштама, редкостно одаренного и необычного поэта, питомцы Гумилева полностью лишены индивидуальности. Блок не приемлет этого течения, и еще более ему претит их нашумевший журнал «Аполлон», который кажется ему воплощением снобизма.
«В журнале „Аполлон“ 1913 года появились статьи Н. Гумилева и С. Городецкого о новом течении в поэзии; в обеих статьях говорилось о том, что символизм умер и на смену ему идет новое направление, которое должно явиться достойным преемником своего достойного отца…
Н. Гумилев пренебрег всем тем, что для русского дважды два – четыре. В частности, он не осведомился и о том, что литературное направление, которое по случайному совпадению носило то же греческое имя „символизм“, что и французское литературное направление, было неразрывно связано с вопросами религии, философии и общественности; к тому времени оно действительно „закончило круг своего развития“, но по причинам отнюдь не таким, какие рисовал себе Н. Гумилев.
Причины эти заключались в том, что писатели, соединившиеся под знаком „символизма“… были окружены толпой эпигонов, пытавшихся спустить на рынке драгоценную утварь и разменять ее на мелкую монету; с одной стороны, виднейшие деятели символизма, как В. Брюсов и его соратники, пытались вдвинуть философское и религиозное течение в какие-то школьные рамки; с другой – все назойливее врывалась улица… Спор, по существу, был уже закончен, храм „символизма“ опустел, сокровища его (отнюдь не „чисто литературные“) бережно унесли с собой немногие; они и разошлись молчаливо и печально по своим одиноким путям.
Тут-то и появились Гумилев и Городецкий, которые „на смену“ (?!) символизму принесли с собой новое направление: „акмеизм“… только, к сожалению, эта единственная, по-моему, дельная мысль в статье Гумилева была заимствована им у меня; более чем за два года до статей Гумилева и Городецкого мы с Вяч. Ивановым гадали о ближайшем будущем нашей литературы на страницах того же „Аполлона“; тогда я эту мысль и высказал».
Такова его отповедь молодым поэтам, впрочем, не слишком резкая. Но всякая полемика отступала перед магией его стихов, становилась бессмысленной. Кроме, быть может, Маяковского, называвшего Белого, Блока и Сологуба мертвецами, никто не избежал его влияния, и менее всех – молодые акмеисты. Временами Блок одобрял даже эту борьбу с символизмом:
«По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто „понимают символизм“ и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие. Но – слава Богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше».
Квартира на Пряжке опустела. Любовь Дмитриевна на фронте; многие друзья в отъезде. Петербург зловещий и мрачный. Записные книжки Блока пестрят грустными записями:
«Петербургу – finis».
«Жили-были муж и жена. Обоим жилось плохо. Наконец жена говорит мужу: „Невыносимо так жить. Ты сильнее меня. Если желаешь мне добра, ступай на улицу, найди веревочку, дерни за нее, чтобы перевернуть весь мир“».
Он начинает понимать, что «отличительное свойство этой войны – невеликость (невысокое). Она – просто огромная фабрика в ходу, и в этом ее роковой смысл».
Для него тягостно отсутствие Любови Дмитриевны, он постоянно думает о ней:
«У меня женщин не 100–200–300 (или больше?), а всего две: одна – Люба, другая – все остальные, и они – разные, и я – разный».
Однако чуть ли не ежедневно его приходит проведать Дельмас, и Петербург по-прежнему прекрасен:
«Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе и убедился, что Петербург, собственно, только в центре еврейско-немецкий; окраины – очень грандиозные и русские – и по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной. За Смольным[40]40
Бывший монастырь. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть] начинаются необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы, и буксиры с именами „Пророк“, „Воля“ режут большие волны, Нева синяя и широкая, ветер, радуга».
Исполняется пятьдесят лет со дня смерти Аполлона Григорьева, и Блок хочет воздать дань забытому поэту. С огромным воодушевлением он готовит полное собрание его сочинений, но поездка в Москву прерывает эту работу: Станиславский вызывает его в связи с возможной постановкой «Розы и креста» в Художественном театре. Но напрасно Германова и Гзовская борятся за роль Изоры; эта пьеса, не имеющая ничего общего с театральными взглядами Станиславского, никогда не будет поставлена.
С наступлением войны Москва сильно изменилась. Поговаривают о мобилизации сверстников Блока. Футуристы сочиняют патриотические вирши. В воздухе чувствуется удушье. Люди здесь гораздо лучше, чем в Петербурге, осведомлены о том, что замышляется в думских кулуарах, о нестабильности правительства, о потерях на фронте.
В июле 1916 Блока призывают в армию. Весь этот год он очень мало пишет – урывками работает над главами из «Возмездия», но главным образом прохлаждается, ожидая наступления грядущих событий. Что это за события? Каждый день газеты приносят множество противоречивых вестей, но не их он ждет. Сепаратный мир? Он не скрывает, что это – предел его мечтаний. Падение царского режима? Оно неизбежно, и хотя Блок ничего не делает, чтобы его приблизить, он искренне желает крушения дома Романовых. Победы и отступления армии ему безразличны, и когда его берут на фронт, ему кажется, что он, как все, стал винтиком военной машины.
Километрах в десяти от фронта он командует подразделением в две тысячи саперов. Эта жизнь, так непохожая на прежнюю, его не слишком тяготит. Десяток офицеров заняли замок, где они пьют, играют в шахматы, полдня скачут на лошадях, бранят дурную пищу, бездарность командования и отчаянно скучают. В этом глухом уголке Белоруссии, затерянном посреди болот и непроходимых чащоб, зима – холодная и непроглядная, весна – дождливая, а лето – жаркое. Доносится артиллерийская стрельба. Петербург далеко. Письма вечно запаздывают и никаких важных вестей не приносят. Любовь Дмитриевна получила приглашение в разъездную театральную труппу. Александру Андреевну поместили в лечебницу, она в тяжелом состоянии; отчима произвели в генералы, и он сражается в Галиции. Тянутся бесконечные колонны солдат: одни идут на фронт, другие возвращаются с передовой. Телеграф работает безостановочно; за перегородкой вокруг чадящей печки играют на мандолине. Днем адъютант Алексей Толстой, будущий автор «Петра I», останавливается в этом забытом Богом углу. Блок рад встрече, но в тот же вечер Толстой уезжает, и он остается один в снежной тьме, где кружат крылья старых ветряных мельниц.
В конце февраля 1917 года из Петербурга приходит телеграмма, извещающая о революции, отречении царя, создании Временного правительства, в котором Михаил Терещенко назначен на пост министра финансов. Обезумев от радости, полный надежд, Блок испрашивает отпуск и спешит в Петербург.
В городе царит праздник, мгновенно разносятся живительные, пьянящие вести. Война далеко. Впервые в жизни Блок, вечно страдавший от невыносимого одиночества, чувствует полное единение с окружающими. Бесценная и прочная связь соединяет его с народом. Он не знал этого народа, считал его таким далеким, а порой и боялся его. Ныне он делит его радости и надежды и чувствует себя готовым разделить его борьбу и страдания. Это уже другой народ – не пьяный шахматовский извозчик, колотивший жену и клявшийся поджечь господский дом; не бродяга, пивший воду из грязной канавы, не зверское и отупелое лицо прислуги. Это – крепкий, очнувшийся от сна, осознавший себя народ, который он всегда стремился узнать и полюбить, у которого он готов был просить прощения за всю свою прошлую жизнь. Сердце его бьется быстрее и сильнее, он ощущает прилив новых сил. На перекрестках, в забитых до отказа залах Зимнего он восхищается этим народом, который лузгает семечки и жадно вслушивается в речи ораторов. Как он далек теперь от Михаила Терещенко, ставшего министром финансов! Его ненависть к либералам стала еще сильнее, он голосует вместе с народом, а с социалистами связывает надежды на прекращение войны и наступление новой жизни.
Но очень скоро надежды рассеются, радость и пыл угаснут. Русские социалисты, как их французские и английские собратья, прежде всего хотят разгромить Германию. И Блок вновь один со своей жаждой мира, со своей внезапной тревогой и первым предчувствием катастрофы.
С пугающей быстротой распространяется разруха. Битком набитые поезда плохо обеспечивают перевозки; почта работает все хуже и хуже, снабжение становится все более ненадежным. Но как прекрасен город этой весной 1917 года! Кипящий жизнью, весь в красных знаменах, звенящий революционными песнями, хмельной от упований! По нему идут украшенные цветами грузовики с портретами Керенского, первого избранника русской революции.
«Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя – Петербург 17 года, Россия 17 года», – пишет он в мае, и через несколько дней: «Трагедия еще не началась». После Пинска он в растерянности, ход жизни нарушен. Среди нескольких предложенных ему занятий он выбрал пост редактора Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию противозаконной деятельности бывших министров.
Начинается новая жизнь, состоящая, как он позже скажет, из «заседаний планетарных масштабов». Комиссия заседает ежедневно; Блок ведет протоколы допросов бывших министров, заключенных в Петропавловской крепости. Часто он сопровождает судебных следователей – все они новые назначенцы, добровольно взявшиеся за эту работу. Они идут в камеры, где собраны отбросы прежнего режима, которые приводят его в замешательство, вызывают брезгливость и жалость. Эти узники – одни отталкивающие, другие смелые и решительные, а есть среди них и постаревшие светские львы, которые не в силах понять, что же произошло, – рождают в нем целый вихрь запутанных и мучительных чувств. В иные дни он готов потребовать смертной казни для всей этой старой гвардии, но иногда пишет:
«Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого нельзя судить; вспомни еще, что говорил в камере Климович и как он это говорил; как плакал старый Кафафов; как плакал на допросе Белецкий, что ему стыдно своих детей.
…Завтра я опять буду рассматривать этих людей. Я вижу их в горе и унижении, я не видел их – в „недосягаемости“, в „блеске власти“. К ним надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответственности».
С 1916 года, не считая статьи о Григорьеве и нескольких отрывков из «Возмездия», он очень мало написал. Утомительные военные обязанности, бивуачная жизнь, когда приходилось спать втроем, впятером в одной комнате, не оставляли времени для творчества. В Петербурге он вновь служит, и эта работа в Чрезвычайной следственной комиссии – лишь первая в череде навязанных ему обязанностей. И речи быть не может о том, чтобы вновь обрести былую свободу: бессонные ночи, привольные дни одни давали ему возможность писать. Он не жалуется, он знает, что так или иначе он должен служить этой революции, перед которой преклоняется.
Несомненно одно: вдруг явился революционный народ, сильный и решительный, готовый к действию. Этот народ дезертирует, братается с врагом, отказывается повиноваться приказам Керенского, плюет на союзников, берет штурмом поезда и возвращается домой. И что ему до всех этих Милюковых и их собратий Альберов Тома и других, разглагольствующих о чести и долге! С него довольно, народ больше не хочет сражаться, он устал, он хочет поделить помещичьи земли, захватить заводы и разом покончить с Церковью, дворцами и банками. Второе, что несомненно и необходимо, – это мир. Кажется, он возможен и даже близок. Эта чудовищная, страшная, бессмысленная, безобразная и тупая война может скоро кончиться.








