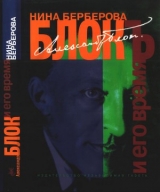
Текст книги "Александр Блок и его время"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Но его стихи пронизывает горькая ирония, безысходное отчаяние. Во время одиноких блужданий по городу он заходит в жалкие притоны – не как сторонний наблюдатель, а как собрат и собутыльник пьяниц и проституток.
Глава X
Мы все поем уныло,
От ямщика до лучшего поэта, —
писал Пушкин. А Гоголь как-то заметил: «Страшное слышится в судьбе наших поэтов».
В России век девятнадцатый стал веком трагических судеб, а двадцатый – веком самоубийств и преждевременных смертей. По словам Блока, «лицо Шиллера – последнее спокойное, уравновешенное лицо, какое мы вспоминаем в Европе». Но среди русских поэтов мы не встретим спокойных лиц. Прошлый век был к ним особенно жесток. Пушкин в тридцать семь, а Лермонтов – двадцати семи лет от роду пали на дуэлях, которые можно было предотвратить. Рылеев повешен. На пороге смерти в семидесятилетием возрасте Фет пытался распороть себе живот. Аполлон Григорьев, одаренный Фофанов гибнут от нищеты и пьянства. Жизнь Тютчева – непрерывная вереница страданий, и лишь после смерти Анненского стали известны терзавшие его душевные муки. О несбывшихся судьбах нечего и говорить: Россия – настоящая вотчина несбывшихся судеб!
Пьянство Блока разительно отличается от григорьевского. Аполлон Григорьев пил горькую, чтобы забыть свою бедность, убогую жизнь захудалого дворянина в жалкой дыре, в захолустье; забыть жену, преждевременно постаревшую от горя и забот, своих босоногих детей, постоянно грозившую ему долговую яму и нехватку чистых рубашек, мешавшую выходить из дому. Напившись до бесчувствия, он никого не узнавал, забывал обо всем.
У Блока же голова всегда оставалась ясной. Его разрушало не вино, а отчаяние. «Так сложилась жизнь»: тут и страсть к мимолетным связям, лихорадочные поиски чего-то недостающего, что он пытается обрести любой ценой, цыганские песни, пустота унылых лет, желание забыть мелкие измены Белого, Любу, посвятившую себя артистической карьере.
В его стихах, письмах, статьях, дневниках и даже фотографиях сквозит постоянно нарастающая, смертная, неотступная тоска, словно все двадцать четыре года его жизни были постоянным душевным надрывом.
Смолк его смех, постепенно исчезла и улыбка. Он все реже и реже вступает в разговоры и наконец совсем умолкает. Некогда румяное лицо пожелтело, потом приобрело землистый оттенок. Волосы из золотистых стали пепельными, начали выпадать. В его стихах догорели и зори, и «закаты». Остались одни туманы, снежные бури, вьюги… Пурпурный воздух превратился в лиловый, затем посерел, почернел. А внутренняя музыка, которая звучала в нем с самого детства, в которой слышалось ему дыхание вселенной, удаляется и наконец стихает…
Блоку двадцать шесть. Он завершил поэтический сборник «Нечаянная радость». Что за бледная, непрочная это радость, смешанная с горькой иронией! Не одни только «аргонавты» (их группа к тому времени уже распалась), но и все те, кто считали Блока «Поэтом Дамы», «Певцом Красоты», были разочарованы. Эти стихи могут, конечно, нравиться меньше его ранних стихов, могут казаться менее совершенными: но в том, что он сказал о них сам, заключена глубокая истина: без них он бы никогда не создал стихов третьего периода – самых прекрасных и великих.
Невзрачные шахматовские пейзажи (есть, оказывается, кое-что и кроме розовых зорь), грязные перекрестки Петербурга служат щемящим фоном этим стихам. Блок уже познал опьянение от вина. «Она» исчезла навсегда. Чертенята в зеленых «колпачках задом наперед» мельтешат вокруг, рифмы утратили изысканность, ритм становится капризным, – и вот в позеленевших зеркалах ресторанных залов, с незатейливыми обоями в голубых корабликах (было это где-то на островах или на той излюбленной ими барже?) он встречает новую женщину, Незнакомку, – на сей раз доступную, – которую каждый может видеть, любоваться ею, прикасаться, любить.
Цыганские скрипки провожают их до дверей. Там уже ждут сани с теплым пологом из медвежьей шкуры. Сухощавая, гибкая брюнетка с ослепительными зубами, удлиненными зелеными глазами, заслоняясь муфтой, рассыпая в ледяной ночи свой жаркий смех, улетает вместе с ним в снежной метели. Воздух пахнет шампанским и ее духами. Взмыленная лошадь несется по набережной Невы. Лживые клятвы, неложные поцелуи, слезы счастья – чего только там не было!
И я провел безумный год
У шлейфа черного…
Она – Наталья Волохова, актриса театра Мейерхольда. Больше года она владеет его сердцем. Она пробудила в нем неистовую страсть, он опьянен ею, он испытывает смешанное чувство радости, тревоги, восторга, полноты ощущений. Именно она – вдохновительница «Снежной маски» и цикла «Фаина». Меняется форма, слышатся новые ритмы, непривычные рифмы.
В тот год Блок пристрастился к театру – особенно к тому, где играла Волохова. Это увлечение не только не отдаляет его от Любы, – напротив, оно их сближает: больше чем когда-либо она мечтает стать актрисой. Мейерхольд, один из величайших театральных режиссеров[24]24
Он был арестован в 1939 году и расстрелян в Москве 2 февраля 1940 года. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть], в то время возглавлял труппу молодых артистов. Он приводит к Блоку своих друзей, все они от него без ума, просят написать что-нибудь для них. У труппы грандиозные планы. Прежний театр нравов ушел в прошлое, а вместе с ним – и прежний образ жизни. Нужно создать не только новый театр, но и научиться жить по-новому, отбросить условности, освободиться от приличий, забыть долг, обязанности, всю привычную жизнь: пусть каждый день будет праздником или пыткой!
Мейерхольд руководит труппой, а Вера Комиссаржевская – «Русская Дузе» – возглавляет театр.
У всех этих молодых людей, влюбленных в театр и свободу, твердо очерченные идеи и четко поставленные цели, они яростно сражаются за их торжество и готовы отдать жизнь ради их воплощения. Блоку, с его ненавистью к условностям, ко всему незыблемому, легче дышится среди них. Люба получила ангажемент, она выступает в провинции вместе с частью труппы. Мейерхольду хотелось бы, чтобы Блок создал что-нибудь созвучное их идеям. И Блок пишет «Балаганчик».
Театрик канатных плясунов, ярмарочный балаганчик, где печальный Пьеро ждет свою Коломбину, которую отнимает у него Арлекин. Прекрасная Дама здесь из картона, а небо, куда улетают счастливые влюбленные, – из папиросной бумаги. Из смертельной раны бедного покинутого любовника течет клюквенный сок, а «мистики», хором бормочущие свои теории, так и застывают, разинув рты, становятся плоскими и тают, когда Автор, которого буквально рвут на части, не знает что и придумать, чтобы объяснить публике происшедшее.
Те, кто понимали стихи второго периода, видели в «Балаганчике» не фарс, а важный и мучительный этап в творчестве Блока. Когда рассеиваются иллюзии, остается тревожная пустота, которая терзает его.
Каково же было негодование «аргонавтов», не без оснований узнавших себя в болтливых мистиках! Белый вне себя: он еще мог снести их прошлые шуточки по поводу Лапана и многого другого, но поклоннику Любови Дмитриевны и Мировой души нестерпимы насмешки Блока над Прекрасной Дамой из картона, небом из папиросной бумаги и двухмерными мистиками.
1906–1907 год. Бесконечная, запутанная череда ссор и примирений между Блоком и Белым. Встречи – почти всегда по настоянию Белого – были тягостными. Блок вполне владеет собой: холодный, вежливый, никогда не пытаясь уязвить, он слегка высокомерным тоном говорит любезности. Белый – нервный, задыхающийся, пылавший то любовью, то ненавистью, – вызывает его на дуэль, затем требует объяснений, чтобы простить или получить прощение. Он осознает свою полную ненужность в жизни Блока и временами становится совершенно несносным, навязывая свое присутствие; Блок терпит его из жалости, сочувствуя гению, который так и не сумел осуществиться, к тому же его обезоруживает искренность Белого, который винит себя во всех грехах, готов признать любую вину, никогда не упоминая о своих многочисленных достоинствах и заслугах.
Блок соглашается на эти встречи, но сам их не ищет. Однажды Белый назначает ему свидание в ресторане. Блок приходит вместе с Любовью Дмитриевной. Белый в восторге, все еще может получиться! Но через несколько дней обстановка опять накаляется. Посреди Невского проспекта Блок, погруженный в свои мысли, надменный, непроницаемый, проходит, не замечая его. На Белого это подействовало, как «удар по сердцу».
В другой раз они ночь напролет читают стихи. Меж ними царит полное согласие. Забыты, прокляты во веки веков Сергей Соловьев и «аргонавты». Белый думает совсем переехать в Петербург. Но поэма Блока «Ночная фиалка» все портит. «Нет, не то!» Кажется, прав Сергей: Блок все отвергает, порхает, как бабочка, затрагивает все темы, даже не понимая, что делает.
«Ну меня водить за нос – не будешь!» – раздраженно твердит Белый, слушая последние стихи Блока.
И вот – поставлен «Балаганчик», чуть ли не кукольное представление. «…Вместо души у А. А. разглядел я дыру», – пишет Белый в своих воспоминаниях. Ему хотелось навсегда бежать в Москву. Он потребовал у Любови Дмитриевны объяснений: она лишь посмеялась над его трагическим видом, горем и разочарованием. Он все не решался уехать. Ему явилась безумная мысль начать с Блоком литературную борьбу. В Москве, в брюсовских альманахах, он яростно критикует нового Блока; тот лишь невозмутимо улыбается в ответ. С удивительной откровенностью Белый говорит в своих воспоминаниях, как он всеми силами пытался развести Любовь Дмитриевну с мужем. Но ей все это уже было чуждо, не трогало ее: в ней пробудилось желание жить собственной жизнью, быть живой женщиной, а не символом.
«Я был близок к нему; я – не понял его; и все делал, чтоб боль его сделать острее; и присыпал к его ранам лишь соль…»
Блок никогда не повышал голоса; Белому чудилось, что он «снисходил», говоря с ним, и это раздражало его.
Расставание, затем новая встреча. Белый поражен тем, как Блок переменился внешне: глубже морщина на лбу, голос делается хриплым. Он пьет. Белый возмущается: «Да вы просто буржуи, схватившиеся за мещанский уклад!» На что Любовь Дмитриевна отвечает: «Зато у вас – Mania grandiosa!» Отныне Белый не выходит из дому без револьвера и черной полумаски в кармане. Блоку сообщают, что он хочет драться на дуэли, но тот не принимает его всерьез: «Просто Боря ужасно устал…»
Белый едет в Мюнхен; он проводит год за границей. Вернувшись в Москву, убеждается, что имя Блока по-прежнему у всех на устах, и все его язвительные, ядовитые нападки тут бессильны. Он собирает вокруг себя остатки «аргонавтов» и ухитряется натравить на Блока Брюсова: растущая слава Блока могла повредить Мэтру. Между тем Белый жадно прислушивается ко всему, что болтают о Блоке и Любе. До него доходят три печальных известия: Блок пьет, Блок страстно увлечен Натальей Волоховой, Блок по-прежнему пишет театральные пьесы, подобные «Балаганчику». У Белого выходит поэтический сборник «Пепел».
Он все уже перепробовал, чтобы добиться громкого и окончательного разрыва. Но ни его интриги, ни нападки, ни даже на редкость дерзкое письмо, посланное им по возвращении из-за границы, не помогли ему достичь этой цели. На сей раз встречи пожелал сам Блок. Последовало новое объяснение. Блок считал зачинщиком «неразберихи» между ними Сергея Соловьева, Белый во всем винил Любовь Дмитриевну. Блок предложил помириться и больше никого не вмешивать в их личные отношения; примирение было скреплено поездкой на «вечер искусства» в Киев. Счастливые, они вместе возвращаются в Петербург; Белый побаивается встречи с Любой, но все прошло успешно: его приняли просто и приветливо. И все же что-то изменилось несомненно. Люба уже не та: уверенная в себе, светская, она окружена поклонниками и с удовольствием говорит о своих успехах. И она, и Блок теперь «живут каждый своей особою жизнью». Вечера лишились прежнего тихого очарования, когда Белый, бывало, допоздна засиживался в кабинете у Блока или в столовой с Любой; они читали, спорили, молчали, и даже эти минуты молчания были прекрасны. Теперь Блок рассеян, нередко пьян, иногда он пропадает по нескольку дней кряду. Люба очень занята, она играет, принимает друзей. Чувствуется, что между ними пролегла трещина, повеяло холодком, от которого Белому становиться не по себе. Как-то Люба призналась ему, «что многое она вынесла в предыдущем году; и что не знает сама, как она уцелела». Блок с горечью говорил, что они «перешли Рубикон» и что «возврата не может быть». Мир и гармония, которыми Белый восхищался в 1904 году, ушли в прошлое. Александра Андреевна все хуже мирится с Любой и редко заходит к ним. В доме постоянно толпятся люди, с которыми Белому не о чем говорить. Презирая старомодные условности, Люба и Волохова отлично ладят между собой; они – подруги; провинциалу-москвичу это кажете?} диким и неприличным. Власть Волоховой над Блоком беспредельна; люди заурядные и ничтожные заняли место прежних друзей. Люба и Блок словно всю свою жизнь превратили в театр. Но «возврата не может быть».
Белый не в силах этого вынести; он чувствует себя несчастным, страдает в окружении людей, которые ему неприятны. Отчаявшись, он возвращается в Москву, и на несколько лет общение между ним и Блоком «замирает»: они даже перестали писать друг другу. Отныне Блок вспоминается Белому не таким, как в дни юности, – тогда он напоминал ему Герхарда Гауптмана; теперь же его отяжелевшее, усталое лицо кажется похожим на Оскара Уайльда.
Глава XI
«Мама… жить становиться все трудней – очень холодно… Полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море… На остров люди с душой никогда не приходят… На всем острове – только мы втроем, как-то странно относящиеся друг к другу, – все очень тесно. <…> Тем двум – женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чем-то неимоверно похожим, – тоже страшно и холодно».
Но миновал «безумный год». Блок и Волохова расстались, даже не простившись.
«Быть может, здесь уже не ты…» – писал он. И еще: «Не знаю: я забыл тебя».
Кончились их вечера втроем: теперь он остался один. Люба уехала на гастроли, она счастлива своей работой в театре, своими успехами. С Волоховой у нее по-прежнему дружеские отношения. Растерянный, обескураженный, он, словно переживший кораблекрушение, никак не может прийти в себя. «Пью много, живу скверно. Тоскливо, тревожно, не по-людски».
«Мама… мне жить нестерпимо трудно. <…> Такое холодное одиночество – шляешься по кабакам и пьешь. Правда, пью только редкими периодами, а все остальное время – холоден и трезв, злюсь, оскаливаюсь направо и налево…
Чем холоднее и злее эта неудающаяся „личная“ жизнь (но ведь она никому не удается теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намерения».
Вокруг него теснится несколько друзей – люди малоодаренные, но все же с ними иногда приятно провести вечер за выпивкой, болтовней о том о сем, в бесцельных скитаниях по городу. Самые верные из них – Евгений Иванов (бесконечно преданный Блоку) и Пяст – ясновидец, обожатель Стриндберга. В своем отчаянии, в страхе перед одиночеством Блок мирится с их обществом.
«Отчего не напиться иногда, когда жизнь так сложилась?»
«Первая неделя поста была немножко безумна, мучительна и темна. <…> Но подлинной жизни нет и у меня. Хочу, чтобы она была продана по крайней мере за неподдельное золото… а не за домашние очаги и страхи…»
И все же он бывает счастлив, когда приезжает жена. Ее прелесть, все ее милые жесты, улыбающееся лицо успокаивают его. Она наводит в его жизни порядок: ему нравится чистота в доме, свежие занавески, расставленные книги в шкафу. Но вот она снова едет на гастроли: после ее отъезда Блок опять погружается в молчание, грустнеет, на лице его застывает «каменная улыбка». В Шахматове его больше не тянет: среди лесов, среди лугов он томится от скуки, а главное – здесь ему страшно недостает мимолетных, случайных встреч. Наталья Волохова – «Незнакомка»[25]25
Пьеса Блока, названная им так же, как и знаменитое стихотворение «Незнакомка». – Примеч. Н. Б.
[Закрыть], подобная «светлой звезде», прохожая с черным «шлейфом, как хвост кометы», ушла из его жизни. Но другие то и дело вторгаются в нее…
«Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы… Моя система – превращение плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует. <…> Все это так таинственно. Ее совсем простая душа и мужицкая становится арфой, из которой можно извлекать все звуки. <…> Как редко дается большая страсть. <…> Но когда страсти долго нет… ее место занимает поганая похоть… И совершенно неожиданно приходит ветер страсти. „Буря“. <…> Есть страсть – тоже буря, но в каком-то кольце тоски. Но есть страсть – освободительная буря…»
«Мама… я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной. <…> Я же, после перипетий, очутился в 4 ночи в какой-то гостинице с этой женщиной, а домой вернулся в девятом».
За несколько месяцев до смерти Блок признавался, что в его жизни было сотни три таких «встреч». Некоторые из этих женщин запечатлены в его стихах, другие исчезли бесследно.
Затем наступала скука – наследие прошлого века: незадолго до Первой мировой войны она еще была жива в России, хотя и в видоизмененной форме. Это уже не то унылое оцепенение, охватившее в XIX веке русскую провинцию, затерянную посреди степного бездорожья, вдали от крупных городов, – застой в умах и переполненные желудки. И не та скука, от которой страдали чеховские герои! Скорее, это атмосфера теплицы, где тысячи людей томились в бесплодной, опасной, безнравственной изоляции, лишенные всякой связи с огромной народной массой, нищей и невежественной. Оттого ли, что эти тепличные растения слишком быстро выросли, получились они такими вялыми и безжизненными? Или все дело в народе, дремавшем полтысячелетия? Вся история России – сплошные превращения скуки, из века в век выливавшейся на этих бескрайних просторах, под этим ненастным небом, то в тупую покорность, то в дикую жестокость, то в беспробудную лень. Как и многим другим, Блоку знакома эта скука, и часто, лежа в постели, он часами наблюдает, как мухи вьются вокруг лампы, словно бессмертный символ русской тоски.
В формировании Блока огромную роль сыграла революция 1905 года; благодаря ей он впервые открыл для себя жизнь, иную жизнь, непохожую на идейные, философские и религиозные мечтания. Символизм, страстные речи Белого, сверхизысканные статьи Вячеслава Иванова, – все это также было важно, ценно, но в то же время «проклято». Россия нуждалась в другом. Могли ли они восторгаться балетами Дягилева, увлекаться стихами Корбьера в переводе Брюсова, воспевать красоту греческих героев, когда буря вот-вот грянет? Но во всем этом был великий соблазн, и никто не желал прислушаться… Блок не требовал от русской духовной элиты немедленного действия, отказа от поклонения Красоте, без которого он сам не мыслил своей жизни. Он не считал, подобно Некрасову, что его друзья «обязаны быть гражданами». Но, как только Блок осознал «проклятие абстрактного», нависшее над русской интеллигенцией, он остановился посредине своего пути и призвал: «Завесьте ваши лица! Посыпьте пеплом ваши головы! Ибо приблизились сроки».
Зинаида Гиппиус в своих воспоминаниях о Блоке говорит, что в нем чувствовалась какая-то «незащищенность». Но чем мог защититься тот, кто понял? Белый, да и другие, часто упрекали его за высокомерие, надменно поднятую голову, «каменную улыбку», привычку говорить сквозь зубы даже когда он читал стихи. Он особенно гордился своим знанием, тем, что был готов к катастрофе, которую невозможно предотвратить.
Революция 1905 года помогла ему многое осознать, и ему захотелось перенести свои мысли в статьи. С 1907 по 1918 год Блок создал ряд статей под общим названием «Россия и интеллигенция».
«Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира… зная, что за дверями стоят нищие духом и что этим нищим нужны дела. И вот – один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликает Иисуса, – и всем неловко, один честный, с шишковатым лбом, социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным – доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице – ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране – реакция, а в России – жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны – в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме „утонченных натур“, не нужных, – ничего в России не убавилось бы и не прибавилось!»
Если интеллигенция все более пропитывается «волею к смерти», то народ искони носит в себе «волю к жизни». Понятно в таком случае, почему и неверующий бросается к народу, ищет в нем жизненных сил: просто по инстинкту самосохранения; бросается и наталкивается на усмешку и молчание, на презрение и снисходительную жалость, на «недоступную черту», а может быть, на нечто еще более страшное и неожиданное.
Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул.
Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ». Но ответа нет, только «чудным звоном заливается колокольчик».
Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух, – летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель.
Отчего нас посещает все чаще два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия? Скоро иным чувствам не будет места. Не оттого ли, что вокруг уже господствует тьма? Каждый в этой тьме уже не чувствует другого, чувствует только себя одного. Можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами нависла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта».
«Словом, как будто современные люди нашли около себя бомбу; всякий ведет себя так, как велит ему его темперамент; одни вскрывают обойму, пытаясь разрядить снаряд; другие только смотрят, выпучив от страха глаза, и думают, завертится она или не завертится, разорвется или не разорвется; третьи притворяются, что ровно ничего не произошло, что круглая штука, лежащая на столике, вовсе не бомба, а так себе – большой апельсин, а все совершающееся – только чья-то милая шутка; четвертые, наконец, спасаются бегством, все время стараясь устроиться так, чтобы их не упрекнули в нарушении приличий или не уличили в трусости».
* * *
«И потому, хотим мы или не хотим, помним или забываем, – во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва. Это чувство разрыва никто не станет отрицать в целом, но чуть только попытаешься перевести его на конкретное, – немедленно найдутся ярые отрицатели болезни и защитники своей цельности. <…> Если заговоришь о том, что неблагополучно ни в одной семье, сейчас же найдется семьянин, который скажет, что он живет 25 лет в мире и согласии с женой и детьми. Если скажешь, что наука бессильна перед провалом южной Италии, сейчас же поднимется геолог и заявит… что наука если еще и не совсем победила природу, то через 3000 лет победит»[26]26
1908 год. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].* * *
«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа „иронией“. Ее проявление – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством. <…> С теми, кто болен иронией, любят посмеяться. Но им не верят, или перестают верить.<…> Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами»[27]27
1908 год. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].* * *
«Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной»[28]28
1913 год. – Примеч. Н. Б.
[Закрыть].
Вот о чем размышлял Блок в годы, последовавшие за первой русской революцией. И московским, и петербургским символистам одно казалось несомненным: Блок уже не был Певцом Прекрасной Дамы; он стал человеком современной России; с больной совестью, полный неутолимой тоски, он трезво смотрел в будущее. Он перерос свою школу, перерос учителей: он не страшился слов, не стыдился слез.








