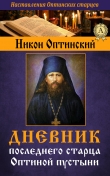Текст книги "Пасха Красная"
Автор книги: Нина Павлова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
«Недостоин войти»
Молодой сибиряк Владимир Пушкарев, которому дано было стать потом иноком Ферапонтом, пришел в монастырь в июне 1990 года, причем пришел из Калуги пешком. Был в старину благочестивый обычай ходить на богомолье пешком, чтобы уже в тяготах и лишениях странствия понести покаянный труд. От Калуги до Оптиной 75 километров. И сибиряк пришел в монастырь уже к ночи, когда ворота обители были заперты. Странника приметили, увидев, как он положил перед Святыми вратами земной поклон и замер, распростершись молитвенно ниц. Когда утром отворили ворота, то увидели, что странник все так же стоит на коленях, припав к земле и склонившись ниц.
В Оптиной бытует легенда, что о. Ферапонта в монастырь в ту ночь «не пустили». Но как все было – проверить трудно, а легенда возникла так. При обители тогда жили подростки – из тех, кого в наше время называют «хиппи», а в старину называли «бродяжки». Сироты, полусироты, они с 8–12 лет бродяжничали от притона к притону, где ребенку вместо молока давали наркотик и шприц. И прилепились они к обители еще не по избытку веры, но скорее по тому инстинкту, по какому замерзающие воробьи жмутся в морозы к теплому жилью. В Оптиной их так и называли – наши «воробушки».
С детьми улицы было сначала трудно, ибо к работе они были непривычны. И бригадир паломников сержант-афганец, приехавший поработать в монастырь по обету, говорил о «хиппарях» с возмущением: «Горы свернут – лишь бы не работать!» В общем, под чутким руководством сержанта «воробушки» приучались к труду, рассказывая в отместку о своем благодетеле: «Он даже отца Ферапонта в монастырь не пустил!» И если верить этим довольно пристрастным рассказчикам, то дело обстояло так – в ту ночь на воротах дежурил сержант и, увидев, что в обитель явился очередной «хиппарь», в монастырь его не пустил. Думается, что это всего лишь легенда, но на всякий случай опишем облик странника.
Люди, знавшие Володю по Ростову, где он работал в храме, описывают его внешность так: большие голубые глаза и темно-рыжие кудри по плечам. Сам тоненький, высокий и какой-то нездешний, будто паж со старинных картин. Вот идет, говорят, по улице, а люди молча смотрят ему вслед.
В рассказах сибиряков Владимир выглядит иначе – там он могучий человек необычайной силы, но с неизменной скорбью в глазах. «Его у нас все боялись, – рассказывали односельчане, – хотя он тихонею был: никогда не курил, не пил и не дрался, если, конечно, не нападут». О нападениях надо сказать особо – в свое время Владимир сверхсрочником пять лет отслужил в армии и, говорят, владел теми боевыми искусствами, какие изучает спецназ. Запомнился случай. Володя обедал в столовой, а трое парней сели за его стол, отыскивая повод для драки. Для начала выпили его компот, но он будто ничего не заметил и спокойно доел обед. Потом встал, выпил компот главаря компании и спокойно вышел на улицу. Повод для драки был найден, и парни бросились на него. Что произошло дальше, никто не понял, но трое нападавших уже лежали на земле. В общем, тихоню в тех местах стали обходить стороной.
Рассказывает паломник-трудник Александр: «У меня страсть – задавать каверзные вопросы по богословию. Засверлит в голове вопрос – не могу отделаться и ищу, кому задать. Иду я однажды в таком состоянии, а навстречу о. Ферапонт. Ага, думаю, сейчас подкину ему вопросец. А увидел глаза его и аж мороз по коже – глаза-то у него совсем неземные! У меня все вопросы из головы мигом выдуло, и я быстро мимо прошел».
Сколько людей – столько впечатлений. И оптинские «воробушки», полюбившие сибиряка, рассказывают о нем уже в своем духе – дескать, пришел в обитель хороший человек-хиппарь: длинные волосы, перетянутые по лбу кожаной лентой-хипповкой, а джинсы и одежда не ширпотреб, а фирма. Собственно, остроглазые подростки потому и подметили хорошо одетого человека, что была тогда среди паломников мода – одеваться нарочито «смиренно» во вретища. Щеголяли в обносках в основном москвичи из обеспеченных семей, и моду на «смирение» диктовала гордость.
Так вот, никакого отношения к хиппи Владимир никогда не имел. По рассказам ростовчан, он жил аскетом – вещей не покупал, а свой заработок отдавал неимущим. Но тут он шел в монастырь на главный праздник своей жизни, и надел все лучшее, что было у него.
Однако вернемся снова к загадке той ночи, когда, как утверждают иные, Владимира в монастырь не пустили. Есть в этом утверждении вот какая недостоверность – Оптина гостеприимна, и странника обязательно устроят на ночлег, стоит лишь постучать в ворота. Но дерзнул ли сибиряк стучать в Святые врата? По житейским меркам все просто: стучи, просись на ночлег – откроют. Но не укладывается в эти мерки характер сибиряка. Оптина была для него такой святыней, что перед уходом в монастырь он сказал на прощанье родным: «Если в Оптиной меня не примут, то уйду в горы. И больше на этой земле вы меня не увидите, пока я не буду прощен Богом».
Рассказывают, что когда отец Ферапонт был уже иноком, ему предложили читать записки в алтаре. Записки на проскомидии читают даже послушники, но инок ответил: «Недостоин войти в алтарь». Словом, в обитель пришел человек, считавший себя недостойным ее святости. Он никогда не дерзал входить без вызова в алтарь, а в свою первую монастырскую ночь, похоже, не дерзнул стучать в Святые врата.
Во всяком случае, когда бригадир паломников сержант-афганец на рассвете вышел из ворот, он крайне удивился, увидев, что странник, примеченный еще с вечера, все так же молится пред Святыми вратами, покаянно распростершись ниц. «Ну и ну, Мария Египетская!» – изумился бригадир. А потом определил новичка в гостиницу и дал ему первое послушание – в трапезной для паломников.
Повара в трапезной вскоре обнаружили, что новичок – человек бессловесный и краснеющий по малейшему поводу, как маков цвет.
Монахиня Варвара вспоминает: «Помню, Володя у нас варенье варил. Скажешь ему: „Володя, помешай, а то подгорит“. Он молчком, помешает и все. В работе был старательный и любил услужить. Приметил, что у нас тесто чернеет из-за того, что раскатываем на оцинкованных столах, и сделал нам отличные доски для теста. Но все молчком да молчком. Совсем бессловесный!»
– Володя, ты бы нам хоть словечко сказал? – не выдержала однажды повар Татьяна Лосева, а ныне инокиня Антония и келарь Малоярославецкого Никольского монастыря.
– У нас в Сибири многословить не принято, – сказал Володя, краснея. И добавил тихо. – Ведь за каждое слово спросит Господь.
К безмолвию Володи вскоре привыкли, объяснив его по-своему: лесник, мол, в прошлом – таежный человек. Правда, оптинские «воробушки» утверждали, что с ними о. Ферапонт был разговорчивым. Но со стороны эти разговоры выглядели так – обступят малолетки о. Ферапонта и щебечут что-то, как птицы. А он лишь улыбается одними глазами и молча слушает их. Они любили инока, хотя баловать он их не баловал и конфетами не угощал. Конфет у него не было. Но вот плетет о. Ферапонт четки или вырезает по дереву, и они тут же пристраиваются плести и вырезать. Жил тогда в Оптиной десятилетний мальчик Виталий Белкин, подвизающийся теперь при Ольховском монастыре. Виталий плетет для монастыря четки и режет постригальные кресты, охотно поясняя при случае: «Это меня отец Ферапонт Оптинский научил».
И все же инок Ферапонт быстро исчез из общего поля зрения. Как надвинул после пострига скуфейку почти на глаза, так будто скрылся куда. Как при такой яркой внешности можно быть неприметным – это необъяснимо, но это так. С годами неприметность лишь возрастала, ибо сидел тихий инок, затворясь в своей келье или столярной мастерской, резал постригальные кресты, делал доски для икон, аналои, мебель. Мастер был – золотые руки. И под стать этим внешним занятиям складывалась его репутация этакого молчуна-мастерового из породы простецов. «Простой человек. Легко простецам!» – сказал о нем один человек не из «простых». А вот художник-резчик Сергей Лосев, работавший тогда в Оптиной на послушании и друживший с иноком Ферапонтом, сказал иначе: «В нем чувствовался огромный внутренний драматизм и напряженная жизнь духа, какая свойственна крупным и сложным личностям. Что за этим стояло, не знаю. Но это был человек Достоевского».
Брат Трофим – человек горячий
Если тихого инока Ферапонта мало кто знал даже в Оптиной, то другой сибиряк, инок Трофим, приехавший в монастырь в августе 1990 года, был знаменит, пожалуй, на всю округу. В Оптиной не в ходу та форма дерзости, когда к монашествующим обращаются по имени, но обязательно скажут: «Отец Ферапонт». Исключение – инок Трофим, к которому все обращались по имени, но этому есть свое объяснение. Паломник-трудник Виктор вспоминает: «Трофим был духовный Илья Муромец, и так по-богатырски щедро изливал на всех свою любовь, что каждый считал его своим лучшим другом. Я – тоже». «Он был каждому брат, помощник, родня», – сказал об иноке Трофиме игумен Владимир.
Мирское имя инока было Алексей Татарников. Но сквозь годы кажется, что он родился Трофимом и родился именно в Оптиной, став настолько же неотъемлемым от нее, как это небо над куполами, вековые сосны, храмы, река. Тем не менее именно Трофима из Оптиной сперва «выгнали», то есть выписали из гостиницы, когда истек установленный для паломников срок. Но в том-то и дело, что он приехал в монастырь поступать в братию, а потому говорил «выгнали», не объясняя за что.
Почему так произошло – никто не знает. Но есть одно предположение: человек он был горячий. Зазора между словом и делом у него не было. Например, встречает Трофима некий брат и начинает рассуждать на тему, что вот надо бы сделать в келье полку для икон, но как и из чего эти полки делают не знает. «Сейчас подумаю», – отвечает Трофим. И тут же приходит в келью брата с молотком и фанерой, сделав полку безотлагательно. Откладывать он не мог. И если уж из далекой Сибири Трофим ехал в Оптину с мыслью о монашестве, то эта монашеская жизнь должна была начинаться не в отдаленном будущем, а непременно сегодня, с утра. Из более поздних времен известен случай, когда инок Трофим ходил просить, чтобы его поскорее постригли в монахи. «А может, тебя сразу в схиму постричь?» – спросили его. – «Батюшка, я согласен!» В общем, «схимнику» тут же указали на дверь.
И все-таки сибиряк был терпелив, и от Оптиной не ушел, поселившись в землянке в оптинском лесу. На рассвете он первым являлся на полунощницу и работал в монастыре во славу Христа, поражая всех мастерством и трудолюбием. Как-то к нему в землянку заглянул местный житель Николай Жигаев и спросил удивленно:
– А ты чего здесь партизанишь?
– Из монастыря выгнали. Неподходящий.
– Пойдем со мной в партизанский налет, а то жена бутылку спрятала и не дает. А ведь праздник сегодня – положено.
Правда, Николай, поселивший тогда Трофима у себя, утверждает, что никакой «партизанщины» в помине не было. Жена сама накрыла им праздничный стол, и был у них с Трофимом хороший, мужской разговор по душам.
Ненадолго прервем здесь повествование, чтобы рассказать подробнее, каким был инок Трофим в застольях.
Специальностей у Трофима в миру было много, а после армии он пять лет рыбачил на траулерах Сахалинского морского пароходства. За рыбкой ходили по полгода, а сойдя на берег, по матросскому обычаю шли в ресторан.
Рассказывает Нина Андреевна Татарникова, мама о. Трофима: «Вшестером пойдут в ресторан, а всего 20 рублей прогуляют. Трофим был заводила и так красиво плясал, что всех заведет. Столы в ресторане сдвинут – и пойдут матросы в перепляс! Его со всех кораблей гулять приглашали – и деньги целы, и довольны все. А домой вернулся – нету отбоя, все его на свадьбу зовут: „С тобой хорошо – никто не напьется, и люди хвалят свадьбу потом“».
Рассказывает местная жительница, бабушка Ольга Терентьевна Юрина: «Трофим был пахарь и косарь, а в деревне закон – в сенокос делать стол. И вот косил у нас Трофим. Сварила я курицу, колбаски купила и винца, само собой. Сели за стол, мужики разливают, а Трофим загляделся в окно:
– Ох, и репка у вас уродилась. Репу люблю. Можно репку сорвать?
– Эвон добра! Да хоть всю выдирай.
Наелся он репы на огороде – вот и весь обед. Переживаю, что парень голодный, а смекнула уже, что он мяса не ест. В следующий раз нажарила Трофиму картошки и сливочного масла натолкла туда побольше – все ж посытней. Смотрю, он картошку мимо и лишь квашеной капустки поел.
– Детка моя, – говорю я Трофиму, – чем тебя мне кормить?
– Баба Оля, свари мне картошки в мундире. Мне жирного нельзя, а то молодость заест.
А ведь работал-то как сердечный! Таких горячих в работе среди нынешних нет. За столом, да, все горячие – одной водки в сенокос, ой, сколько уйдет! А у Трофима застолье – квас да картошка. Даже яичек в карман ему не сунешь: „Баба Оля, я тружусь во славу Христа“. Что тут сказать? Одно слово: Трофим – человек Божий».
Вернемся здесь снова к тому первому оптинскому застолью Трофима, когда Николай пригласил его к себе. Сидели они долго, а Николай рассказывал, что окончил уже два курса института, когда обнаружили, что он носит крест: «Вызывают и ставят условие: снимешь крест – оставим, а с крестом вылетишь вон из института. Я им ставлю свое условие: снимите сначала с меня голову, а потом уж снимайте крест. Шею подставил – по шее и дали. Давно бы был уже инженером, а теперь вот вилы да навоз. Но не жалею, совсем не жалею! Может, и было это лучшее в жизни, когда я все же за крест постоял».
За разговором Николай сперва не заметил, что рюмка перед Трофимом стоит нетронутой.
– Ты чего не пьешь? – удивился он.
– Про тебя думаю. Побратались мы вроде нынче.
– Побратались, точно, – сказал Николай. – Давай закурим?
– Бросил, – ответил Трофим. – Я к Богу пришел. Вся жизнь моя в Боге. И я от Оптиной не уйду. Жизнь положу, а останусь здесь.
Николай объявил потом местным задирам, что Трофим – его лучший друг. И если кто пальцем тронет Трофима, то у него наготове лом.
Защищать Трофима, кстати, не требовалось. Он был из тех, о ком говорят – богатырь. Кочергу шутя завязывал бантиком. А однажды, запомнилось, он был чем-то расстроен и, продев между пальцами гвоздь-сороковку, сотворил молитву: «Господи, помилуй!» От гвоздя после этого осталась спираль.
Все в нем было по-богатырски крупно: не руки, а ручищи, не шаг, а шажище. И ходил он таким стремительным шагом, что его светлые прямые волосы взвевало ветром от быстрой ходьбы. Портрет Трофима лучше всего нарисовал бы, наверно, ребенок, рисуя, как это делают дети, голубые глаза на пол-лица, и при этом пронзительной голубизны.
Один художник, писавший в Оптиной этюды, сказал при виде инока Трофима: «Смотрите – викинг. Какой типаж!» Возможно, он знал о мореходном прошлом инока, а может, просто подметил типаж. Но глядя на богатыря Трофима, легко было понять, как задолго до Колумба викинги открыли Америку, – вышли в плавание к ближнему берегу, но в неукротимом порыве к движению прошли океан, найдя материк.
В Трофиме была эта неукротимость стремления к цели – только Оптина и только монашество. И Господь воздвиг на пути препятствие, укрупняя, возможно, цель: не просто войти, как входят многие в Оптину, но быть достойным питомцем ее.
* * *
Разбитые войска на войне, говорят, быстро учатся. Именно в такой ситуации оказался Трофим – денег нет, жить негде и не на что, а в монастырь его не берут. На войне как на войне, и хотя брань тут духовная, но сразу хватайся за «щит и меч».
Из более поздних времен стало известным, как настойчиво искал тогда инок Трофим, что помогает в духовной брани, отыскав для себя этот «щит и меч». Шоферу-паломнику Сергею, попавшему по лихости езды в аварию и висевшему тогда в Оптиной на волоске, он дал совет: «Держись за полунощницу. Великая сила! Будешь неопустительно ходить на полунощницу – ни один бес тебя из монастыря не вышибет. На себе проверил, поверь». А духовный меч монашества – молитва Иисусова.
В личных книгах инока Трофима (а их много) есть страницы чистые, а есть «перепаханные» пометками – это там, где про молитву Иисусову. И здесь начинается тот пласт воспоминаний, где рассказчики говорят, смущаясь, что об этом нельзя, наверно, писать. Возьмет, например, Трофим книгу про умное делание да и скажет при всех: «Молитва-то умная да голова дурная. В дурную голову молитва нейдет!» Инокиня Нектария из Одринского Никольского монастыря вспоминает, что очень обрадовалась, увидев Трофима в подряснике и с четками. А он сказал о своих четках: «Это пока так – для красоты. Вот если бы и молиться при том». А иеромонаху Марку из Пафнутиево-Боровского монастыря запомнилось, как инок Трофим крутанул на руке четки, сказав: «Игрушка, а?» И в стон: «Игрушка!» Таким он и запомнился многим – обхватит голову своими ручищами и стенает, как дитя: «Не идет молитва. Как ни бейся – не идет!»
А потом был день, когда инок Трофим вернулся с поля на тракторе весь черный от пыли. Заглушил мотор и тихо сказал: «Ты смотри-ка – пошла молитва. На трех тысячах только пошла». Это значит, что он творил тогда три тысячи Иисусовых молитв в день.
Уже через два месяца после «изгнания» и по монастырским понятиям необычайно быстро инок Трофим был облачен в подрясник – на оптинский престольный праздник, на Казанскую в осень 1990 года. Но прежде чем рассказать о его первых послушаниях, расскажем о «непослушании». В монастыре наперед знали – стоит послать Трофима в город вспахать огород одинокой старушке, как все одинокие бабушки сбегутся к его трактору, и он будет пахать им до упора. «Трофим, – предупреждали его, – на трактор очередь. Сперва распашем огороды монастырским рабочим, а потом постараемся помочь остальным». И он честно ехал на послушание. Но тут на звук Трофимова трактора собиралась такая немощная старушечья рать, что сердце сжималось от боли при виде слезящихся от старости глаз. А старость взывала: «Трофим, сыночек, мой идол опять стащил всю мою пенсию. Дров нету! Силов нету! Жить, сыночек, моченьки нету!» Как же любили своего сынка эти бабушки, и как по-сыновьи любил он их! Бывало, пришлют ему из дома перевод, а он накупит своим бабулям в подарок платочки: беленькие, простые, с цветами по кайме. И цены этим платкам не было – вот есть в сундуке шерстяной платок от дочки, есть синтетический от зятя, а простые Трофимовы платочки берегли на смерть и надевали лишь в храм. Эти платки он освящал на мощах, и платочки называли «святыми».
В общем, не хуже других знал инок Трофим, что послушание – бесов ослушание. А только не выдерживало его сердце той картины горя, когда в покосившейся избушке доживает свой век старуха-мать. А сын навещает ее лишь спьяну, чтобы отнять у старухи пенсию. А дочь с зятем пишут из города лишь письмо из двух строк: «Мама, отбей телеграмму, когда зарежешь телка. Мы машину за мясом пришлем». На послушание отводится определенное время, и чтобы успеть сделать побольше, он порой уже бегал бегом. Со стороны посмотришь и подумаешь, что где-то пожар – с ведрами воды бежит от колодца послушник. А потом бежит уже с топором, чтобы наколоть для старушки дров. Он любил людей, и спешил делать им добро.
Как-то раз он возил дрова куда-то за Руднево и сделал при этом внеплановую ездку, узнав, что в холодном, нетопленном доме лежит без дров больная старушка. Он привез ей дрова, растопил печь и уже возвращался в монастырь, когда первый удар колокола возвестил, что до всенощной осталось 15 минут. На службу он явно опаздывал, ибо по дороге до монастыря ехать минут тридцать. И тогда он бросил свой трактор, как танк, напрямик, заныривая на скорости в овраги. Рядом с ним в кабине сидела тогда иконописец Ольга С., и ей стало страшно, но не от этих оврагов, а от того, как внезапно переменился Трофим. Он всегда был улыбчив. А тут рядом с ней сидел незнакомец с таким отрешенно-серьезным лицом, что ей показалось: его нет на земле – он весь в молитве и весь перед Богом. Ко всенощной они тогда успели.
* * *
Никого в монастыре не любили так, как инока, Трофима и никому, вероятно, не попадало больше, чем ему. Сам инок рассказывал об этом так: «Сперва по гордости хотел все сделать по-своему, а за непослушание бесы больно бьют. Зато когда приучишь себя к послушанию, так хорошо на душе».
Имя Трофим в переводе с греческого означает «питомец». Он действительно питомец Оптиной и любимое дитя ее, наделенное редким в наш гордый век даром – даром Ученика. А чтобы показать, что такое труд ученичества, где воистину на ошибках учатся, расскажем, как нес епитимью инок Трофим. Бывало, оптинцы сокрушаются – ох, Трофима опять поставили на поклоны, и это по нашей вине! Помню, в монастыре испекли свой первый хлеб, а пекарем был Трофим. И в общем ликовании – свой первый хлеб! – пол Оптиной набилось в пекарню снимать пробу. А хлеб был горячий и такой вкусный, что, не благословясь, ополовинили выпечку, а епитимью за это нес Трофим. Так вот, он воспринимал епитимью как милость Божию, предваряющую Страшный Суд, а земные поклоны любил. Один раз в Оптикой гостил Владыка и, наблюдая, как жизнерадостно несет епитимью инок Трофим, охотно полагая земные поклоны, сказал уважительно: «Хороший инок».
Возможно, кто-то скажет, что об этом не надо писать. Но в монастырь приходят люди не с ангельскими крыльями за плечами, а истинный подвижник – до смерти ученик. И вычеркнуть труд ученичества из жизни инока Трофима – это вычеркнуть его подвиг.
Инок Трофим был чужд теплохладности в любви к Богу и людям. И завершая разговор о его горячности, приведем еще одну историю. Жил тогда в Оптиной мальчик, о котором блаженная Любушка сказала, что он будет монахом-молитвенником. Мальчику было тогда лет восемь, и он любил бегать стремглав. Мать одергивала его, пытаясь приучить будущего монаха к степенной поступи, а старец сказал: «Не трогай его. Мальчишество с годами пройдет, но пусть останется этот огонь, который он отдаст потом Богу». Как сложится жизнь мальчика – покажет будущее. А об иноке Трофиме уже известно – весь огонь своей души он отдал Господу Богу.