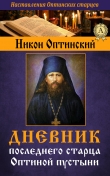Текст книги "Пасха Красная"
Автор книги: Нина Павлова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Машина у нас своя, а бензина на дорогу нет. Муж объехал тогда шесть поселков, но что-то случилось, и бензина нигде не было. Стала я просить Трофима о помощи. И вот что интересно – бензин завезли на единственную бензоколонку возле нашего дома. Но на дорогу надо хоть немного денег. Стала я вечером молиться Трофиму: „Братик, ты всегда помогал нам при жизни деньгами. Пошли хоть немного денег на дорожку, если есть такая возможность“. Молилась я Трофиму вечером 18 августа, а утром 19 августа, на Преображение, нашла в почтовом ящике извещение, что мы выиграли в денежно-вещевой лотерее пять тысяч долларов».
В тот же вечер 18 августа 1997 года, когда Наталья просила Трофима о помощи, в Оптиной пустыни на всенощной в честь Преображения Господня Нину Андреевну Татарникову облачили в подрясник монастырской послушницы. Предполагался монашеский постриг, но мать Нина сказала: «Не заработала еще. Хочу быть в Царствии Небесном вместе с Трофимом, а мне до него не дотянуться пока. Благословите сперва потрудиться».
18 апреля 2002 года на девятую годовщину памяти трех Оптинских новомученников состоялся монашеский постриг послушницы Нины, матери о. Трофима, с наречением имени Мария, в честь преподобной Марии Египетской.
Так складывалась история этого, отныне православного рода. А теперь, уже зная об исходе событий, обратимся к биографии инока Трофима, понимая, как Промысл Божий вел по жизни эту семью.
«Замечайте события вашей жизни»
«Мы белорусы, – рассказывала о себе мать Нина. Родина наша – Витебская область, Ушачевский район, деревня Слобода. Маму звали Мария Мицкевич, папу Андрей Пугачев, детей в семье было пятеро. А еще жили с нами бабушка и дедушка – Кузьма и Зося Мицкевичи. Семья у нас была православная. А сибиряками мы стали так. Я родилась в самый голод в 1933 году. Тогда деревнями вымирали от голода, и дедушка Кузьма все думал: как спасти нашу семью? Однажды он услышал, что в Сибири есть хлеб, и поехал туда».
Когда святителя патриарха Тихона спросили, почему произошла революция 1917 года, он ответил: «Поститься перестали». А преподобный Оптинский старец Иосиф (†1911) сказал, выслушав жалобу о неурожае: «Да, всего мало, только грехов много. Неурожай Господь посылает за то, что совсем перестали посты соблюдать, даже и в простонародье. Так вот и приходится поститься поневоле».
Под знаком голода, поста поневоле, и началась сибирская родословная инока Трофима. Хлеб и работу дедушка Кузьма нашел в поселке Дагон Иркутской области. Здесь белоруска Нина вышла замуж за сибиряка Ивана Татарникова, а Трофим был у них первенец.
О сибирском роде Татарниковых известно то немногое, что деда Трофима, кузнеца Николая Татарникова, расстреляли в Иркутске в 1937 году, а позже он был реабилитирован. Из всех арестованных вместе с кузнецом Николаем православных людей живым дернулся из лагерей лишь один односельчанин и рассказал: «За что нас арестовали – не знаем. Но били и издевались по-страшному. На этапе кормили одной селедкой, а пить не давали. После Иркутска Николая на этапе уже не было, и передавали, что он расстрелян в тюрьме».
Семья о погибшем не узнавала. Так было заповедано в Сибири узниками тех лет: не носить передач, не хлопотать, не запрашивать, но уезжать по возможности в другое место, скрываясь и скрывая свою родословную. Шло массовое уничтожение православного народа. Сибиряки это трезво поняли, и узники уходили в тюрьму, как в безвестность, порывая все связи с родными и желая одного, чтобы жертва была не напрасной: расстреляют деда, но родятся и вырастут православные внуки. И 4 февраля 1957 года, на день памяти апостола Тимофея, у православного мученика кузнеца Николая родился внук, будущий новомученик Трофим Оптинский.
Рассказывает мать Нина: «Он как родился, свекровь говорит: „Вот – родился Алексей, человек Божий. Назовем, его Алексеем“. А я тогда в церковь не ходила и думаю: „Да ну еще какой-то человек Божий? Назовем его Леонидом – Лёничкой по-нашему“.
Крестить детей у нас было негде. Да и не думали мы о том, хотя сын, похоже, был не жилец. Кричал днем и ночью, да так надрывно, что доярки идут мимо окон и охают. Уже лет двадцать спустя встретилась в городе с одной дояркой нашего села, а она меня спрашивает: „Нина, твой мальчик, что кричал, так поди умер?“ – „Почему? – говорю, – живой, уже в армии служит“. А она смотрит на меня и не верит. Страшно вспомнить, как кричал мой сынок! Я с ним ночи не спала и до того измучилась, что ночью стала закрывать печь, а сама вынула из печи заслонку да и заснула с ней в обнимку. Утром смотрят – заслонки нет, а мы с сыночком, как два трубочиста, чумазые. Свекровь с перепугу психиатра вызвала: „Нина у нас сошла с ума“. А психиатр говорит: „Вас лишить сна – вы еще хуже будете. Пожалейте ее, дайте поспать“».
Почти два года, не смолкая, кричал надрывно некрещеный младенец. А как окрестили – сразу затих. Заулыбался после крещения и рос отныне добродушным богатырем, о котором бабушка Зося говорила по-белорусски: «Лёня у нас вяселый какой!» В крещении зримо свершилось чудо, но по неверию не осознали его.
Мать Нина продолжает рассказ: «Мы ведь без церкви отвыкли от веры. Уж на что моя мама Мария была верующей, а в церковь в город ездила причащаться только на Пасху да, бывало, на Рождество. Это ж за сотни километров надо ехать да еще в городе заночевать. Где тут наездишься, если пятеро детей? Но посты мама держала строго, а еще вязала бесплатно всей деревне нарядные узорчатые рукавички и раздавала их людям во славу Христа. Трофим в бабушку Марию пошел. Она бегучая была. Все дела бегом делала, а ночью вязала во славу Христову. Врач придет к ней и ругается: „Мария, у тебя такая страшная гипертония, а ты вся в клубках и ночами не спишь“.
Видно, дошли ее клубочки до Бога, потому что всех удивила кончина мамы. Умерла она у сына в Барнауле, попросив перед смертью схоронить ее в родной деревне. А пока доставали цинковый гроб и хлопотали о перевозке, времени прошло немало. На погребении сын запретил вскрывать гроб, думая, что по срокам тело уже разложилось. Но родные, не стерпев, распаяли гроб, а я как закричу: „Мама живая!“ Такой красивой я маму еще не видела – лицо румяное, свежее, и улыбка на устах. Вот уж воистину не смерть, а успенье.
На сороковой день я впервые съездила в церковь помянуть маму. А потом уж забыла про храм. Я ведь даже сына крестила случайно. Приехала в город Тулун навестить бабушку Зосю, а там церковь была. Бабушка Зося настояла: „Окрести Лёню. Он ведь такой больной!“ Я и вправду тогда боялась, что сын у меня, наверно, калека, а вырастет – будет на всю жизнь инвалид. После крещения „инвалидность“ исчезла. Но я теперь лишь задумалась – почему?»
После убийства мать специально поехала в Тулун, в ту церковь, где крестили сына и свершилось что-то важное, что ей хотелось понять. Там ей показали старинные синодики храма, где было множество женских монашеских имен, а также сохранявшиеся с той поры фотографии церкви с рядами монахинь подле нее. Разволновавшись, мать не спросила, был ли тут прежде женский монастырь или просто монашеская община. Ее поразило тогда, что уже крещение сына свершилось под тайным знаком монашества, и стало пониматься непонятное прежде: у всех ее детей нормальные семьи. И только самый ее красивый сын-первенец никогда не был женат.
Мать Нина вспоминает: «Он знал для девушек одно слово – сестра. Придет в клуб, девушки окружат его гурьбой: „Лёня, Лёничка пришел!“ А он им: „Сестренки мои, сестреночки!“ Нравился он девушкам и влюблялись в него. Одна девушка, зубной врач, уговаривала его: „Женись на мне, Лёня. Я тебе буду хорошей женой“. Я шутя говорю сыну: „Женись. Она мне зубы вставит“. – „Ага, – говорит, – она тебе зубы за месяц вставит, а мне за это до гроба с ней жить? Жена не палка, надоест – не выбросишь“. Уж как только его не пытались женить! Одна девушка к колдуну ходила привораживать сына и сказала ему: „Сделано тебе, запомни, сделано. Мой будешь или ничей!“ Не понимали его девушки. И я не понимала, что он лишь Божий, а больше ничей.
Сын был начитанный, работящий, непьющий. И местным парням было обидно, что девушки ставят его им в пример. Однажды восемь человек подкараулили сына ночью, повалили и избивали жестоко, а он лишь голову руками прикрывал. Сила у сына была немалая – мог бы, как следует, им надавать. Но характер такой – никогда не дрался и даже обиды ни на кого не держал. Только сказал наутро обидчикам: „Не умеете драться, а чего деретесь? Смотрите, на мне синяков даже нет“. Это правда – синяков на нем не было. Видно, Божия Матерь хранила его.
А незлобивым он был с детства. Помню, он так любил лошадей, что ради этого в подпаски пошел. У нас ведь в Сибири пасут верхами, и сын все каникулы пас коров. Я не нарадуюсь – зарабатывает, а мы бедно жили тогда. Останавливает меня однажды на улице председатель колхоза и говорит: „Пожалела б ты, Нина, сына. Да как ты его этому зверю-пастуху в подпаски отдала? Он же спьяну так бьет мальчонку, что ведь сдуру насмерть забьет“. О-ой, я бежать! Коров пасли далеко от деревни, и я пять километров бежала бегом. Смотрю, выезжает из леса на коне мой Лёня и спрашивает удивленно: „Мама, а ты чего здесь?“ – „По тебе соскучилась, сынок“. Молчим оба. А дома выбрала момент и спрашиваю: „Это правда, что тебя пастух бьет?“ – „Да ну, он отходчивый. Пошумит-пошумит и все“. Никогда он не жаловался и не роптал».
Позже в подпаски пошли младшие братья и рассказывали, что драчливый пастух уже больше не дрался, уважая Лёню. Так незлобие победило злобу.
* * *
«Замечайте события вашей жизни, – говорил преподобный Оптинский старец Варсонофий. – Во всем есть глубокий смысл. Сейчас они вам непонятны, а впоследствии многое откроется». И мать Нина, уверовав в Бога, стала заново пересматривать свою жизнь, понимая многое уже по-другому.
Мать Нина рассказывает: «Жили мы без Бога и с одной мыслью: как бы выбиться из нужды? Я работала уборщицей на четырех работах, а платье было всего одно. Постираю к празднику – вот и обновка. А Лёня был моей главной опорой, и мы, как две лошади в одной упряжке, тянули вместе большую семью. Бывало, приду с работы усталая, а сын мне белье стирать не дает: „Мама, давай я постираю. Ручищи у меня, смотри, какие огромные!“ И правда, так выстирает – добела, до хруста, что женщины дивятся.
В колхозе платили тогда копейки, и мы на август уходили в тайгу. У нас в сельпо принимали ягоды и соленые грузди по 50 копеек за килограмм. Мы с Лёней по 25 килограмм брусники в день из тайги выносили. А груздей нарежем – не донести. Тащим с Лёней на палках-коромыслах по четыре ведра каждый, и младшие дети сколько могут несут. На меня моя тетка, помню, ругалась: „До чего ты жадная на работу – ни себя, ни детей не щадишь. Одни мослы от детишек остались“. А мы, правда, выхудаем за сезон, зато детей обуем, оденем. И идут уже в школу нарядные мои труженики-ученики.
Порядок в доме был такой – каждому с утра даю задание: тебе дров наколоть, тебе хлев вычистить, а тебе воды наносить. Лёня был огонь – быстро все сделает. И рвется младшим помочь: „Мама, Лена еще маленькая. Давай я за нее работу сделаю?“ – „Сынок, – говорю, – а вырастет Лена ленивой. Кто лентяйку замуж возьмет?“ Гулять полагалось, когда дело сделано. А еще я почему-то боялась уличных компаний – мало ли что дети там наслушаются? Сперва наказывала, чтобы играли у себя во дворе. А потом и наказывать не пришлось – дети очень любили друг друга, и своего общества им хватало – все же пятеро.
Однажды соседка попрекнула меня: „Все картошку копают, а твои дети гуляют“. – „А чего им не гулять? – говорю, – вон с утра сколько выкопали! Не отстаем от людей вроде, а пока впереди идем“. Тут она как заплачет: „А мой сын лодырь – не хочет копать! Бью его, все руки отбила, а не любит работать и все“. А мои дети в работе были горячие, и свои праздники были у нас.
Я „докопки“ картошки всегда устраивала. Денег нет – займу, а накуплю подарков: арбуз, баранки, конфеты. Сын зароет подарки в конце последних борозд, а где что закопано, никто не знает. Тут не работа пойдет, а веселье, и все, как львы, рвутся вперед. А докопаем картошку до подарков, костер разложим, – вот и праздник.
Трудно жили, но дружно. Переезжали мы несколько раз. Я все „райское место“ искала, то есть где побольше земли. И вот земли у нас было уже 70 соток, свой хороший дом с усадьбой, а в усадьбе всего: коровы, свиньи, овцы, куры, своя пасека и моторка для рыбной ловли. Я в пекарне тогда работала – хлеб горячий всегда был к столу. Не нарадуюсь, что встали на ноги, а у Лёни грусть порою в глазах. Однажды сказал совсем непонятное: „Вот живем мы, мама, а как не живем. Неживые мы будто и давно умерли“. А я не пойму, о чем он? Хорошо ведь живем!
Не понимала я сына, конечно. Уж больно он книги любил читать! До утра, бывало, сидит за книгой, а у меня досада в душе. Сама я, пока не пришла к Богу, одну тоненькую книжку прочла. Названия не помню, про принцессу. А принцесса была такая несчастная, что открыла я книгу и про все позабыла: дети голодные, обед подгорает, а мне дела нет – так принцессу жаль. Не могла оторваться, пока не дочитала. И решила: нельзя мне читать – детей упущу, зарастем грязью. И не читала с тех пор ничего.
А Лёня все с книгой. И все ему мало! Я сержусь: „Что толку от книг? Одно мечтанье!“ У меня же свое мечтанье – поросят еще прикупить.
Запомнился случай. Лёне было 16 лет и поехали мы с ним на поминки. Народу съехалось много. Смотрю, старики окружили Лёню и с уважением слушают его. Я удивилась, а старики говорят: „Умный сын у тебя, Нина. Образование бы ему дать“. Дома рассказываю мужу: „Иван, говорят, сын у нас умный. Может, зря мы его затуркали с картошкой и поросятами“? А что мы могли тогда ему дать?»
После восьмилетки Лёня окончил железнодорожное училище, дающее одновременно образование за 9 и 10 класс, и до армии работал машинистом мотовоза. В армии он получил специальность электрика, а отслужив, устроился по этой специальности на траулер Сахалинского морского пароходства ловить рыбу. Отплавал пять лет, побывал в Северной и Южной Америке и в скандинавских странах.
Мать Нина вспоминает: «В плавание Лёня уходил на полгода, а в отпуск приезжал, как дед Мороз, – большой мешок за плечами и чемодан в руке. Вытряхнет вещи из мешка и скажет: „Вот – разбирайте. Шмотки привез“. Все заграничное, модное – нас оденет, и соседям подарки еще привезет. Народу набежит – все расхватают, а Лёне, смотрю, не осталось ничего. Мне обидно. Вот привез он себе из-за границы хорошую кожаную куртку и ходил в ней. Смотрю, уже выпросили куртку у него. „В чем ходить будешь? – говорю сыну. – У тебя даже куртки нет“. А он спокойно: „Ну нет и нет“.
Ничего ему для себя было не надо. Большую зарплату, какую получал в плавании за полгода, всю до копейки отдавал мне. Соседи удивлялись: „Он же взрослый человек. Ему и на свои нужды надо“.
Но Лёня иного порядка не признавал: „Мама, лучше я у тебя попрошу, если что надо“. Он очень старался помочь семье, видя нашу бедность».
«Мама, а почему ты говоришь про бедность? – удивился присутствовавший при разговоре брат о. Трофима Геннадий. – Ведь хорошо уже жили тогда». И Гена пустился в воспоминания, описывая рыбную ловлю с отцом на моторке, а главное – домашние погреба: «Окорока, мед, сало, сметана в кринках. Эх, сейчас бы поесть, как ели тогда!» Мать слушала, опустив голову. Это правда – был у них достаток, да все рухнуло в одночасье.
О покойном Иване Николаевиче Татарникове мать и дети говорят с неизменным уважением. Это был беззаветный труженик, отдавший все свои силы и любовь семье. Мать с отцом прожили вместе долгую счастливую жизнь, чтобы познать в итоге правду пословицы: «Счастье – мать, счастье – мачеха, счастье – бешеный волк». Они добились всего, о чем мечтали, когда Ивана Николаевича назначили завскладом. А на складе среди прочего выдавали дефицит – запчасти для бензопилы. «В тайге ведь у каждого бензопила, и Ивану самогонку чуть не за шиворот лили, – горюет мать Нина. – Он же сроду не пил, даже на собственной свадьбе!»
Беда вспыхнула, как пожар, и приняла такие масштабы, что дети уже заикались от страха, и пришлось им из дома бежать. Словом, был свой дом и достаток, а теперь была нищета и комнатка в 13 квадратных метров в мужском общежитии.
Все, построенное без Бога, однажды рухнет.
Теперь мать Нина это знает. А еще она знает и говорит: «Ивана надо было отмаливать, а я не умела молиться тогда».
Семейное горе оставило свой след в монашеской жизни инока Трофима. Он нес тайный молитвенный подвиг за людей, страдающих винопитием. И в Оптиной пустыни помнят, как к нему прибегали заплаканные женщины и, укрывая платком синяки на лице, шептали: «Помолись, Трофимушка. Опять гоняет!» Он вздыхал: «Ты и сама помолись». А наутро инока видели с покрасневшими от бессонницы глазами.
Есть в Козельске семья, за которую о. Трофим молился особенно много, история этой семьи – это история двух однолюбов, проживших 15 лет в разводе из-за запоев мужа. Верующая жена вместе с о. Трофимом несла подвиг молитвы за мужа, и Господь даровал ему исцеление. Муж крестился, и они обвенчались. Хорошая это семья, православная, а новомученика Трофима здесь почитают как святого.
Алексей – человек Божий
«Брат был человеком огромной воли и умел добиваться, чего хотел, – рассказывал Геннадий. – В любом деле он стремился достичь совершенства, а достигнув желанного, вдруг менял направление и брался за новое дело. Он всю жизнь чего-то искал».
Он искал некий высший смысл жизни, и мать вспоминает, что к любому явлению сын подходил со своим излюбленным вопросом: «Хорошо, а какой в этом толк?» В юности инок Трофим захотел повидать мир и повидал его. Но вожделенная заграница оставила в нем удручающее впечатление: та же жизнь без толку, но с бестолковщиной посытней.
«Жизнь у меня была тяжелая», – сказал инок уже в Оптиной, не рассказывая о себе больше ничего. А Геннадий, ходивший с ним в плавание два года на БМРТ «Кватангри», рассказывал, как нелегко доставались рыбакам большие по тем временам деньги. Гена принимал тогда на палубе сети с рыбой, и его израненные плавниками руки являли собой кровоточащую язву. «Гену жалко», – говорил дома о. Трофим. Сам же он в ту пору работал в морозильном цехе, укладывая штабелями упаковки мороженой рыбы. Это была монотонная работа на конвейере и однообразие нарушали только шторма. «Душно!» – сказал о. Трофим однажды. А вскоре нашел себе отдушину, увлекшись фотографией.
У святителя Григория Двоеслова есть мысль, что Господь дал нам две книги откровений – Библию и сотворенный Им Божий мир. И если пестрые портовые лавки оставили Трофима равнодушным, то величие Божиего мира потрясало его. И он с упоением снимал «море великое и пространное, тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими, тамо корабли преплавают» (Пс. 103).
При получении заграничного паспорта он сменил имя, сказав дома: «Мама, я теперь Алексей – человек Божий». Вряд ли это было явлением веры – православные люди не меняют имя, данное им при крещении. Но и атеист не скажет о себе, что он – человек Божий.
Рассказывает брат о. Трофима Геннадий: «Брат брался за любое дело с размахом. „Все, – говорил он, – надо делать на высшем уровне. А иначе какой толк?“ Фотоаппаратура у него была суперкласса, а еще он купил кинокамеру и уйму книг. Я просто содрогался порой – сколько же он денег тратит на книги! И покупал он не романы, а книги по различным отраслям знаний. Вот была у нас своя пасека – так ему мало меду наесться, но надо про пчел еще все знать.
Брат был мастером художественной фотографии, и его снимки публиковались в газетах.
Потом он сошел на берег, работал на железной дороге в Южно-Сахалинске и одновременно внештатным фотокорреспондентом в газете. Несколько редакций приглашали его перейти в штат, но в семье у нас тогда было неладно, и ради семьи он вернулся в Братск.
Здесь он устроился в фотоателье, но разочаровавшись, создал свою фотостудию. Снимать у нас толком никто не умел, а брат хотел, чтобы и в наших краях была своя художественная фотография. Вложил он в это дело немалые деньги. Надо было зарабатывать, а заказы шли однотипные – фотографии на паспорт. Тогда как раз паспорта меняли.
И брат бросил это дело, передав фотоаппаратуру мне. С тех пор вот уже пятнадцать лет я снимаю по субботам свадьбы в ЗАГСе».
– Гена, а смог бы Трофим пятнадцать лет снимать свадьбы?
– Нет, он всю жизнь чего-то искал. Я даже все его профессии назвать затрудняюсь. Уж чего он только не перепробовал и в каких только секциях не занимался: яхты, борьба, каратэ, школа бальных танцев, народных танцев. Между прочим, пластика у брата была такая, что он даже в тридцать лет без растяжки садился на шпагат, и менеджеры уговаривали его перейти на профессиональную сцену. По своим дарованиям он мог бы достичь многого. Характер был сильный, и хватка деловая. А он искал, как голодный: в чем же смысл всего?
Душа искала Бога, еще не ведая о том.
«Мама, надо детей спасать», – сказал Трофим, вернувшись домой и увидев заикающихся от страха сестренок. Он перевез семью в Братск в общежитие, взяв на себя отцовский крест кормильца.
Рассказывает мать Нина: «Жили мы, с дочками в мужском общежитии. Я ради комнатки работала там уборщицей, а ведь в мужском общежитии пьют. Лена была еще малышкой, а Наташа была уже красивой девушкой и заглядывались на нее. Прихожу с работы, а Наташка ревет: „Лёня – говорит, – меня отшлепал“. Оказывается, нарушив его запрет, она пошла в комнату к мужчинам играть в карты. Там же нетрезвые бывают, а наша девица с ними сидит!
В общем, Лёня так поставил, что никто из мужчин к нам на порог не входил, и наши девочки мужского общежития на знали. И люди нас уважали за то. Слава Богу, девочки выросли скромными и в целомудрии замуж пошли».
Рассказывает сестра о. Трофима Наталья: «С одной стороны, брат нас с сестренкой баловал и покупал нам красивые модные вещи. А с другой стороны, у него были свои представления о том, что можно, а что нельзя девушке. Помню, я уже работала, считая себя „самостоятельной“ и обижалась на требования брата приходить домой не позже 8–9 часов вечера. Но ослушаться я не смела, зная, что как стемнеет, брат выйдет меня встречать. Он берег нас от нечистоты.
Брат очень хотел, чтобы у нас были настоящие хорошие семьи, а сам даже девушки не имел. Многим он нравился и легко знакомился. А через несколько дней говорит: „Не надо мне это. Но как объяснить?“ По-моему, он так и родился монахом. Внешне брат был веселый и общительный, но очень сдержанный и целомудренный изнутри.
Брат никогда не ходил на дискотеки, хотя танцевал замечательно. В юности мы занимались с ним вместе в школе бальных танцев и брали в паре призы на конкурсах. Однажды менеджер предложил нам с братом заключить контракт для выступления на профессиональной сцене, но мы с Лёней только переглянулись и заключать контракт не пошли. Вспоминаю нашу юность и вижу одну картину – Лёня все время над книгой сидит. У него даже прозвище было в Братске – „букинист“».
Рассказывает брат о. Трофима Геннадий: «Разочаровавшись в фотографии, брат затеял новое дело – шить обувь. Хорошей обуви в Сибири тогда не было, как, впрочем, и плохой. И брат решил шить фирменную обувь. Купил специальную машинку, а уж модной фурнитуры и дратвы припас столько, что у меня до сих пор дома его ящики стоят. Для начала он устроился в обувную мастерскую, и вскоре весь город к нему в очередь стоял. Вкус у брата был хороший, а уж выдумщик он был такой, что принесут ему развалившуюся обувь, какую и в починку нигде не берут, а он новые союзки поставит, аппликации вместо заплат. Фурнитуры модной подбавит. И выходила из старья обувь прочнее и наряднее новой.
Работать он умел, а коммерсант из него был никакой. Говорю это как человек, которого нужда заставила заняться коммерцией и у которого свой магазин автозапчастей. Брат думал о ином – как людям помочь. И пока другие сапожники копейку гонят и десять пар перечинят, брат, смотрю, одну пару вылизывает. Я уж не говорю о том, что дома он всем соседям чинил обувь бесплатно».
Рассказывает мать Нина: «Первые сапоги сын сшил мне. Уж до того нарядные вышли сапожки! А такие прочные, что и поныне целые. Правда, я на каблуке уже не ношу. Одной бабушке сшил сапоги, так она за него все Бога молила: „У меня, – говорит, – такой хорошей обуви за всю мою жизнь никогда не было. Спаси, Господи, мастера!“
Пошла о сыне слава по городу, и люди даже издалека к нему обувь в починку везут. Приходят в мастерскую и просят: „Позовите мастера Татарникова“. А к другим мастерам не идут. Стали мастера попрекать сына: „Что ты, как дурачок, с одной парой возишься? Ты сделай по-быстрому, чтоб дольше месяца не держалось, а там опять чинить принесут. Так ты нас всех без работы оставишь“. А сын так не мог.
Начались конфликты из-за того, что все стремятся попасть к Татарникову. Приходит сын однажды с работы совсем тихий и говорит мне: „Видно, надо мне, мама, уходить из мастерской. Обижаются на меня мои товарищи, и нет мира у нас“. Рассудили мы с ним, что мир все же дороже. И сын стал дома шить унты на заказ, а для трудового стажа устроился скотником на ночные дежурства.
Платили тогда скотникам копейки, и на эту работу лишь пропащие шли. Другие скотники выпьют бутылку и спят всю ночь. А Трофиму коровок жалко, и до чего ж он работать любил! Ферма у него блестит, коровки веселые. Стали доярки Трофима нахваливать, а скотников ругать: „Один Татарников за вас всю работу делает. А вам, лодырям, лишь бы пить да спать!“ Скотникам теперь житья не стало, и говорят они сыну: „Нашелся дурак за копейки вкалывать? Уходи, пока цел“.
Господи, думаю, да что за горе? Руки у сына золотые, и на работе им не нахвалятся. А везде он в итоге „дурак“. У нас одни родственники богатые даже говорили: „Таких дураков, как он, у психиатра надо лечить“. Это теперь о Трофиме песни поют и стихи складывают. А сколько мой сыночек при жизни вытерпел лишь за то, что работать любил».
Вместо комментария к этой истории расскажем притчу ярославского мастера Егорова, изготовляющего старинные изразцы для церквей. Церковные изразцы всегда делали с румпой-насадкой с обратной стороны, и такие изразцы держались веками. Но начальство Егорова решило, что возиться с румпой невыгодно, а прибыльней поставить на поток современные плоские изразцы. Мастер Егоров обычно настолько молчалив, что многие считают его немым. Но тут он рассказал притчу: «Обиделась Совесть, что ей тяжелее всех жить на белом свете, и дала себе потачку на копейку. Раз на копейку, два на копейку. Идет однажды Совесть по улице и слышит кричат: „Эй, бессовестная!“ Обернулась Совесть, а это ей кричат».
У архиепископа-новомученика Феодора (Поздеевского) есть объяснение, почему в мире царствует культ развлечений: «Значит, произошел в греховной жизни человека разрыв идеи труда, который законен и обязателен для человека („делати рай“), с идеей удовольствия от труда. Греховный человек трудится неладно, а потому ищет развлечения, как отдыха от труда». Вот примета нашего века – гигантские свалки еще новых, но уже негодных вещей, а рядом супериндустрия развлечений.
Как же трудно иным прийти к Богу из-за выжженной, оскверненной совести! И как искала Его чистая душа Трофима, уже зная, что за все, что сделано не по-совести, надо будет держать ответ.
И все-таки ему предстояло еще перемучиться в миру, изживая в себе его иллюзии. Вот одна из таких иллюзий: мир духовно болен – душа это чувствует, а люди все настойчивей ищут целебные снадобья и «здоровую» пищу, надеясь через плоть исцелить изнемогающий дух. Трофим увлекся, было, таким «оздоровлением» и даже бросил есть мясо. Но как-то из интереса он раскрыл книгу «целителя» и, обнаружив, что это магия, тут же с отвращением захлопнул ее. «И все же наелся, как жаба, грязи», – рассказывал он потом в Оптиной.
Не миновала его и та модная ныне религия чрева, когда голоданием «очищаются» от страстей. Мать вспоминает, что в комнате у сына висел график, по которому он голодал дважды в месяц по десять дней подряд, надеясь бросить курить. «Курил он чуть ли не от первого класса, – рассказывала мать, – но даже взрослым при родителях курить стыдился. Помню, уже после армии он возил зерно на ток, а я увидела его с сигаретой. Подошла сзади и говорю: „Татарников, оставь докурить“. Он вмиг спрятал сигаретку. А сам так покраснел, что мне неловко стало. Чего уж, думаю, взрослого человека в краску вгонять? „Ладно, кури уж“, – говорю ему дома. А он: „Брошу“. И он „бросал“, голодая по двадцать дней в месяц». Жесточайший эксперимент дал один результат: кожу на лице обтянуло так, что проступал череп, а бросить курить он не смог. Так попустил Господь для смирения человеку с «железной» волей, и уже в Оптиной он говорил: «Надо было поститься, а я голодал».
А курить Трофим бросил так. Уверовав в Бога, он являл такое усердие к церкви, что его пригласили прислуживать в алтарь. Но учуяв запах табака, священник сказал, что надо выбрать: Бог или табак. И тогда по молитве и силою Божией была разом отсечена многолетняя страсть.
Инок Трофим называл сигареты «трубою сатанинскую». А быв искушенным, смог и искушаемым помочь. Один послушник рассказывал, что, приехав в Оптину паломником, он убегал в лес покурить. Он молился на могиле инока Трофима об избавлении от страсти, и тот явился ему во сне, сказав грозно: «Ты что мою могилу пеплом посыпаешь?» И послушник пережил такой страх, что тягу к курению как рукой сняло.
Известен и другой случай – на могилу к иноку Трофиму приезжал его земляк, рассказав о себе, что раньше он сильно пил и курил. После убийства Трофим явился к нему во сне и сказал: «Я молюсь за тебя, а ты меня водкой поливаешь и пеплом посыпаешь». К сожалению, фамилию этого земляка не догадались записать, но человек специально приезжал из Сибири, чтобы поблагодарить за исцеление.
Рассказывает мать Нина: «Ох, и поездили мы на Трофиме, а он безропотно тащил тяжкий воз. Помню, увезли в роддом жену брата Сани, а бедность была такая, что пеленки не на что купить. И вдруг приходит от Трофима огромная посылка с полным приданым для девочки. Все розовое, нарядное. Мы радуемся, но и дивимся, а как он угадал, что девочка родится?
Покупал он все с размахом. Белье обветшало – тащит тюк простыней. Квартиру получили – купил тюк темно-розового шелка на шторы. Богатые шторы, нарядные. „Дорогие, поди?“ – спрашиваю сына. „Не знаю. Красивые, вот и купил“».
Вся молодость Трофима ушла на то, что он называл без прикрас: «жратва и шмотки». Но он самоотверженно нес этот крест, надеясь, что встанет семья на ноги, а там уже останется одна забота – душа. Между тем, уже отыграли свадьбы младшим и получили квартиру. Но для новой квартиры нужна была новая мебель, а еще вон как дорожает колбаса! И любимый вопрос Трофима: «Какой в этом толк?» – имел уже точный ответ: беличье колесо материальных забот будет неостановимо вращаться, пока его не остановит стук молотка по гробу.