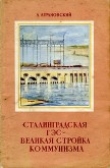Текст книги "Нам нужна великая Россия (СИ)"
Автор книги: Николай Андреев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Что ты здесь делаешь? – подбежал к любимой Ходнев.
Она выглядела – внешне – спокойной, разве что прядки ее каштановых волос в беспорядке выглядывали из-под теплой шляпки. Но Ходнев-то знал, что это она хотела такой казаться, но готова была разрыдаться от треволнений здесь же.
– В казармах москвичей, – Московского полка, – бунтовщики вовсю орудуют. Какие-то люди, говорят, громят офицерские квартиры. Все – с красными бантами. Марго и Светлана перепуганы не на шутку. Я с маленьким перебираюсь к Валуевой, ты же помнишь, где... – Ходнев кивнул, давая знать, чтобы жена не теряла времени. – Да, так вот. Я спрячусь там, у них тихо. Присяжных поверенных ведь пока не трогают, они же, вроде, за «красных».... За Думу...Прощай! Береги себя!
– Прощай! Скорее, пока улицы не наполнились восставшими, – Ходнев перекрестил на прощание сына, благодарно положил руку на плечо Мазайкину, и...
И через мгновение уже выслушивал доклад о двигавшейся по Николаевской набережной толпе. Вскоре они должны были оказаться у здания казарм.
– Ну уж как с москвичами– не выйдет. Шалят, – сквозь зубы процедил Ходнев и начал отдавать приказы.
В считанные минуты поперек набережной выросла оборонительная цепь. У самых зданий и на самых гранитных невских ступенях расположились пулеметные команды с «шошами». Была бы не такая гадость, а хотя бы «виккерсы»! Ходнев махнул рукой. Уж и это хорошо, а то ведь могли этак дать митральезы. На восемнадцатой линии учебные команды кидали поперек улицы мешки, тащили шкафы, стулья, все, что только годилось – а порой даже не годилось – для баррикад. Петров, из крестьян, навострился даже пустые патронные ящики разламывать надвое, так, чтоб они казались как можно более широкими.
Рыкнул мотор: со стороны Тучкова моста ехал грузовик. Ходнев приказал взять ружья на изготовку, опасаясь худшего, но, разглядев махавшего из кабины фельдфебеля Грязного, успокоился. Это, видимо, был тот самый «трофейный» грузовик, – Грязной отправился вместе с отрядом Каменского к Тучкову мосту.
Грузовик с трудом объехал еще не охватившую всю улицу баррикаду, и, рыкнув, остановился. Выбежавший из кабины Грязной помчался, точно черти ему пятки жгли, к кузову. Оттуда уже выталкивали двух людей в...
Ходнев, воевавший на Юзфронте, тут же узнал пусть потрепанные, полинявшие, – австрийские шинели. По виду это были военнопленные. С красными бантами на рукавах.
– Ваше Высокоблагородие, а мы австрийца взяли! – радостно гаркнул Грязной.
Фельдфебеля ранили месяца три назад, а до того он успел повоевать рядовым в последние недели Луцкого прорыва. Так что к австрийцам у него были очень теплые чувства, можно даже сказать, горячие: он их в аду видал. Во всяком случае, военных.
– Эти шли впереди бунташных, за офицеров у них, что ли, – и добавил в сторону австрийцев: – Ну, брат, давай, давай. Сейчас тебя хорошенько расспросят. Рад, небось, к нашему-то брату, русскому, сам-друг попасть в плен?
Тот австриец, что повыше, презрительно отвернулся.
– Во, рад! Иди, давай, иди! И ты тоже, – подтолкнул фельдфебель и второго австрийца, того, что пониже.
Они шли, в своих измятых, латанных-перелатанных шинелях, с гордостью и вызовом. Каждый шаг их словно бы говорил: «Ничего, пройдет еще немного времени, – и а все поквитаемся. И ты, гнусавый, будешь рад, что мы тебе кидаем кусок заплесневевшего хлеба...».
***
Петроградское губернское жандармское управление сверкало огнем. Именно огнем, а не огнями: его помещения занялись от сжигаемых секретных документов. Люди разбились на кучи, во главе каждой – «вождь», из тех, кого днём высвободили из «Крестов». Вот и этой толпой, что жгла бумаги в угловом кабинете западного крыла, верховодил «крещеный». Небритый, во френче с потертыми отворотами, чуть-чуть сутулившийся, он выделялся в толпе только лицом. Из него сквозила не радость даже, а удовольствие. Он с особым размахом, но редкой методичностью, которой отнюдь не мог похвастаться всякий русский человек, выдергивал со своих мест коробочки с карточками и бросал их в полыхающий тут же, в углу, костром. Языки пламени лизали уже обои, на которых проступала более темное пятно – пустота на месте сорванного портрета государя. Его бросили первым. Ну, точнее, первым после одной коробочки с карточками на букву "Г". Продержав на втянутых руках ее над пламенем костра, «вождь» одумался и прижал, как драгоценность, простую коробку к груди. Кивком головы он дал знать, что пламени можно отдать все остальное.
Едва он вышел, как столкнулся в коридоре с картины, которая должна была бы показаться невозможной не просто неделю или год назад, а едва ли не утром. Двое..."Вождь" присмотрелся, – трое! – людей в рабочих тужурках держали престарелого, наверное, шестидесятилетнего, может, семидесятилетнего генерала. Даже скрученный по рукам и ногам, он с нескрываемой гордостью и уверенностью смотрел на восставших.
– Ну, как, сладко, в путах-то? – осклабился «вождь».
Памятуя о месяцах сидения, все еще ежась от холода каменного мешка, он наконец-то мог выместить свой гнев. О, как часто в голове своей он прокручивал картины отмщения. И – вот – замечательный шанс! Генерал «охранки»! Да ещё гордый, такой гордый и уверенный. На таких вымещать особенно приятно, смотреть, как лица их искажаются, как в глазах появляется страх, как напускная бравада стирается кровью.
Генерал хмыкнул и надтреснутым голосом ответил:
– Боевой пост всегда приятен, – только и ответил он.
Лицо его казалось «вождю» не свиной даже, – кабаньей маской. Кабан этот щерился и хрюкал над ним. Рука сама собой обрушилась на оскаленную морду. А потом еще раз. И еще. И еще. Потом на эту же морду посыпались удары. И мощный удар грузной ножици, прямо под ляжкой. Хрустнула свиная кость, раздался сдавленный, едва слышный визг. «Вождь» все б ил и бил, хоть тушу и волокли на улицу. Там, на улице, по туше били прикладами. Но чертов кабан перестал хрюкать: он умирал молча, старый, седой кабан, с какими-то совершенно человеческими глазами. Когда туша, разом напрягшись, всеми клеточками одновременно, почти тут же расслабилась – в глазах ее, столь ненавистных ему буркалах, застыло...Что же? Какая-то...вера? Какая может быть вера у кабана, старого хряка? А ведь что-то же было...Но во что вера-то?
«Вождь» отвернулся, не в силах выдержать этот взгляд. Даже коробка с заветной карточкой более не радовала душу...
***
Из рук в руки переходила листок плохонькой бумаги с надписью химическим карандашом. Надпись гласила, что необходимо «всю полицию» арестовать. Подпись – Временный комитет Государственной Думы – развеивала все сомнения. Арестовать – это запросто, этого давно все ждали...
Николай Егорович Врангель смотрел, на всякий случай прижавшись спиной к сене, из окна в едва-едва освещенный дворик. Дом замер в ожидании, а потому было прекрасно слышно, что же творится там, внизу...
Толпа, разношерстная – в неверном свете Врангель разглядел студенческие мундиры, солдатские шинели и очень даже порядочные шубы – разлилась по мостовой. Волны этой толпы рванули в дверь. Послышались крики, окрики, возгласы, вздохи. Человеческое море зашумело, заколыхалось, готовясь разродиться штормом. И точно, – шторм грянул.
Из дверей, под свист и улюлюканье, вы толкнули человека...А точнее даже, женщину, в одном только домашнем платье. Она изо всех сил прижимала к себе двух детей. Что это были дети, Врангелю было видно хорошо: троица оказалась в световом пятне от горевших на третьем этаже окон. Но оттого обступившие ее люди казались страшнее, черней. Будто бы сама тьма обступила лучик света и вот-вот готовилась его поглотить.
– Ну, где муженек-то? А? – окликнула тьма.
Николай Егорович слышал все это явственно, точно стоял там...Но только...В пятне или во тьме?..
– Не знаю, – было ответом.
Женщина только прижала к себе детей. Что то были именно ее дети, сомнения не было: к кухарке, к служанке или даже к няне не станут так тесно прижиматься. Ручки их, совсем маленькие, хватались за полы платья, точно это был самый что ни на есть прочный щит в этом мире, да и во всех иных мирах – тоже. Врангель это видел хорошо, а может, и воображение чего-то подрисовало.
– Муж-то где? А?! Вот сволочь, молчит! – тут же раздался еще более высокий и нервный голос.
– Ну ежели мужа нет, так мы с нею! Тут! С нею! – кричала какая-то старуха, расположившаяся у самого края пятна, на ступенях парадной.
Что-то сверкнуло – и обрушилось на голову женщины.
Она припала на колено, а кровь хлынула из р аны на голове на платье и на детей. Те принялись плакать, надсадно, еще не успевая понять, что же именно творится, но чувствуя, что матери делают плохо.
Снова сверкнуло. Врангель сумел разглядеть в руках у той старушки кочергу с шаром на конце. И шар этот, чугунный, должно быть, снова опустился на голову женщины...
Она упала на брусчатку, уже очищенную десятками ног от снега. И что-то темное стало обтекать ее, но не столь же темное, как толпа вокруг.
Тьма...О, нет, не тьма, – люди, сами люди завопили и заулюлюкали радостно, подзуживая храбрую, «сознательную» старушонку.
– Так их!
– Растак!
– И этак!
– Эва как идет!
– Да!
– А эти чем лучше? – завопили из толпы.
И тут же новые крики одобрения.
Мальчиков, смешно обхвативших руками побелевшую мать, попытались растолкать ногами. Но в их ручках в тот момент нашлось столько силы, что вся толпа, даже целых десять таких толп, не смогли бы эти ручки оторвать от мертвой матери.
И тут последовал удар ногой Кто-то из толпы принялся бить каблуком, тяжелым таким, солидным, хорошим, по темечку того мальчика, что поменьше. И...
Меньше чем в минуту, да что там, в се кунд десять, много, пятнадцать, все закончилось. На брусчатке остались лежать три трупа: матери – и двух мальчиков, не юношей даже, у одного из которых каблуком был раскроен череп.
Николаю Егоровичу та сцена врезалась в память до конца своей жизни. Но потом, в мемуарах своих, не лишенных даже известной доли рефлексии, он боялся дать себе отчет: а отчего же он только смотрел, но ничего не сделал, чтобы не мать. Так дети хотя бы остались жить?
И, верно, никто уж не вспомнил, что в руке у той женщины была зажата бляха с отчеканенным числом шестьсот шестьдесят семь...
Глава 5
В настоящее время я утверждаю, что Государственной Думе,
волею Монарха, не дано право выражать Правительству
неодобрение, порицание и недоверие. Это не значит, что
правительство бежит от ответственности. Безумием было бы полагать,
что люди, которым вручена была власть, во время великого
исторического перелома, во время переустройства всех
государственных, законодательных устоев, чтобы люди, сознавая
всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали и
тяжести взятой на себя ответственности, но надо помнить,
что в то время, когда в нескольких верстах от столицы
и от Царской резиденции волновался Кронштадт, когда
измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край,
когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе,
когда остановилась вся деятельность в Южном
промышленном районе, когда распространялись
крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор,
правительство должно было или отойти и дать дорогу революции,
забыть, что власть есть хранительница государственности и
целости русского народа, или действовать и отстоять то,
что было ей вверено.
П.А. Столыпин
Со всех концов города стекались новости, одна другой хуже. Телефонный аппарат буквально разрывался в первые полчаса. Однако потом будто бы все отрезало. Сперва Столыпин даже не понял, что же изменилось. А потом замер на мгновение, – и произнес:
– Тихо...телефон не звонит... – многозначительно произнес, словно бы ни к кому конкретно не обращаясь, премьер-диктатор.
Балк снял трубку:
– Барышня! Барышня! Двести двадцать три, будьте любезны, – молчание. Он вслушивался в голос из трубки. – Это Балк. Да-да, он самый.
Брови градоначальника разошлись: Александр Павлович ненадолго расслабился. Однако пальцы, зажимавшие ремень (по старой, обер-полицмейстерской еще, привычке), были все так же скрючены волнением. Балк подозревал нечто неладное. И пусть в предыдущие дни чутье совершенно подвело его! Но уж сейчас, когда опасность грозила ему самому, все чувства, вплоть до седьмого (исключительно "сыскарского"), напряжены оказались до предела.
– Алло! Казармы лейб-гвардии Финляндского полка? Что? Нет? А кто? Магазин мсье Эркюля? Пардон, мсье!
Балк не положил даже, бросил трубку, чтобы тут же ее поднять снова.
– Барышня! Барышня! Это Балк! Да, градоначальник Петрограда! Соедините меня с казармами лейб-гвардии Финляндского полка! То есть как не можете? Я Вам приказываю!
Он отдёрнул руку с зажатой трубкой. Насупленные в ярости брови делали лицо его, от природы обаятельное, карикатурой. Указательной палец левой руки нещадно барабанил по застежке на поясе. Звук этот, по-видимому, еще более раздражал градоначальника.
– Говорило мне мое сыскарское чутье: надо городовых не только вождению трамваев обучить, но и телефонному делу...Не подвело чутье, клянусь Богом!
Балк в третий раз повторил действо с трубкой. Только на этот раз голос его был уже не просто властным, но яростным: так хозяин дома обращается к затеявшему кутеж у его калитки оборванцу.
– С Вами говорит Балк! Что у Вас там происходит?
Похоже, ему дали ответ: градоначальник выпучил глаза. Из бледного лицо его стало кроваво-красным, а ноги даже подкосились. Он словно бы не присел, а сполз по враз сгустившемуся воздуху. Рука его, сведенная судорогой, так и повисла плетью на телефонной трубке.
– Господа, а у них...уже революция свершилась...Ха! Революция...свершилась...У них!
Говорил он это, тоже ни к кому особо не обращаясь, – или скорее обращаясь к пустоте. Перед глазами его пронеслась служба в Ладожском и Волынском полках, Варшаве, здесь, в Петрограде, – и врезалась, да больно так, с треском и "звездами", в ответ "барышни".
– Революция...У них...
И вот к нему, человеку, за четырнадцать лет привыкшему к подчинению (и собственному, и чужому), пришло вдруг осознание: это конец. В считанные дни все оказалось потеряно. Вся его борьба с забастовками, проблемами с горючим и нехваткой продовольствия, – все это оказалось перечеркнуто простой фразой телефонистки: "У нас? Революция!". И он сейчас не мог ничего поделать, потому что человек на той стороне провода был совершенно уверен в своей безнаказанности и, кажется, даже в печальном конце градоначальника вместе со всем "гнилым режимом".
Напротив градоначальника, по ту сторону рабочего стола, застыл Хабалов. Подбородок вновь – самым предательским образом – у него затрясся. Тот глоток уверенности, что был подарен Столыпиным и напитал его нервы, – оказался испитым до дна. И даже медали и ордена, что сейчас украшали мундир Хабалова, потемнели, поблекли, посматривая на своего обладателя эмалью на кресте...
Столыпин уверенно подошел к телефону. Он протянул руку, и скрюченные пальцы Балка разжались, высвободив трубку.
Глаза его сузились. О, нет, не только веки были тому виной: казалось, сами зрачки обратились в крохотные точки, – или, может быть, виною тому был неверный свет электрической лампы? Желваки играли на его лице, и только: в остальном же он казался убийственно, мертвенно спокойным. Таким его запомнили депутаты второй Государственной Думы в пору его самых "острых" речей.
– Алло! Барышня? Казармы лейб-гвардии Финляндского полка, будьте добры. Кто говорит? Столыпин, Петр Аркадьевич, премьер. И когда поспешите бросить трубку, помните: я наведу в городе порядок. Всеми средствами, – он подождал секунду-другую, чтобы осознание только что сказанных им слов вкралось в самую душу, и добавил: – Соединяйте с казармами.
Кто знает, что за чувство, какой порыв тогда руководил телефонисткой? Быть может, и в ней заговорила привычка подчинения? Или повлияла память о "галстуках", чей творец сейчас с таким спокойствием, от которого веяло могильным (кто знает, вдруг – буквально?) холодом? Кто знает, кто знает...Но "барышня" все-таки сочла за лучшее сделать свою работу так. Как должно.
Он не улыбался, не ликовал, только грустно смотрел вдаль.
– Алло! Финляндский полк? Это Столыпин.
Тут ему в голове внезапно пришла мысль: "А зачем, собственно, Балк звонил финляндцам?..". Но идея пришла раньше ответа.
– Кто сейчас командует запасным батальоном? Полковник Дамье? Дамье...Хорошо, вызовите его к аппарату. Срочно.
Балк за эту минуту преобразился. Из разбитого осознанием бессилия человека, он вновь облекся в личину властного градоначальника. В его глазах появился блеск. Но стоило только присмотреться, – и сразу же можно было понять: то блеск человека, зажатого в угол и готового броситься в свой последний бой. А уж тем более вместе с переходом на особое положение все полномочия градоначальника переходили военной власти, так что...Так что лишь память о месяцах начальствования теперь удерживали Александра Павловича от потери веры в себя. Но и она, как подтвердил телефонный звонок (точнее, его попытки), оказалась чрезвычайно призрачной и ненадежной.
Хабалов в ту минуту прислонился спиною к стене, надеясь холодом успокоить свои вконец растрепанные нервы и унять – хотя бы на мгновение, на мельчайшее и самое неуловимое мгновение – обезумевший подбородок. Но давалось ему это...А, впрочем, не давалось ему это вовсе. Его уверенность в себе, подпитывавшаяся привычкой подчинения, точно такой же, как и у Балка, оказалась поколебленной. Медали и ордена давили на сердце, воротничок душил. Но глоток воздуха удалось-таки сделать, едва Столыпин продолжил телефонный разговор.
– Полковник! С Вами говорит Столыпин. Мне поручено...А, Вы знаете? Тем лучше. Как у Вас обстановка? Что, пленные? Австрийцы? Нет, мотор не приезжал...Может быть, еще движется к нам. А нет – так нет. Дело принимает нешуточный оборот? Полковник, Вы знаете, что мне переданы полномочия и в отношении военных частей? Замечательно. Собирайте всех офицеров и нижние чины, огнеприпасы, оружие, паек, – и двигайтесь...Да, собирайтесь у Зимнего. Не уверены в своих людях? У нас нет других людей, господин полковник. Будем обходиться тем, что есть. Благодарю!
Столыпин повесил трубку. Он почувствовал гудение в голове. Горький ком застрял в горле, никак не желая исчезать. Да, двенадцать лет назад сил у него было много больше, чем сейчас...И он не мог целый день бегать как молодой поручик, не чувствуя усталости. Тяжесть навалилась на сердце. В глазах потемнело: старые раны давали о себе знать. Ха! Даже раны у него – и те старые!.. Не дай Бог им помолодеть!..
В комнате потемнело (хотя виной тому могло быть простое отключение электричества), а лица Хабалова и Балка приобрели бледный до желтизны...А, нет, все-таки желтый оттенок. Стены покрылись плесенью, бахрома которой протянулась к столу, и своими лоскутьями гребла в сторону людей. Столыпин присмотрелся: желтизна на лицах Балка и Хабалова напоминала...Что же напоминала-то она?.. Точно! Старый сыр, твердый, грязно-желтый, даже коричневый, который нельзя было ни съесть, ни пустить на добро дело, – только выкинуть. И вот плесень покрыла их лица, лезла в глаза, черные как смоль, больные, измученные. Да они сгнили изнутри!
Столыпин боялся двинуться с места. А что, если он выйдет в коридор. И увидит? Нет, нет! Не все же! Как эти! Не все! Петр Аркадьевич скосил взгляд на покрытое морозными узорами окно. Он видел очертания своего лица, и видел, – и боялся этого, но пытался разглядеть получше. Какой же у его лица цвет? Но там, в окне...Оно как раз выходило на Александровский сад...
Стены крутнувшегося кабинета обрели свой былой цвет: мертвенная, гнилостная желтизна оказалась не в силах противостоять багровому цвету снегопада. Там, в саду, шел бой между отрядом Кутепова и восставшими. Стрелки прятались за деревьями, заборами, даже мало-мальски плотными сугробами, – и отстреливались от наседавшего...кого? Противника? Но противник-то был на фронте, а здесь, среди студентов, рабочих, вчерашней (даже сегодняшне-утренней) черни сновали свои же товарищи, те, кто недавно стоял в соседнем карауле... Разве ж могут быть все эти люди– врагами? Но Столыпин знал, что могут. Он помнил московские баррикады, Свеаборг, саратовские "иллюминации". А еще Столыпин знал, нет, даже чувствовал: им не удержаться в градоначальстве.
– Генерал, – он обратился к Балку.
На Хабалова надежды не было: если он за предыдущие часы не придумал ничего лучше, как отсидеться в градоначальстве, значит, и сейчас ему ничего лучше в голову не пришло бы.
Столыпин склонил голову над все еще уставившимся в пустоту своего прошлого Балка и коснулся рукой его левого плеча. Генерал вздрогнул и немигающими глазами, красными от усталости, влажности всмотрелся в премьера. Он все так же гибло скрюченной рукой рванул за воротничок, душивший его как...как некий "галстук". Не по глазам даже, по скованному судорогой горлу видно было, что Александр Павлович думает о фонарях и "галстуках", о, тяжело и одновременно сладостно думает. Этакий "галстук", с простеньким, в общем-то, узлом, казался ему в тот момент оптимистичным выходом. Но какой же, спрашивается, это оптимистичный?.. Балк, "старый" полицмейстер, знал, что могут быть плохие выходы, очень даже плохие, когда куски Вашего обезображенного тела собирают по мостовой, или когда кожу на спине Вашей нарезают на ремни. Последнее ему пообещал беглый каторжанин, из эсеров, поимкой которого он занимался первые "варшавские" месяцы службы. Он помнил эту обезображенную яростью и ненавистью ухмылку и горящие верой глаза: верой в собственные слова о том, что "революция с Вас, падальщиков, срежет для эксплуатируемого трудового народа ремни. Много ремней! Много-много!..". Слова те запали в душу Балку. И вот он уже представлял, как десятки, сотни таких беглых каторжан выбегают с радостным воплем из распахнутых ворот "Крестов"...
– Господин генерал! – уверенный и требовательный призыв Столыпина вернул Балка в реальный мир.
Ну то есть в мир реальности кошмаров...
– Да, Петр Аркадьевич! – Балк рывком поднялся со стула.
– Сообщите подчиненным, всем, кого только встретите в здании, что мы уходим к Зимнему дворцу. Будем пробиваться через...– Столыпин сумел удержаться и не взглянуть в окно вновь. – Александровский сад. Иного выбора у нас нет. А там, Бог милует, и продержимся. Нам только продержаться бы! Я уверен, что верные части уже посланы с фронта. Нам бы продержаться!
– Конечно. Петр Аркадьевич, – Балк кивнул.
Словно какая-то пелена спала с его глаз, а судорога разжала свои холодные пальцы. Он спохватился, сделал, что только мог, дабы привести воротничок в порядок, цокнул сапогами по паркету, – и, сколь возможно быстро позволяло его звание, выбежал из кабинета. Всем встречным он передавал приказ собираться на улице у дверей градоначальства.
Кончик эспаньолки Сергея Семеновича, кажется, совершенно поседевшей за тот вечер, наконец-то престал дрожать. Это был верный признак того, что Хабалов приходит в себя, пусть и ненадолго.
– Сергей Семенович, прошу, тоже спускайтесь. Я сделаю все необходимые...– Петр Аркадьевич покачал головой. -А точнее, возможные, звонки, и присоединюсь к Вам.
Хабалов вытянулся и застыл на мгновение. По привычке, старой, старой, он потянулся было взять под козырек, но вовремя спохватился. Ведь перед ним лицо не воинского звания! Хотя... Лицо в то же время начальствующее... В этих размышлениях пытался он сокрыть свое волнение, спрятаться в уютный и привычный мирок хоть ненадолго. Но Сергей Семенович был достаточно умен, чтобы понимать: тщетно. Все тщетно. Рушится мирок! Висеть им на фонарях, всем, всем висеть!
Не успел Хабалов развернуться, как Столыпин уже вновь взялся за проклятую трубку. А после – хлопнул себя по лбу. У них же ведь есть прямой провод с Зимним! Ну конечно!
Петр Аркадьевич тут же, едва ли не обогнав Хабалова, ринулся из кабинета. В коридоре стояло двое полицейских, вытянувшихся при появлении премьера по самой что ни на есть струнной струнке.
– Срочно, сообщите в Зимний, Занкевичу, пусть направит все свободные силы через Александровский сад нам навстречу. А потом – мигом вниз! Будем прорываться! Пусть они вспомнят шестой год, господа!
– Так точно! – радостно, хором, ответили полицейские и вдвоем поспешили в соседнюю комнату, где как раз располагался аппарат прямой связи с Зимним.
Столыпин поспешил вниз. Он внезапно поймал себя на мысли, что ровно так же они покидали Мариинский дворец. Вот теперь – градоанчальство...Сколько же еще им отступать? И, главное, где прервется их бег? Может, у самого Пскова?..
Времени на сборы потребовалось много меньше, чем утром, в Мариинском. Да и...много кого здесь не было...Барк...Тот молодой служащий...Еще многие, многие...Но вездесущий Крыжановский, хоть и заметно погрустневший, оказался тут как тут. На лице его застыла маска задумчивости. Похоже, и он думал о "галстуках" и фонарях. На кого же можно было положиться в те минуты? Неужели рядом в по-настоящему трудный момент некому было встать?
– Петр Аркадьевич!
– Ну, что, как?
– Куда теперь?
– Прибыли войска с фронта?
Чиновники обступили его со всех сторон. И пусть их презрительно называли все (даже их сотоварищи, точнее, мнимые сотоварищи) "людьми двадцатого числа", пусть их кликали чинушами и бюрократами, – но они еще готовы были продолжать борьбу. Пусть она и не была войной как встарь, глаза в глаза. Иные, кажется, револьверами разжились. И все-таки это было не то. Не так, не те люди должны были бы встать рядом в нужный час. Нужны были те, кто сам мог бы что-то предпринять. В ком еще не угас дух борьбы деятельной. Столыпин окинул взглядом обравшихся на улице у градоначальства. Буквально из-за угла, из сада, доносились винтовочные выстрелы. Но их становилось все меньше, меньше, меньше. И лучше бы уж потому, что правительственные силы одолевали революционеров, а не наоборот!
Здесь, на этом клочке, расположились солдаты, городовые, служащие, словом, все подхваченные неистовым ураганом событий люди. Столыпин смотрел на них – а они смотрели на премьера. С надеждой. С верой, что одним только его словом все закончится, ибо иначе как только им спасти жизни свои и своих близких? Уж если не человек, именем которого пугали террористов бомбы и террористов слова (из тех, кто облюбовал Таврический), остановит все это, то кому же будет такое под силу? Ведь государь...А, пустое!..
Они наверняка ждали от него речи, одной из тех, которые потом читались и перечитывались всей страной. Но Петр Аркадьевич только лишь отдал самые необходимые приказания. Сейчас не время было для долгих речей: вот-вот их могла затопить не какая-то там безликая "сила вещей", а вполне осязаемая, одушевленная (то есть скорее всего одушевленная, а там – кто знает?..) революция.
Городовые и солдаты растянулись в цепочки, закрывая горстку верных престолу людей от перекрестков, откуда в любое мгновение могли показаться толпы восставших.
Выстрелы в Александровском смолкли. Едва цепочка солдат уперлась в ближайшие деревья, как стрелки остановились. К Столыпину заспешило несколько штабных: они принесли известие, что путь до самого Зимнего свободен. Небольшой отряд бунтовщиков отступил. Но – это живые отступили...
Мертвые остались лежать здесь, на снегу, в тени деревьев. Закатное солнце пробивалось сквозь голые, казавшиеся пятернями скелетов ветви деревьев. Тени от этих веток-пальцев ложились на лица погибших. Рядом здесь могли лежать и восставшие, и солдаты верных частей. Их шинели и бушлаты обильно были политы кровью, и своей, и чужой: Столыпин и без объяснений сумел понять, что здесь шла рукопашная. Городовой даже мертвым не хотел уступать двум...А нет, трем...Кажется, рабочим, – во всяком случае, одеты они были в заводские тужурки и куртки. Металлисты, должно быть, путиловцы...Это их руководство завода уволило ни за что ни про что в одну минуту, бросив тем самым последнюю спичку в костер восстания. Шедшие за хлебом для семей, они остались здесь. Кто-то накормит их детей?..
Петр Аркадьевич уже не сдерживался от того, чтобы не сжать кулаки, стиснуть челюсти до скрежета зубовного. Ведь их толкали, толкали! Он, старый служака и политик, знал, что их бросили на штыки. Бросили те, кому нужна была анархия на улицах. Даже в пятом году за революцией кое-кто стоял, кое-кто бросал листовки с призывом сколачивать дружины и тренироваться "да хоть на городовых", отсиживаясь подальше. А те, кто бросал...Но да он до них еще доберется. Однажды, через годы, – но доберется. Пусть даже с того света.
Наконец, Столыпин увидел стены Зимнего дворца. В лучах закатного солнца стены плакали кровью: терракота, впитав багрянец, казалась кровавой плащаницей. Но наваждение пропадало, стоило только подойти поближе да присмотреться. Тень...и как такое только может быть? Свет-то совершенно в другую сторону! Не могло быть такого, – да только тень! Тень креста, что удерживал в руках ангела на Александровской колонне, падала на тот самый балкон, с которого Николай зачитывал манифест об объявлении войны. Крест застыл посреди кровавой терракоты, и самая главка, самая маковка его точно на том балконе застыла!
Петр Аркадьевич – помимо даже воли своей – перекрестился. И тут же взгляд его упал на фигуру, отделившуюся от фасада здания и спешно приближавшуюся к стрелкам. "Охотники", те, кто стоял впереди, как сказал бы Петр, в авантаже, брали под козырек и вытягивались по струнке перед господином в шубе нараспашку, из-под которой выглядывал мундир...
По одной только походке и высокому лбу, да еще по очертаниям фигуры, Столыпин догадался, кто же к ним шел. Мундир на нем – Кирасирского полка, не иначе. Потому что, когда Михаил Александрович, родной брат государя, изволил ходить в форме, но н с газырями, то надевал мундир только этого полка. По старой и доброй памяти.
Но только вот лицо у Михаила было совершенно не радостное.
– Вы здесь, Петр Аркадьевич! Что ж, замечательно! – окликнул поклонившегося ему премьера второй в ряду наследования престола российского. – Замечательно!
Но в словах этих не слышалось не то что доброго, но даже замечательного...
Глава 6
Во время войны Государь, и в личных
разговорах, и в письмах к своей матери
Государыне Марии Феодоровне, невольно
касался больной для Него мысли, что среди всех
министров Он не видит и единого человека,
могущего Ему заменить покойного Столыпина, для указания того пути, по которому можно было бы предотвратить надвигающуюся катастрофу