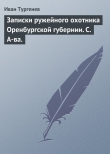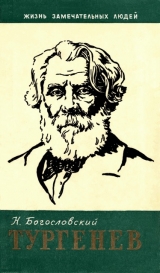
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Николай Богословский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XXV
«ПРОЦЕСС 32-х». БАДЕН-БАДЕН. «ДЫМ». СМЕРТЬ ГЕРЦЕНА
В ноябре 1861 года Герцен и Огарев получили в Лондоне письмо из Сан– Франциско, начинавшееся словами: «Друзья! Мне удалось бежать из Сибири, и после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию сегодня (15 октября. – Н. Б.)я прибыл в Сан-Франциско».
Письмо это было отправлено Михаилом Бакуниным, который просил Герцена и Огарева выслать ему в Нью-Йорк пятьсот долларов, а также найти способ известить его братьев о том, что он благополучно достиг берегов Калифорнии, направляется в Нью– Йорк и рассчитывает в половине декабря быть в Лондоне.
История его была вкратце рассказана в том же письме:
«Просидев три года в Петропавловской крепости, я при начале войны в 1854 году был перевезен в Шлиссельбург, где просидел еще три года. У меня открылась цинготная и повыпали все зубы.
Страшная вещь пожизненное заключение: влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса… Однако я не упал духом… Я одного только желал: не примиряться… сохранить до конца в целости святое чувство бунта…»
Выпущенный весной 1857 года из Шлиссельбургской крепости, Бакунин был отправлен в Сибирь. Первоначально местом поселения для него была указана Нелюбинская волость Томской губернии с обязательным соблюдением всех условий, «какие существуют для политических преступников, состоящих на поселении в Сибири».
Однако Бакунин, ссылаясь на плохое здоровье, просил разрешить ему поселиться в Томске, и просьба его была удовлетворена.
В Томске Бакунин прожил около двух лет. Здесь он познакомился с семьей поляка Квятковского, служившего чиновником по золотопромышленному делу. Двум дочерям его Бакунин взялся преподавать французский язык. Квятковские жили в версте от города, в маленьком домике на заимке.
Бывая у них почти каждодневно, Бакунин особенно сдружился с младшей дочерью Квятковского – Антонией. Он полюбил ее и сделал ей предложение, которое было принято, хотя отец ее долго не хотел дать согласия на этот брак.
Весной 1859 года при содействии своего влиятельного родственника, генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского, Бакунин был переведен из Томска в Иркутск. Там он поступил на службу к одному золотопромышленнику, благодаря чему получил свободу передвижения по краю, а это дало ему возможность впоследствии осуществить задуманный побег.
Летом 1861 года, воспользовавшись коммерческим поручением купца Сабашникова, Бакунин оставил Иркутск и, спустившись вниз по Амуру до Николаевска, пересел инкогнито с корабля «Стрелок» на американский клипер, плавал некоторое время на нем по Татарскому проливу и вдоль японских берегов, пока не встретилось ему в Иокогаме другое американское судно, направлявшееся в Сан-Франциско.
Жена Бакунина была посвящена в его планы. Он рекомендовал ей не задерживаться долго в Сибири после его побега, перебраться к его родным в Премухино и ждать там известий о нем.
22 ноября Герцен напечатал в «Колоколе» первое краткое сообщение о том, что Бакунину удалось вырваться из сибирского плена и что он собирается теперь выехать из Америки в Англию. «Извещаем с восторгом об этом всех друзей Бакунина».
Тургеневу, который в это время жил в Париже, Герцен отправил письмо о предстоящем приезде их общего друга и просил его подумать о возможности сбора средств среди приятелей и знакомых в помощь Бакунину.
Тургенев обещал заняться этим и, со своей стороны, «с величайшей готовностью» взял на себя «обязанность давать Бакунину ежегодную сумму 1500 франков».
Вскоре Бакунин прибыл в столицу Англии.
Через несколько дней в «Колоколе» появилась статья Герцена: «Бакунин в Лондоне! Бакунин, погребенный в казематах, потерянный в Восточной Сибири, является бодрый и свежий среди нас… Бакунин приходит к нам с удвоенной любовью к народу русскому, с несокрушимой энергией надежд и сил.
Видно, скоро весна, если старые знакомые прилетают из-за Тихого океана.
С Бакуниным невольно оживают стаи теней и образов бурного года…»– писал Герцен, вспоминая о революционных мечтах 1848 года, развеянных потом шквалом реакции.
Так был встречен друзьями в Лондоне Михаил Бакунин «после 14 лет страданий со знаками от цепей, которые не прошли еще, утомленный путем вокруг света…».
Ведь он проделал тридцать тысяч верст за полгода пути от Иркутска до берегов Темзы.
В юности Тургенев, вероятно, тотчас же поспешил бы навстречу другу, приплывшему из-за океана.
Но теперь иное было время…
В конце января 1862 года он сообщил Герцену, что болен и не решается даже выходить на улицу. «Это опять отложило время моей поездки в Лондон, которая решительно начинает принимать какой-то мифический оттенок, но я не теряю надежды».
Надежда эта исполнилась все-таки, но чуть ли не через полгода, когда Герцен совсем уже разуверился в возможности скорого свидания с Тургеневым и шутя называл Бакунина и Огарева «романтиками» за то, что они еще продолжали верить обещанию Ивана Сергеевича.
Дело дошло до того, что Бакунин поручил известному армянскому революционному демократу, сподвижнику и ученику Чернышевского Михаилу Налбандову (правильнее: Микаэлю Налбандяну), приехавшему в это время из Лондона в Париж, убедить Тургенева поспешить с приездом. «Да вытолкайте его скорее из Парижа, – настаивал Бакунин, – нам смерть хочется повидаться, и я надеюсь, что он пробудет с нами никак не менее недели».
Кроме желания повидаться с другом молодости, была у Бакунина и другая причина торопить Тургенева. Прощаясь с женой в Иркутске, он условился с нею о встрече в Лондоне и теперь решил поручить Михаилу Налбандову и Тургеневу подготовку ее переезда, осуществить который ей предстояло в два приема: сначала из Сибири в Премухино, а затем из России за границу.
Друзья не сочувствовали этому плану Бакунина, считая, что ему следовало еще осмотреться, хоть несколько упрочить свое материальное положение, не обрекать жену на неопределенность, но Бакунин и слышать ничего не хотел.
Когда Тургенев приехал, наконец, в мае 1862 года в Лондон на несколько дней, прежде чем отправиться в Россию, Бакунин со свойственной ему фанатической настойчивостью сумел убедить Тургенева взять на себя вместе с Налбандовым необычную миссию.
А это значило, что им надлежало позаботиться о сборе средств, об установлении связи с Антонией Квятковской, о всяческой помощи ей в ее хлопотах.
По приезде в Петербург Тургенев должен был безотлагательно повидать братьев Бакунина – Николая и Алексея – и, употребив все свое влияние на них, добиться, чтобы они посильно помогли своей невестке.
Бакунин снабдил Налбандова и Тургенева письмами к братьям, написал тому и другому особые «Инструкции», по которым они должны были действовать, разработал шифр и установил разные конспиративные обозначения для переписки по этому делу. Так, например, себя он предложил именовать в письмах Леонтием Брыкаловым, всех членов своей семьи – Бабарыкиными, Тургенева – Ларионом Андреевичем, свою жену – Марьей Осиповной, Налбандова – Цуриковым, Герцена – бароном Тизенгаузеном, Огарева – Костеровым и т. д.
Налбандову он поручил всячески «тормошить» и подталкивать Тургенева – «на него я надеюсь крепко, а на вас еще крепче»; «он – человек созерцательный, усладительный. Вы – деятельный».
Только три-четыре дня пробыли старые друзья – Герцен, Огарев, Бакунин и Тургенев – все вместе. И все это время провели они главным образом в нескончаемых спорах о путях будущего развития России и Западной Европы, о социализме, об искусстве, о буржуазии и мещанстве, а более всего о самых злободневных и острых вопросах, волновавших тогда почти всех без исключения, – об освобождении крестьян, которое лондонские изгнанники считали мнимым, о необходимости Земского собора и, наконец, о Польше, где назревало восстание и все чаще происходили патриотические манифестации.
Тургенев в конце мая покинул друзей, направляясь в Россию, но многое так и осталось нерешенным между ними. Да и не могло быть иначе, потому что все явственнее становилось различие их политических убеждений. Тургенев отвергал революционный путь развития России, считая, что прогресса и свободы можно достигнуть в результате постепенного распространения знаний и культуры среди народа. Это была точка зрения типичного либерала.
«Эх, старый друг, – писал он Герцену, – поверь: единственная точка опоры для живой революционной пропаганды – то меньшинство образованного класса в России, которое Бакунин называет и гнилыми и оторванными от почвы изменниками».
Обострение политической обстановки все более отдаляло их друг от друга, хотя лондонцы все еще продолжали считать Тургенева в какой-то мере своим если не союзником, то попутчиком, но только не политической фигурой.
«Ты один из противного лагеря, – обращался к нему Бакунин, – остаешься нам другом и с тобою одним мы можем говорить, выворачивая все сердце наружу. А хорошо, что у тебя есть на Западе свои люди, друзья, и что в западном мире ты создал для своего обихода свой собственный мир. В России между твоими теперешними единомышленниками, людьми «средними», тебе, я думаю, приходилось жутко…»
Когда Тургенев, расставшись с друзьями, направился в Россию и добрался до Спасского, в «Колоколе» стали печататься статьи Герцена в форме-писем под общим названием «Концы и начала». Адресатом этих писем был Тургенев. Хотя имя его не упоминалось, но по косвенным признакам догадаться об этом было легко.
В этих статьях Герцен вернулся к недоконченным в Лондоне спорам и беседам с Тургеневым. «Концы и начала» принято называть полемикой между ним и Тургеневым, хотя полемики, собственно, тут не было, ибо адресат не имел возможности печатно отвечать на пространные статьи, ограничиваясь лишь отдельными замечаниями в почтовой, а не «литературной» переписке.
В первом же письме Герцен ясно говорит, что расхождение уже наметилось, что Тургенев был только попутчиком, что дороги их неизбежно разойдутся.
«Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве и тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого знойного лета… Тебя не страшит, что дни уменьшаются, вершины гор белеют, и дует иногда струя воздуха, зловещая и холодная, ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колена, дикого разлива рек, голой земли, выступающей из-под снега, да и вообще нашего упования на будущий урожай, от которого мы отделены бурями и градом, ливнями, засухами и всем тяжелым трудом, которого мы еще не сделали… Что же, с богом, расстанемся, как добрые попутчики, в любви и совете… Тебе остается небольшая упряжка. Ты приехал, – вот светлый дом, светлая река и сад, и досуг, и книги в руки. А я, как старая почтовая кляча, затянувшаяся в гоньбе, – из хомута в хомут, пока грохнусь где-нибудь между двумя станциями…»
Прежде чем направиться в Спасское, Тургенев должен был заехать в Петербург. А там, как и повсюду, было неспокойно. Иван Сергеевич оказался в столице в дни начавшихся в городе грандиозных пожаров. Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта, весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Лиговкой, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста.
Пламя уничтожило множество домов между Троицкой улицей и Апраксиным рынком. Выгорели целые кварталы. Сотни людей, лишенных крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам, ворота и подъезды домов были на запоре.
Проходя мимо министерства внутренних дел, охваченного пламенем, Тургенев видел в «хламе и пепле обгорелое дело о выдаче ему заграничного паспорта».
По городу распространялись провокационные слухи о поджигателях: агенты полиции обвиняли в поджогах революционную молодежь, тогда как в действительности пожары были делом их рук.
Тургенева поразило, что слово «нигилист», выхваченное из его романа, было теперь уже у многих на устах.
– Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург! – таким восклицанием встретил его первый же знакомый на Невском проспекте.
В письме к писательнице Марко Вовчок Тургенев обещал рассказать когда-нибудь о впечатлениях, вынесенных им из этого своего пребывания в России, как его били руки, которые он бы «хотел пожать, и ласкали руки другие», от которых он готов был бежать за тридевять земель.
Писателю пришлось испытать тогда тягостные впечатления. Холодность близких по духу людей и «приветствия» со стороны реакционеров показали ему, что он, по-видимому, допустил в романе какую– то ошибку или, во всяком случае, неясность, которую пытались использовать реакционеры, силившиеся любыми средствами опорочить идеи освободительного движения.
«Я готов сознаться, – говорил потом Тургенев, – что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину, и потому я признаю справедливыми и отчуждение от меня молодежи и всяческие нарекания».
Долго еще потом мучило Тургенева сознание, что из-за этой ошибки на его имя «легла тень».
Выполняя лондонское поручение, Иван Сергеевич прежде всего должен был узнать, захотят ли братья и сестры Бакунины принять к себе в дом жену опасного беглеца. Для этого надлежало ему повидаться с братьями Бакунина, но оказалось, что оба находятся в Петропавловской крепости. Незадолго до этого они были арестованы в связи с тем, что подписали адрес Александру II от тринадцати мировых посредников дворян Тверской губернии, в котором открыто было заявлено о несостоятельности правительства удовлетворить общественным потребностям при проведении в жизнь реформы.
На свидание с братьями Бакуниными в Петропавловской крепости потребовалось разрешение петербургского генерал-губернатора Суворова, который взял при этом с Тургенева слово, что разговор с узниками будет касаться лишь семейных дел.
Можно представить себе, как интересна была эта встреча давних знакомых под сводами Петропавловской крепости, где провел немало времени и старший брат Бакуниных.
Тургеневу не пришлось даже уговаривать братьев: они сразу изъявили согласие принять невестку в Премухино, коль скоро сами будут на свободе.
Соединив полученные от Налбандова деньги со своим взносом, Тургенев передал их одной из родственниц Бакунина для пересылки в Иркутск и счел на этом свою миссию пока что законченной.
В эти же дни он дважды приходил в книжный магазин Н. А. Серно-Соловьевича, которому привез пакет с важными бумагами от Герцена и с которым вел переговоры об издании одной детской книжки.
В магазине подписал на листе, выставленном от имени Серно-Соловьевича, какую-то сумму в пользу пострадавших от пожара.
Посетил тогда Тургенев и редакцию нового журнала «Время», издававшегося Ф. М. Достоевским и его старшим братом Михаилом. Тургенев пригласил братьев Достоевских вместе с их другом и сотрудником, критиком Страховым, обедать в гостиницу Клея, где занимал номер.
Вспоминая впоследствии об этой встрече в ресторане гостиницы с автором «Отцов и детей», Н. Н. Страхов отметил, что Тургенев был в тот день в каком-то возбуждении.
«Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его тревожила. За обедом он говорил с большою живостью и прелестью, и главною темою были отношения иностранцев к русским, живущим за границею. Он рассказывал с художественною картинностью, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и т. д.».
Страхов жалел, что об этих своих наблюдениях писатель не рассказал печатно.
Через несколько дней Тургенев отправился в Спасское. По случайному совпадению ему пришлось до Москвы ехать в одном вагоне с Некрасовым.
Годом раньше поэт сделал попытку примириться со старинным другом. Он писал ему тогда: «Любезный Тургенев, желание услышать от тебя слово, писать к тебе у меня, наконец, дошло до тоски. Сначала я не писал потому, что не хотелось, потом потому, что думал, что ты сердишься, потом потому, чтобы ты не принял моего писания за желание навязываться на дружбу и т. д.
Нет, ты этого не бойся – эти времена прошли, но все-таки выяснить дело не худо, чтоб я мог считать его порешенным, а то мне тысячу раз ты приходил в голову, и всякий раз неловкость положения останавливала меня от писания к тебе».
Некрасов напоминал в этом письме, что в апреле 1860 года перед отъездом за границу Тургенев почему-то не нашел времени даже проститься с ним.
«Сначала я приписал это случайности, потом пришло в голову, что ты сердишься. За что? Я никогда ничего не имел против тебя, не имею и не могу иметь, разве припомнить то, что некогда любовь моя к тебе доходила до того, что я злился и был с тобою груб.
Это было очень давно, и ты, кажется, понял это. Не могу думать, чтоб ты сердился на меняза то, что в «Современнике» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. То есть не то, что относится там лично к тебе, – уверен, что тебя не развели бы с «Современником» и вещи более резкие о тебе собственно.Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип – и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, – что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), сам бы так же действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх.
Итак, мне думается, что и не за это ты отвернулся от меня. Прошу тебя думать, что я сию минуту хлопочу не о «Современнике» и не из желания достать для него твою повесть – это как ты хочешь, – я хочу некоторого света относительно самого себя и повторяю, что это письмо вынуждено неотступностью – мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сие. Чтобы не ставить тебя в неловкое положение, я предлагаю вот что: если я через месяц от этого письма не получу от тебя ответа, то буду знать, что думать. Будь здоров. Твой Некрасов».
Ответ последовал. Правда, он никому не известен. Но Тургенев потом писал, что он отказался в этом письме к Некрасову сотрудничать в «Современнике». И после этого было еще одно небольшое, уже последнее письмо Некрасова, в котором он, цитируя Тургенева, писал: «Не нужно придавать ничему большой важности», – ты прав. Я на этом останавливаюсь, оставаясь по-прежнему любящим тебя человеком, благодарным тебе за многое».
И вот теперь они ехали вместе в Москву. Разговаривали, шутили, смеялись, но, по меткому слову Тургенева, «бездна» так и осталась между ними.
В Спасском Иван Сергеевич прожил недолго. Охота в Жиздринском уезде, куда он выезжал вместе с Фетом в июне, оказалась крайне неудачной.
На этот раз, против обыкновения, он ровным счетом ничего не писал здесь и занимался только изучением работы Щапова «Земство и раскол»; книга эта заинтересовала Тургенева потому, что в Лондоне Огарев и Герцен много говорили с ним о значении земства в России.
В середине июля 1862 года в Спасском до него дошло известие об аресте Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и Писарева. Об этом Боткин написал Фету в Новоселки.
Поводом к аресту Чернышевского и Серно-Соловьевича послужило письмо Герцена, в котором говорилось о возможности перенесения издания «Современника» за границу.
Письмо это было отобрано во время обыска у П. А. Ветошникова, задержанного на границе при въезде в Россию. Ветошников возвращался из Лондона. Познакомившись там с Герценом, Огаревым и Бакуниным, он взялся доставить большое количество их писем в Россию к разным лицам.
Тургенев, разумеется, и не подозревал, что имя его часто упоминалось среди других имен в отобранных у Ветошникова бумагах. Подозрения такого рода могли появиться у него после того, как он узнал об аресте Михаила Налбандова, оказавшегося в Нахичевани. Это случилось через неделю после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича. Налбандов был доставлен из Нахичевани в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, где его продержали три года.
При обыске у Налбандова была отобрана бакунинская «Инструкция», шифр и другие бумаги, из которых следственной комиссии по делу лиц, обвиненных в сношениях с Герценом и Огаревым, стало известно, что Тургенев – это Ларион Андреевич,организатор фонда денежной помощи Михаилу Бакунину, взявшийся способствовать переезду за границу жены бежавшего из Сибири революционера.
Стало известно также, что он доверенное лицо Герцена и Огарева, лицо, которому при поездках в Россию давались ими различные поручения.
Все это и дало повод в скором времени привлечь Тургенева «по делу 32-х», обвиненных в связях с лондонскими пропагандистами.
Тургенев недолго пробыл на родине в этот свой приезд – уже в августе он снова был за границей, и там в конце года до него дошел слух, что в ближайшем будущем его вызовут в Петербург для дачи показаний в сенате.
Слух этот первоначально показался Тургеневу неправдоподобным, однако вскорости он подтвердился. Оказалось, что действительно председатель следственной комиссии князь А. Ф. Голицын доложил Александру II о необходимости вызвать из-за границы для допроса А. А. Серно-Соловьевича, В. И. Кельсиева, И. С. Тургенева и ряд других лиц. Царь утвердил это предложение.
Акция, предпринятая правительством, взволновала Тургенева. Он вызвал брата, Николая Сергеевича, в Париж, чтобы договориться с ним о продаже имений, коль скоро они окажутся под угрозой конфискации.
«Вызывать меня теперь, – писал Тургенев Анненкову в начале января 1863 года, – после «Отцов и детей», после бранчливых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно, чуть не публично разошелся с лондонскими изгнанниками, то есть с их образом мыслей, – это совершенно непонятный факт…»
Получив через русского посланника в Париже официальный вызов, Тургенев в январе 1863 года писал тому же Анненкову: «Я не в состоянии себе представить, в чем собственно меня обвиняют. Не могу же я думать, что на меня сердятся за сношения с товарищами молодости, которые находятся в изгнании и с которыми мы давно и окончательно разошлись в политических убеждениях. Да и какой я политический человек? Я – писатель, независимый, но добросовестный и умеренный писатель – и больше ничего».
По совету посланника Тургенев обратился с письмом к Александру II, заверяя его в «умеренности» своих убеждений, «вполне независимых, но добросовестных».
Из писем к друзьям Тургенева видно, что он опасался преследований за встречи с гейдельбергскими студентами, учредившими русскую студенческую читальню и занимавшимися политической пропагандой, а также за участие в подготовке проекта «адреса» на имя Александра II с требованием созыва Земского собора, в котором авторы его видели единственное средство спасти страну.
Желая теперь выиграть время и получить ясное представление о существе возникшего «дела», Тургенев возбудил ходатайство о высылке «допросных пунктов» в Париж, мотивируя свою просьбу невозможностью незамедлительно приехать в Россию из-за болезни.
Просьба Тургенева была уважена. Из присланных ему допросных пунктов он увидел, что речь идет главным образом об его отношениях с Герценом, Огаревым и Бакуниным и попутно затронут вопрос о знакомстве с Налбандовым и Серно-Соловьевичем.
Письменные ответы Тургенева не удовлетворили следственную комиссию, отметившую в них некоторые расхождения с показаниями других обвиняемых.
Осенью 1863 года последовал повторный вызов, однако Тургенев и на этот раз под разными предлогами дважды откладывал свой приезд в Россию.
«Может, было бы лучше ехать, – писал в эти дни Тургеневу Герцен, – преследование тебя нанесло бы страшный удар правительству дураков, трусов и, в силу этого, злодеев».
Только по прошествии года со времени получения первого вызова Тургенев, уже твердо уверенный в том, что «дело» для него должно закончиться благополучно, приехал в январе 1864 года из-за границы для дачи показаний в сенате.
7 января он явился туда и выслушал «высочайшее» повеление о предании его суду. Затем ему были зачитаны прежние его показания, которые он во всем подтвердил.
Перед началом допросов у него отобрали подписку о невыезде из Петербурга. Внешне поначалу все это выглядело внушительно.
Но уже после второго допроса обвиняемому стало ясно, что и «повеление» и подписка были только данью формальности.
«Мои шестеро судей, – писал он Полине Виардо 13 января, – предпочли поболтать со мной о том, о сем… Завтра опять пойду в Сенат – думаю, в последний раз».
Когда Герцену стало известно о том, что Тургенев обратился к Александру II с письмом, он резко осудил этот его шаг. В январе 1864 года в «Колоколе» появилась ядовитая заметка Герцена о раскаянии Тургенева. В ней говорилось, между прочим, об одной «седовласой Магдалине (мужского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она «прервала все связи с друзьями юности». Заметка эта и послужила одной из причин разрыва их отношений, продолжавшегося несколько лет.
21 января Тургенев присутствовал на похоронах Дружинина на Смоленском кладбище, где собрались Некрасов, Фет, Гончаров, Анненков, Боткин и многие другие литераторы.
Здесь произошло примирение его с Гончаровым. По просьбе Ивана Сергеевича Анненков подошел к Гончарову и сказал, что Тургенев хочет подать ему руку. Иван Александрович был явно обрадован тем, что встреча эта кладет конец их размолвке.
В первом же письме к Гончарову из Парижа весною того же года Тургенев писал, что он радуется возобновлению дружеских отношений с ним «в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин».
И тут, должно быть, вспомнились Тургеневу слова Лежнева, обращенные к Рудину:
«Ведь уж мало нас остается, брат; ведь мы с тобой последние могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди, но теперь, когда толпа редеет вокруг нас… нам надобно крепко держаться друг за друга».
В письме к Гончарову Тургенев писал: «Мы ведь тоже немножко с вами последние могикане. Повторяю. душевно рад тому, что чувствую снова вашу руку в моей».
Задолго до окончания «процесса 32-х» особым постановлением сената, вынесенным 28 января, Тургеневу был разрешен выезд за границу, а летом, когда он уже находился в Бадене, его вообще освободили от всякой ответственности по этому делу.
Разрыв с «Современником», расхождение с Герценом, Огаревым и Бакуниным, привлечение к «процессу 32-х», резкие нападки печати на роман «Отцы и дети» – все это болезненно отозвалось в душе писателя.
Наступило трудное время, о котором Герцен писал: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный… «День» запрещен. «Современник» и «Русское слово» запрещены, воскресные школы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор, два министерства и III Отделение должны разрешать чтение публичных лекций, беспрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты в казематах… видно, николаевщина была схоронена заживо и теперь встает из-под сырой земли в форменном саване, застегнутом на все пуговицы».
В письмах Тургенева этого времени заметно чувство усталости, разочарование, порою звучат даже ноты глубокого пессимизма, безнадежности.
Особенно огорчало писателя охлаждение к нему молодежи, не простившей ему бесстрастно-холодного, как ей казалось, изображения фигуры разночинца Базарова.
Временами у него являлось желание вообще отойти от литературы или, уж во всяком случае, не касаться в будущих произведениях общественно важных тем и животрепещущих вопросов.
Писатель, с таким обостренным чувством современности, всегда живо откликавшийся на новые идеи, которые только-только зарождались в общественном сознании, теперь особенно ясно ощущал усиливавшиеся с каждым днем веяния реакции, – она гнетуще действовала на него.
«Едва ли мне опять скоро придется предстать на суд критики и публики, с меня довольно треска и грохота, возбужденного «Отцами и детьми», – делился Иван Сергеевич своими сомнениями с писательницей Марко Вовчок.
Действительно, его продуктивность, если можно так выразиться, резко упала. Прежде за короткий период – 1855–1861 годы – были созданы четыре его лучших романа: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», не говоря уже о большом количестве повестей и рассказов, а теперь с 1862 по 1867 год включительно – лишь несколько рассказов и роман «Дым».
Проникнутые глубоким пессимизмом, они ясно свидетельствовали об идейном кризисе, который переживал Тургенев в тот период.
Писатель и сам чувствовал резкую разницу между своими прежними лучшими произведениями и новыми рассказами, такими, как «Призраки» и «Довольно». Он пренебрежительно называл их вздором, сказками, задуманными в тяжелое для него время, и не сразу решился на их опубликование.
Сколько раз пришлось Достоевскому, нуждавшемуся в материале для своего журнала, просить Тургенева отдать «Призраки» в редакцию «Времени», и как долго автор их размышлял, взвешивал, целесообразно ли будет выступить ему с такой незначительной вещью перед читателями, привыкшими к его выступлениям с капитальными общезначимыми произведениями.
Лучшая пора его жизненного и творческого пути была уже позади.
Дружба с Грановским и Станкевичем… Близость с Белинским… «Записки охотника»… Небывалый успех его романов… Работа в «Современнике» Некрасова… «Колокол» Герцена…
А теперь уже нет такой близкой среды, нет журнала, интересы которого были бы ему так же дороги, как интересы «Современника» в прежние годы. Ведь направление «Русского вестника», в котором появились его последние два романа, было ему, в сущности, совершенно чуждо и безразлично. Он был в этой редакции лишь случайным гостем..
Круг литераторов, с которыми у него еще сохранились приятельские отношения, теперь заметно поредел, и на первом плане оказались Анненков, Боткин, Фет, общественно-политические позиции которых далеко не во всем его удовлетворяли. Иногда его даже коробила узость консервативных взглядов Фета или Боткина, и он внутренне отдалялся от них.
Присматриваясь издалека к событиям в России послереформенной эпохи, он видел лишь хаос и неурядицу переходного периода, крутую ломку общественных отношений, разгул реакции. Характеризуя позднее этот период, Тургенев писал: «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло… Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная».
Оторванность от России не позволила в это время писателю, как правильно говорил революционный народник Лавров, «заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки».