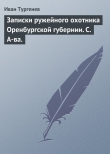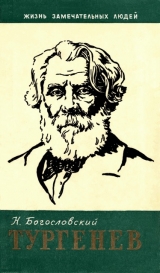
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Николай Богословский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Слова его упали на благодатную почву. Они «неотразимо вошли в душу Лаврецкого, хоть он и спорил с ним».
Лаврецкий и его друг понимали под словами «дело делать» как раз то самое, о чем говорится в стихотворном отрывке Огарева. Мы знаем из эпилога романа, что в Лаврецком в конце концов совершился тот перелом, «которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца…». Он «не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности… сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян».
Подробнее об этом ничего не сказано, но, коснувшись бегло самого вопроса, автор сделал необходимую и ясную оговорку: «насколько мог».
В конце 1846 года Огарев принялся за хозяйство– и безуспешно (из-за полнейшей непрактичности, свойственной ему) пытался осуществить свою старую мысль об улучшении быта крестьян через вольнонаемный труд на заводах.
Таким образом, и здесь можно говорить о некоторой общности устремлений героя «Дворянского гнезда» и Н. П. Огарева при всем различии их политических взглядов, их дальнейшей деятельности и судьбы.
Возможность возрождения и личного счастья открылась на короткое время для Лаврецкого после того, как до него дошло газетное известие о смерти Варвары Павловны. Последующее развитие жизненной драмы, изображенной в романе, основывалось на ошибочности этого известия.
Варвара Павловна неожиданно предстала перед Лаврецким в те дни, когда он снова полюбил и, с трудом преодолевая горькие сомнения, уже начинал верить в возможность внутренней гармонии и нового счастья.
Убедившись в том, что полюбил Лизу, Лаврецкий сначала не испытывал никакого радостного чувства. «Неужели, – подумал он, – мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета той:она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекала бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед, к прекрасной целя…»
Для Огарева луч надежды на возрождение загорелся в 1848 году, когда из Франции на родину вернулись Тучковы. Они были соседями по имению с Огаревым. Последний, живя в своем старом Акшине, часто наезжал к ним в Яхонтово. Его связывала многолетняя дружба с Алексеем Алексеевичем Тучковым, дочери которого – Елена и Наталья относились к Огареву с большой симпатией, особенно младшая, Наталья.
Еще прежде Огарев затронул детское воображение Натальи Тучковой. Молодой человек, которому было тогда двадцать три года, садился иногда полушутя играть в шахматы с семилетней девочкой, изредка случалось ему принимать участие в домашних спектаклях в Яхонтове, он охотно ходил на прогулки с сестрами, забавлял их, шутил с ними.
Потом он надолго исчез с горизонта – это был период его заграничных путешествий. Затем поехали путешествовать за границу Тучковы.
Когда они снова встретились в родных местах, Огареву было тридцать пять лет, а Наталье Алексеевне девятнадцать. Это был возраст Лаврецкого и Лизы Калитиной.
Тучковой приходилось часто слышать разговоры о несчастной женитьбе Огарева, и, может быть, она тогда уже прониклась состраданием к нему, а сострадание бессознательно перешло потом в чувство любви.
И в Париже, где Тучковы жили вместе с Герценами, они также часто говорили о своем общем друге. Позднее Н. А. Тучкова-Огарева прямо писала: «После разговоров с Натальей Герцен об Огареве, после чтения с ней его стихов моя душа была полна мыслей о нем… Когда мы приехали из чужих краев. Огарев был уже в деревне. Как он услышал, что мы возвратились, он приехал тотчас, но он не был весел, а смотрел как-то озабоченно…»
Огарев действительно мог сказать, подобно Лаврецкому, что в нем разрушился целый мир, к которому он был привязан.
Мой путь уныл, сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море…
Наезды поэта в Яхонтово с той поры стали учащаться, и вскоре все разъяснилось. Уже в начале февраля 1849 года Огарев и Наталья Тучкова в письме к Герценам признались, что любят друг друга. «Вы этого желали, моя Тата», – обращалась Тучкова к Наталье Герцен.
Впрочем, друзья их догадывались об этом и сами. «Еще за то Вам жму руку, – писала потом Н. Тучкова Наталье Герцен, – что Вы отгадали, что люблю Огарева, я думала, что Вы это знали, я не скрывала, но и не говорила… оттого не сказала, что Вы меня об этом спросили в Риме, вскоре после нашей встречи (в 1847 г.), и я сконфузилась страшно, если Вы помните. Потом я не хотела быть задавленной никаким чувством и поэтому стремилась выработать светлую, прочную дружбу, но взялась не за свое дело…»
Совсем как у Лизы Калитиной: любовь, родившаяся из дружеского участия и сострадания.
Не только Наталья Александровна Герцен, но и Тургенев в Париже был конфидентом Натальи Тучковой. Об этом ясно говорят приписки в ее письмах, касающиеся его. «Если увидите Тургенева, скажите ему, что я ему крепко жму руку и желала бы его видеть, потому что я счастлива и еще более любви имею в душе, чем когда он меня знал (в Париже, в 1848 году. – Я. Б.).Я помню его теплое участие ко мне…»
Затем еще более ясная приписка: «Тургеневу пожмите руку; скажите ему, что я, наконец, в реальности и помню наши разговоры, и раскрываю его книжечку…»
Становится понятно, что автор комедии. «Где тонко, там и рвется», написанной в Париже в 1848 году и напечатанной в том же году в «Современнике» с посвящением Наталье Алексеевне Тучковой,в разговорах с нею указывал ей на нереальность ее мечтаний о любви к Огареву.
Теперь Тучкова возражает ему и просит передать, что она счастлива, что в душе у нее «еще больше любви» (к Огареву) и что это уже не мечта, а реальность. Решение принято, жребий брошен – она может спокойно заглядывать в записную книжечку, подаренную Тургеневым в Париже на прощанье в 1848 году, в которой он просил ее не принимать какого-либо жизненно важного решения, не взглянув «на эти строки и не вспомнив, что есть на свете человек, который ее никогда не забудет…».
И при всем том в Наталье Тучковой было, по-видимому, очень мало сходства с Лизой Калитиной. Она могла быть ее «прототипом» только по контрасту. Да так и должно было быть, ибо Тургенев, разумеется, хотел в конце концов устранить возможность прямых аналогий.
Лиза Калитина с детства была погружена в мир религиозных представлений и преданий, недаром ее комнатку Марфа Тимофеевна называет кельей, недаром ее учитель музыки сочиняет для нее духовную кантату. Все как-то незаметно и незримо клонит к тому, что она покинет дом и уйдет в монастырь. Полюбив, она втайне надеялась «привести Лаврецкого к богу».
Атеистически мысливший Огарев, напротив, надеялся привести Наталью Тучкову к материалистическому мировоззрению и успел в этом.
Наталья Алексеевна в пору сближения с Огаревым смотрела на самый обряд венчания как на безразличный факт, который разве что спасет ее и Огарева от притеснений общества и властей.
А эти притеснения скоро дали почувствовать себя со всей силой.
Покидая летом 1850 года Париж и надолго расставаясь с Герценом, Тургенев обещал обнять от его имени всех его друзей в России. «Мы много будем говорить о тебе с ними. Постараюсь также доставить тебе сведения об Огареве и пр.».
Вероятно, сведения об Огареве и Тучковых легко я в изобилии были получены Тургеневым – ведь у них было много общих друзей и хороших знакомых (Анненков, Сатин, Кетчер, Боткин).
Но сведения эти не могли порадовать Герцена.
Мы не будем прослеживать, какие биографические элементы могли дать и дали в той или иной мере материал для ткани тургеневского художественного произведения (например, гувернантка Натальи Тучковой француженка Моро так и перешла в роман как гувернантка Лизы со своим именем – Моро. Знаменитый композитор Ф. Лист посещал салон Марьи Львовны Огаревой. В романе отмечена эта деталь: «Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост – прелесть!»).
Все это может быть предметом особой работы. В данном случае интересен другой вопрос: в чем личная драма Лаврецкого и Лизы была похожа на то, что было пережито Огаревым и Тучковой до их отъезда в Лондон в 1856 году?
Сущность происходившей драмы сама Тучкова определила как «невозможность легального брака». Чувства полюбивших друг друга Огарева и Тучковой подвергались тягостнейшим испытаниям из-за того, что Марья Львовна отказывалась дать согласие на развод. Тщетно просил Огарев Наталью Герцен «похлопотать» на этот счет «осторожно около Марьи Львовны.»
Только смерть этой женщины могла снять и сняла с них тягость безысходного положения.
В жизни произошло то, что в романе показано как неосуществленная возможность, поманившая на минуту Лизу и Лаврецкого миражем личного счастья. Но мираж быстро рассеялся – оказалось, что известие о смерти Варвары Павловны было ошибочным.
А в жизни тоже случилась ошибка, но иного характера. Не зная, что в марте 1853 года жена его умерла в Париже, Огарев просил своего поверенного возбудить дело о разводе с нею. Только в сентябре До него дошла весть, что Марьи Львовны нет в живых.
В романе Варвара Павловна жива, но ее считают умершей. А в жизни Марья Львовна умерла, а ее продолжают считать живой.
Новизна содержания «Дворянского гнезда» заключалась прежде всего в трагическом столкновении Лаврецкого с лживой моралью тогдашнего общества.
Тургенев впервые в русской литературе поставил в «Дворянском гнезде» очень важный и острый вопрос о церковных путах брака. Но сделано это было автором так гонко и незаметно, что не сразу угадывалось. Писарев, а затем Добролюбов с присущей им проницательностью разгадали настоящий подтекст «Дворянского гнезда». Однако, не имея возможности подробно разбирать роман под таким углом зрения, они ограничились лишь глухим указанием на данное обстоятельство. Но об этом в своем месте.
ГЛАВА XXIII
ИНЦИДЕНТ С ГОНЧАРОВЫМ. «НАКАНУНЕ». РАЗРЫВ С «СОВРЕМЕННИКОМ»
Закончив роман, Тургенев стал собираться в Петербург.
30 октября 1858 года он написал Фету, который в это время уже перебрался на зиму в Москву: «Пишу к Вам две строки, чтобы, во-первых, попросить позволения поставить у Вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а, во-вторых, чтобы предуведомить Вас о моем приезде в Москву не ранее пятого или шестого ноября. До скорого свидания».
«Действительно, – вспоминал Фет, – 5 ноября не успели мы окончить кофею, как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.
За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.
– Как вы можете работать при таком беспорядке? – говорил Иван Сергеевич, аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.
За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции за три дня, которые провел он в нашем доме».
Между прочим, в Москве издатель «Русского вестника» М. Н. Катков просил Тургенева отдать «Дворянское гнездо» в его журнал. Но Тургенев отказался от предложения Каткова, не желая нарушать слово, данное Некрасову.
Приехав в Петербург, он все еще занимался окончательной отделкой романа. Наконец чтение «Дворянского гнезда» в дружеском кругу литераторов было назначено на 28 декабря.
Но читать сам Тургенев не мог, потому что сильно простудился и потерял голос. Он просил Анненкова заменить его на этот раз, на что последний охотно согласился.
Слушать чтение романа явились Некрасов, Дружинин, Писемский, Панаев, Боткин, Никитенко, Гончаров и несколько приятелей Тургенева не из писательской среды: И. Маслов, Н. Тютчев, М. Языков.
Чтение заняло два вечера и прошло с необыкновенным подъемом – все единодушно признали роман новой огромной удачей автора.
Петербургские писатели, слушавшие «Дворянское гнездо», собираясь после этого чтения на литературных обедах то у Гончарова (в канун нового года), то у Некрасова (2 января), продолжали подробно и оживленно обсуждать новый роман.
Многие предсказывали Тургеневу, что его ждет овация со стороны читателей, но никто не предвидел, какой она примет характер по выходе журнала.
Впоследствии Тургенев и сам отметил в предисловии к романам, что «Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпадал на его долю.
Из последовавших многочисленных критических откликов значительный интерес представляют высказывания Писарева и Добролюбова.
В пору написания статьи о «Дворянском гнезде» Писареву было девятнадцать лет, однако его разбор романа отличался редкой зрелостью и самостоятельностью мысли, глубиной и мастерством анализа.
Он показал, что в произведениях Тургенева очень силен национальный колорит и велико всестороннее знание русской жизни, притом не книжное, а вынесенное из действительности. В «Дворянском гнезде», которое Писарев назвал самым стройным и законченным из созданий Тургенева, это знание, по мнению критика, выразилось особенно ярко.
Писарев указал, что «в положении главных действующих лиц, в самой завязке романа много горькой жизненной истины» и что тема «Дворянского гнезда» не могла не возбуждать в сознании передовых читателей протест против понятий, принятых в обществе и освященных временем.
Уже в этой ранней статье критика отмечена главная особенность и своеобразие писательской манеры Тургенева, избегавшего обнаженных приемов и подчеркнутого задания.
Заключая свои рассуждения о романе, Писарев говорит: «Как истинный художник, Тургенев не мог и не должен был высказать свою мысль резко: он показал в личности Лизы недостатки современного женского воспитания, но он выбрал свой пример в ряду лучших явлений, обставил выбранное явление так, что оно представляется в самом выгодном свете. От этого идея автора не бросается прямо в глаза. Ее надо искать, в нее надо вдуматься, но зато она тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя».
Добролюбов не выступил с развернутым разбором «Дворянского гнезда», вероятно, по причинам. о которых уже говорилось выше. Не подвергая анализу роман, высказываясь о нем лишь мимоходом, он, как и Писарев, отметил, что «самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью».
Добролюбов не стал расшифровывать, что он подразумевал под огромным отделом понятий, но нет никакого сомнения, что речь шла о религиозно-моральных устоях тогдашнего общества.
Революционные демократы единодушно признали большую идейную ценность и исключительные художественные достоинства «Дворянского гнезда».
Салтыков-Щедрин говорил, что после прочтения таких произведений легко дышится, легко верится, тепло чувствуется.
Светлый, чистый образ Лизы, глубина патриотического чувства Лаврецкого, которого Писарев назвал «сыном своего народа», непревзойденные по красоте описания русской природы – все это позволило критике безоговорочно отнести «Дворянское гнездо» к разряду классических произведений русской литературы.
Непредвиденный и странный эпизод отчасти омрачил тогда радость Тургенева по поводу успеха его романа. Виновником этого оказался Гончаров.
На протяжении долгого времени он делился с Иваном Сергеевичем своими творческими планами и замыслами. Ценя критическое чутье Тургенева и доверяя его литературному вкусу, он охотно читал ему свои произведения то целиком, как «Обломова», то в отрывках, как то было с «Обрывом». Этот роман был пока еще почти весь в замысле, и даже само название его не установилось окончательно – сначала Гончаров думал озаглавить его «Художник».
Иногда за разговором Гончаров принимался с увлечением рассказывать Тургеневу задуманные сцены, эпизоды и главы, как бы отдавая их на проверку тонкому знатоку и мастеру.
В такие минуты он говорил волнуясь, торопливо, отрывисто, сам захваченный красотою встававших перед ним картин родной Волги, обрывов, заросших бурьяном, рисовал сцены свидания Веры с Волоховым в лунные ночи на дне оврага и в саду, ее прогулки, разговоры с Райским…
Кристаллизовались замыслы Гончарова всегда очень долго, сложно. Он сам признавался, что любая вещь вырабатывалась у него в голове медленно и тяжело, поэтому писались его романы с необычайной медлительностью и были отделены один от другого десятилетиями.
Эта особенность Гончарова стала одной из причин его авторской подозрительности. Первая открытая вспышка ее проявилась тотчас же после чтения «Дворянского гнезда».
Как только чтение закончилось и со всех сторон посыпались похвалы автору, у Гончарова от волнения сжалось сердце.
Прежде Тургенев был в его глазах непревзойденным рассказчиком, миниатюристом и автором небольших повестей, теперь вдруг с таким успехом, даже триумфом выходил на поприще романиста.
Гончарову показалось, что в «Дворянском гнезде» и в планах его собственного будущего романа, о котором столько было разговоров с Тургеневым, есть ряд схожих ситуаций и фигур, несколько совпадающих мотивов, что именно по канве его изустных рассказов Иван Сергеевич набросал сжато и кратко лучшие места в своем романе.
Дождавшись, пока разойдутся гости, Гончаров начал свои объяснения, заявив изумленному Тургеневу, что прочитанная повесть представляется ему слепком с романа «Обрыв».
В дальнейшем разговоре Гончаров упорно настаивал на сходстве некоторых деталей в «Дворянском гнезде» и в планах «Обрыва».
Тогда Тургенев со свойственной ему мягкостью и уступчивостью согласился даже устранить из своего романа сцену второго объяснения Марфы Тимофеевны с Лизой, показавшуюся Гончарову похожей на аналогичный эпизод объяснения Веры с бабушкой в «Обрыве».
Но это было ошибкой со стороны Тургенева: успокоив на время возбуждение Гончарова, он вместе с тем дал ему повод считать необоснованные подозрения хотя бы в какой-то мере оправданными.
Несмотря на размолвку, Гончаров по-прежнему продолжал встречаться с Тургеневым, хотя отношения их стали заметно суше и сдержаннее.
Время от времени Гончаров возвращался к наболевшей теме. Тургенев, желая положить этому конец, предлагал передать вопрос на решение третейского суда. Но Иван Александрович уклонялся, ссылаясь на то, что подобное дело может подлежать лишь суду двух совестей, а что свидетели тут не нужны и вряд ли возможны.
Когда Тургенев отправлялся весною 1859 года ненадолго в Спасское перед отъездом за границу, Гончаров провожал его на вокзал, и даже здесь они все еще продолжали разговор на прежнюю тему, начатый накануне.
– Надеюсь, хоть теперь вы убедились, наконец, что не правы, – говорил Иван Сергеевич, прощаясь с Гончаровым и становясь на подножку вагона. – Спросите у Анненкова, ведь вот когда еще рассказывал я ему о плане моего романа…
Поезд тронулся…
Через несколько дней вдогонку Тургеневу, в Спасское было отправлено пространное письмо, в котором Гончаров настойчиво продолжал убеждать адресата в том, что его ошибка заключается в непонимании своих свойств, что сколько бы он ни написал еще повестей и романов, он не превзойдет своей «Илиады», своих «Записок охотника», где нет ошибок, где все так просто, высоко, классично и блистательно.
Он призывал Тургенева идти своим путем, окончательно уяснить, определить самому себе свои свойства, силы и средства.
«Я… рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание… Мы оба любим искусство, оба – смею сказать – понимаем его, оба тщеславны, а Вы, сверх того, не чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей… которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще… не знак почему, – по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я много служу искусству, как запряженный вол, а вы хотите добывать призы, как на course au clocher» [41]41
Скачках с препятствиями.
[Закрыть].
Снова и снова убеждал Гончаров Тургенева: «Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки… для зодчества нужно упорство, спокойное объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно, и в таланте…»
И хотя Гончаров уже убедился, что «Дворянское гнездо» произвело «огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал», он в этом письме все же писал так:
«Дворянское гнездо»… про него я сам ничего не скажу, но вот мнение одного господина, на днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и между прочим сказал, что когда впечатление минует, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), но что, очевидно, автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни; но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске у кареты, ночная беседа двух приятелей – совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой большой раме, а в очерке и действовали бы живее, не охлаждая промежутками…
Сообщаю Вам эту рецензию учителя (он – учитель) не потому, чтоб она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на Ваше произведение…»
И опять стремился Тургенев успокоить взволнованного и мнительного корреспондента: «Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил «учитель» о моем «Дворянском гнезде». Но что же прикажете мне делать. Не могу же я повторять «Записки охотника» ad infinitum! [42]42
До бесконечности!
[Закрыть]А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову…»
Перед отъездом в Спасское Тургенев рассказал Гончарову сюжет своего следующего романа, героиней которого должна была быть восторженная девушка, покидающая родной дом и отправляющаяся вместе с болгарином, которого полюбила, на его родину, чтобы бороться за ее освобождение из-под власти турок.
И Гончарову уже мнилось, «нет ли тут еще гнезда,продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром…»
Рецензируя в февральском номере «Современника» 1859 года пьесу А. Н. Островского «Воспитанница», Добролюбов уделил в рецензии несколько слов и «Дворянскому гнезду». Он писал: «…высокое и чистое наслаждение, испытанное нами при чтении этой повести, давно уже, конечно, разделили все читатели, и без сомнения все согласны, что одного такого произведения было бы уже достаточно, чтобы сделать очень замечательным литературное начало нынешнего года».
Но начало это было ознаменовано не только появлением «Дворянского гнезда». Одновременно с ним в другом журнале, в «Отечественных записках», был напечатан «Обломов» Гончарова.
Оба эти произведения, каждое по-своему, показали, что тема «лишнего человека» уже окончательно исчерпана.
Появление романа Гончарова вызвало вскоре статью Добролюбова «Что такое обломовщина?», напечатанную в «Современнике». В ней критик, между прочим, уделил также место и сравнительному анализу типов, выведенных в повестях, рассказах и романах Тургенева.
На ряде литературных примеров Добролюбов показал, как возникает и все сильнее дает себя чувствовать разрыв между требованиями жизни и внутренним миром героев дворянской литературы. Он прослеживает и отмечает «родовые черты обломовского типа» в образах Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Чулкатурина, Василия Васильевича – Гамлета Щигровского уезда.
Статья Добролюбова, как и «Русский человек на rendez-vous» Чернышевского, со всей остротою ставила перед современными писателями, и особенно перед Тургеневым, вопрос о дальнейшем творческом пути.
Тургенев, отличавшийся исключительной чуткостью к общественным веяниям, не остался глух к призывам передовой критики. Он, по-видимому, очень внимательно прочитал статью Добролюбова.
Как ни велик был успех «Дворянского гнезда» у читателей, Тургенев отлично понимал, что героями его последующих произведений должны быть люди, не похожие на Рудина и Лаврецкого, на Наталью и Лизу.
На смену им жизнь выдвигала людей, обладающих «широкой решимостью» и «благородным риском», стремившихся посвятить себя общественному служению. Литература еще не дала портретов этих новых людей.
Роман Тургенева «Накануне» явился первой попыткой такого рода.
Едва успел дойти до подписчиков номер «Современника» с «Дворянским гнездом», как Тургенев уже принялся за составление плана нового романа, который в черновой редакции он назвал сначала по имени главного героя – «Инсаров», а потом зачеркнул это название и заменил его символическим многозначительным заголовком – «Накануне».
«Повесть названа мною так ввиду времени ее появления. Новая жизнь началась тогда в России – и такие фигуры, как Елена и Инсаров, являются провозвестниками этой новой жизни», – писал Тургенев.
Давно, уже на протяжении нескольких лет, созревал в сознании писателя замысел этого романа, но только теперь, после того как были написаны «Рудин» и «Дворянское гнездо», он почувствовал, что может приступить к его осуществлению.
Создавая свои романы, Тургенев с каждым разом подходил все ближе к решению самых важных вопросов современности. Он хотел последовательно, этап за этапом, показать жизнь русского общества в предреформенную эпоху, обрисовать типы «лишних людей», которые являлись представителями лучшей части дворянского общества, рассказать об их чаяниях и стремлениях и лишь после этого перейти к изображению следующего исторического периода, выдвинувшего новых деятелей и новые задачи.
«В основание моей повести, – писал Тургенев И. Аксакову, – положена мысль о необходимости сознательно-героических натур… для того, чтобы дело подвинулось вперед».
Вот когда пригодилась, наконец, Тургеневу тетрадь, давным-давно переданная ему соседом по имению Василием Каратеевым. Ведь еще в 1854 году Тургенев, прочитав ее, воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!»
Но в ту пору не пришло еще, по-видимому, время воплощения этого замысла.
В записках Каратеева было намечено беглыми штрихами то, что составило потом содержание романа «Накануне».
«Рассказ, впрочем, не был доведен до конца, – говорит Тургенев, – и обрывался круто: Каратеев во время своего пребывания в Москве влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине) – полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре и умер. История этой любви была передана искренно, хотя и неумело. Каратеев действительно не был рожден литератором. Одна только сцена, именно: поездка в Царицыно, была набросана довольно живо – я в моем романе сохранил ее главные черты».
Тургенев читал приятелям эту рукописную повесть Каратеева, носившую название «Московское семейство». Всем она казалась очень слабой и не заслуживающей внимания. Однако писатель не переставал раздумывать над ней, смутно чувствуя, что сюжетная схема повести Каратеева еще послужит ему при решении задачи, поставленной в новом романе.
В работе над большими произведениями у Тургенева складывалась постепенно своя система, вырабатывались свои правила и навыки, свой стиль и метод.
Характеризуя их, известный французский исследователь его жизни и творчества профессор Андре Мазон говорит: «Тургенев организовывал свою работу спокойно, как человек вкуса и порядка, не зная ни нервности, ни торопливости в работе. Он трудился много, но спокойно и размеренно».
О том, как протекал у него обычно первоначальный этап творческого процесса, Тургенев рассказал однажды своему знакомому – А. Половцеву:
«Сперва начинает носиться в воображении одно из будущих действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда лежат реальные лица».
Вспомним, как создавались образы Рудина, Лаврецкого, вспомним о прототипах «Первой любви», «Лунина и Бабурина» и других произведений Тургенева.
«Часто лицо, которое занимает вас, – продолжал писатель, – не главное, а одно из второстепенных, без которого, однако, не было бы и главного».
Так возникла сначала, как мы знаем, фигура Пигасова, и только после этого вырисовался окончательно облик Рудина.
«Задумываешься над характером, его происхождением, образованием; около первого лица группируются мало-помалу остальные».
Подготовительный период, «когда в воображении носятся, всячески переплетаясь, туманные образы», Тургенев считал самым приятным для художника временем. Мы знаем, впрочем, что и на этой стадии работы существует своя особая сложность, напоминающая игру в шахматы à l’aveugle [43]43
Вслепую.
[Закрыть], ибо еще ничего не закреплено на бумаге, а все надо держать в памяти.
В конце марта 1859 года Тургенев писал Е. Ламберт: «Я теперь занят составлением плана для новой повести; эта работа довольно утомительная, тем более что она никаких видимых следов не оставляет: лежишь себе на диване или ходишь по комнате да переворачиваешь какой-нибудь характер или положение».
Когда план романа уже сложился в общих чертах и наметился весь состав действующих лиц (а Тургенев обычно шутливо называл их своим персоналом), он завел особую тетрадь, озаглавив ее «Формулярные списки действующих лиц новой повести».
Сюда он заносил главные факты из их «биографий», давал им короткие характеристики, отмечал их психологические особенности, их повадки, привычки и т. п.
Любопытно, что и в самом романе мы встречаем этот термин – в главе XII Шубин говорит: «…вот формулярный список господина Инсарова…» – и далее дает его характеристику.
Вплотную к работе над романом Тургенев приступил в Виши летом 1859 года.
Она захватила и увлекла писателя до такой степени, что он почти ни с кем не виделся и не знал, что творится вокруг. Иногда он уподоблял себя воину, который, находясь в дыму сражения, не знает, победил он или разбит. Порою сравнивал себя с каменотесом– кругом пыль столбом, а он работает киркой до изнеможения.
«Я беспрестанно вожусь с моими лицами, даже во сне их вижу», – писал он в июле 1859 года Е. Ламберт.