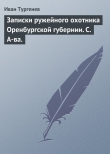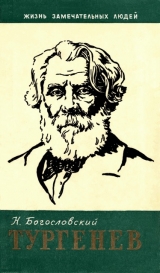
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Николай Богословский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XVI
В ГРОЗНЫЕ ДНИ 1848 ГОДА
В конце ноября 1847 года революционеры-эмигранты, проживавшие в Париже, собрались, как обычно, на банкет, чтобы отметить дату польской революции 1831 года. На этом собрании выступил с горячей речью Михаил Бакунин. «Тут, – говорит Герцен, – в первый раз увидели русского, открыто протягивавшего братскую руку полякам и всенародно отрекавшегося от петербургского правительства. Влияние его речи было огромно». Выступление Бакунина показалось властям настолько опасным, что ему было предписано покинуть пределы Франции. Он перебрался в Брюссель.
Туда же в начале 1848 года приехал и Тургенев. Возможно, что эта поездка была предпринята им для свидания с давним другом, который продолжал по старой памяти делиться с ним своими замыслами и планами, связанными с революционной работой.
Весть о февральской революции 1848 года во Франции застала обоих друзей в бельгийской столице.
Много лет спустя Тургенев рассказал об этих днях в очерке «Человек в серых очках».
Молодостью, энергией, жадным интересом к совершающимся событиям веет от этих страниц. И сам автор их, которого мы привыкли представлять себе таким уравновешенным и невозмутимо-спокойным, предстает здесь перед нами иным.
Ранним утром 26 февраля Тургенев, находившийся в гостинице, услышал вдруг, как наружная дверь ее распахнулась и кто-то зычно прокричал: «Франция стала республикой!»
Вскочив с кровати, он выбежал из комнаты и увидел в коридоре стремительно мчавшегося гарсона гостиницы, который поочередно распахивал двери номеров, направо и налево, и громко выкрикивал все ту же фразу.
Через полчаса Тургенев был уже одет, уложил вещи и поспешил на вокзал. В тот же день он выехал в Париж, вероятно вместе с Бакуниным, который тоже покинул Брюссель при первом известии о революции.
«На границе сняты были рельсы; спутники мои и я, – вспоминал Тургенев, – мы с трудом в наемных повозках добрались до Дуэ – и к вечеру прибыли в Понтуаз… Рельсы около Парижа были также сняты… Помню, что на одной станции мимо нас с шумом и треском пронесся локомотив с одним вагоном первого класса: в этом экстренном поезде мчался «экстренный комиссар» Республики Антоний Турэ; ехавшие с ним люди махали трехцветными флагами, кричали; служащие на станции с немым изумлением провожали глазами громадную фигуру комиссара, до половины высунутую из окна, с высоко приподнятою рукою… 1793, 1794 годы невольно воскресали в памяти. Помню, что, не доезжая до Понтуаза, произошло столкновение нашего поезда с другим встречным. Были раненые – но никто не обратил даже внимания на этот случай; у каждого тотчас явилась одна и та же мысль: можно ли будет дальше ехать? И как только наш поезд снова тронулся, все тотчас заговорили с прежним одушевлением, исключая одного седого старичка, который с самого Дуэ забился в угол вагона и беспрестанно повторял шепотом: «Все пропало! все пропало!»
Необычайное волнение охватило Тургенева при въезде в Париж, при виде пестревших повсюду трехцветных кокард, вооруженных блузников, разбиравших баррикады.
Весь первый день его пребывания в Париже прошел в каком-то чаду.
Воспоминания о февральской революции 1848 года были написаны человеком, уже давно расставшимся с некоторыми юношескими верованиями и надеждами. Каждое слово здесь взвешено и обдумано. Писатель очень осторожен и сдержан, касаясь автобиографических деталей, он не хочет привлекать внимания цензуры к теме, непривычной для русских читателей. Поэтому-то он прибегает иногда к оговоркам: «Здесь не место передавать все, что я испытал…», «Не стану распространяться о пережитых мною впечатлениях…» и т. п.
Тургеневу довелось быть свидетелем ряда важных событий, разыгравшихся в Париже после февральской революции. Он видел демонстрацию протеста рабочих против так называемых «медвежьих шапок», то есть раскассированных гренадеров и вольтижеров национальной гвардии.
15 мая он наблюдал, как толпы народа направлялись мимо церкви Св. Мадлены на штурм палаты депутатов после отказа временного правительства поддержать поляков, восставших в Кракове и Познани против прусского гнета.
«Еще прежде страшных июньских дней, – говорит Герцен, – пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежд… Капли крови не пролилось в этот день; это был тот сухой удар грома при чистом небе, вслед за которым чуется страшная гроза».
В судьбах старших друзей Тургенева происходили в это время потрясения и катастрофы.
26 мая 1848 года не стало Белинского.
Бакунин был вскоре надолго вырван из жизни [24]24
Из Парижа он переехал в Германию и весною 1849 года стал во главе восставших в Дрездене. Там постигает его поражение, а затем тюрьма, выдача царским властям, Петропавловская крепость, ссылка в Сибирь, бегство в Америку через несколько лет и, наконец, в 1861 году, снова Европа.
[Закрыть].
В семейной жизни Герцена назревала тяжелая драма, о которой он сам рассказал потом в «Былом и думах».
Тургенев снимал тогда квартиру в доме на углу улицы Мира и Итальянского бульвара. По соседству с ним, на той же лестнице, квартировал Георг Гервег. Они часто заглядывали друг к другу, чтобы отвести душу.
Гервег был председателем клуба немцев-эмигрантов в Париже. В апреле 1848 года, вдохновленный февральскими событиями во Франции, он возглавил поход вооруженных рабочих в Бадене с целью переворота [25]25
Карл Маркс, как известно, заранее осуждал бесполезную затею Гервега, понимая, что она обречена на провал. Так и случилось. Возвращение Гервега в Париж было бесславным.
[Закрыть].
Узнав о поражении отряда, Иван Сергеевич писал Виардо: «Экспедиция моего друга Гервега потерпела полное фиаско; эти несчастные рабочие подверглись ужасному избиению. Второй начальник, Бориштедт, был убит; что касается до Гервега, то он, говорят, вернулся в Страсбург со своею женой. Если он приедет сюда, я ему посоветую еще раз прочесть «Короля Лира», особенно сцену между королем Эдгаром и шутом в лесу. Бедняга! Ему следовало или не начинать дела, или погибнуть вместе с другими».
Между тем приближались июньские дни 1848 года.
С некоторых пор все сильнее чувствовалось, что решительное столкновение между рабочими и временным правительством неизбежно. В воздухе пахло порохом.
Утром 23 июня барабанный бой, созывавший национальную гвардию, возвестил о том, что роковой час наступил.
– Началось! – сказала Ивану Сергеевичу прачка, принесшая белье.
Она сама видела, как неподалеку от ворот Сен-Дени рабочие строили поперек бульвара огромную баррикаду.
Тургенев поспешил на улицу. Здесь все, казалось, шло своим чередом. Как всегда, толпился народ перед открытыми кофейнями и магазинами, проносились экипажи и омнибусы, слышались громкие разговоры и восклицания.
Но чем дальше он шел, тем заметнее менялся облик бульвара. Все реже и реже проезжали кареты и омнибусы, реже попадались встречные пешеходы, кофейни и магазины поспешно закрывались. На улицах уже чувствовалась гнетущая тишина перед бурей, но в распахнутые окна домов она еще не успела проникнуть.
Картина, которую он увидел в этот короткий промежуток времени, отделявший начало шторма от повседневного течения жизни, навсегда осталась в его памяти. «В этих окнах, а также на порогах дверей теснилось множество лиц, преимущественно женщин, детей, служанок, нянек, – и все это множество болтало, смеялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками – точно готовилось к зрелищу; беззаботное праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцветные ленты, косынки, чепчики, белые, розовые, голубые платья путались и пестрели на ярком летнем солнце, вздымались и шуршали на легком летнем ветерке – также, как и листья на всюду посаженных тополях – «деревьях свободы».
«Неужели же тут, сейчас, через пять-десять минут будут драться, проливать кровь? – спрашивал он себя. – Невозможно!»
С такою же отчетливостью память его запечатлела неровную линию высокой баррикады, воздвигнутой рабочими поперек бульвара, и острый язычок маленького красного знамени, шевелившийся на ветру в самом центре ее.
Он стоял у стен Жувенской перчаточной фабрики, занятой повстанцами, когда с левой стороны бульвара, шагах в двухстах от баррикады, сверкая штыками, показался отряд национальной гвардии. Войска достигли противоположной стороны бульвара и, заняв его, развернулись фронтом к баррикаде.
Внезапный залп, который дали повстанцы сквозь жалюзи окон верхнего этажа фабрики, возвестил о начале трагедии…
Три последующих дня не покидал Тургенев своей квартиры на четвертом этаже и только посылал записки Герцену. Но записки его с трудом доходили по назначению.
По распоряжению Кавеньяка, движение по улицам города было запрещено. Часовые национальной гвардии повелительно отсылали домой всякого, кто пытался нарушить этот приказ. Окна в домах должны были быть раскрыты настежь для предупреждения засады.
В предместьях Парижа шла в это время яростная битва не на живот, а на смерть. Отдаленная канонада, беспорядочная ружейная пальба, барабанный бой, тяжелый грохот батарей, проезжавших по мертвым улицам, протяжные зовы набата доносились извне, не затихая и по ночам…
На четвертые сутки сопротивление восставших было сломлено. Только в предместье Святого Антония рабочие еще продолжали борьбу [26]26
Один из эпизодов этого трагического исхода революционных событий писатель запечатлел потом в эпилоге романа «Рудин». Тургенев первый в русской литературе нарисовал картину гибели на баррикаде передового русского человека за общее революционное дело.
[Закрыть].
Утром Тургенев сидел у Гервега, когда гарсон доложил поэту, что его спрашивает какой-то рабочий; через минуту он ввел сутулого старика в истрепанной грязной блузе, с воспаленными глазами, с лицом, изборожденным морщинами.
– Кто здесь гражданин Гервег? – спросил он.
– Я Гервег, – отвечал немецкий поэт.
– Вы ждете вашего сына вместе с его бонной из Берлина?
– Да, действительно… Почему вы знаете? Он должен был четвертого дня выехать… Но я полагал…
– Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках нашихи сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших женщин – вот тут на бумажке его адрес написан, а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам, дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним; помещение хорошее, кормить их будут обоих. И опасности нет. Когда все покончится, вы его возьмете – вот по этой бумажке. Прощайте, гражданин…
Пораженный самоотверженным поступком старика, который, рискуя жизнью, добирался сюда из стана восставших, Гервег предложил ему вознаграждение. Но рабочий наотрез отказался от денег.
– Ну закусите хотя бы, выпейте стакан вина.
– От этого я, пожалуй, не откажусь. Я второй день, почитай что, не ел.
За вином старик понемногу разговорился.
– Мы в феврале обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда все та же, еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много – и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика! Ну, мы и решились, все равно пропадать!
Когда рабочий уходил, Гервег обратился к нему:
– Скажите мне ваше имя по крайней мере! Я желаю знать, как зовут того, кто так много для меня сделал.
– Мое имя вам совсем не нужно знать. Правду сказать, то, что я сделал, я сделал не для вас, а наши приказали. Прощайте…
«Участь старика, посетившего Гервега, – писал Тургенев, – осталась неизвестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не дивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить».
В это тяжелое, напряженное время самыми близкими Тургеневу людьми из соотечественников, находившихся в Париже, были, кроме Анненкова, семья Герцена и семья Тучковых. Обе они жили в одном доме, и Тургенев с Анненковым бывали у них каждый день.
Поражение революции потрясло Герцена до глубины души, оно провело чертув его жизни, оставило неизгладимый след в его сознании. Он никогда не мог забыть картины Парижа, «вымытого кровью».
«Вечером 26 июня, – вспоминал он, – мы услышали… правильные залпы с небольшими расстановками… «Ведь это расстреливают», – сказали мы в один голос… Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощает такие минуты!
После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступили тишина и мир осадного положения… Надменная национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом… Буржуазия торжествовала. А дома предместья Святого Антония еще дымились… К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских полей; на Place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп…
Прошло еще несколько дней, и Париж стал принимать обычный вид; толпы праздношатающихся снова явились на бульварах; нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах смотретьразвалины домов и следы отчаянного боя…»
Младшая дочь Тучкова, Наталья, ставшая впоследствии женой Огарева, была еще совсем юной девушкой в пору первой встречи с Тургеневым. Бывая у Тучковых, Иван Сергеевич подружился с нею, охотно читал ей стихи или рассказывал планы своих будущих произведений.
Как-то раз, подробно рисуя ей замысел пьесы «Вечеринка», Тургенев воодушевился и с большим искусством стал представлять в лицах весь ход пьесы.
Прочитав в кругу друзей законченную тогда комедию «Где тонко, там и рвется», Тургенев посвятил ее Наталье Алексеевне Тучковой.
Однажды в теплый июльский день, сидя в компании молодежи на крыльце, выходившем в сад, Иван Сергеевич обратился к Тучковой с вопросом:
– Натали, за которого из нас двух, – тут он кивнул головой в сторону Анненкова, – вы бы скорее вышли замуж?
– Ни за которого, – отвечала та смеясь.
– Однако если б нельзя было отказать обоим? – сказал он.
– Почему же нельзя? – возразила Наталья Алексеевна. – Ну, в воду бы бросилась.
– И воды бы не было, – возразил Тургенев.
– Ну, – усмехнулась девушка, – за вас бы пошла.
– А! Вот этого-то я хотел, все-таки вы меня предпочли Анненкову, – и Иван Сергеевич поглядел на своего друга с торжествующей улыбкой.
– Конечно, – добавила Натали, – если и воды не было бы.
И все засмеялись…
Скоро, однако, и этот небольшой дружеский круг стал редеть. Осенью уехали из Парижа в Россию Тучковы. Прощаясь с Натальей Алексеевной, Тургенев подарил ей на память маленькую записную книжечку, где было написано, чтоб она никогда не принимала какое-либо серьезное решение, не взглянув на эти строки и не вспомнив, что есть человек, который ее никогда не забудет.
Вслед за Тучковыми стал собираться в дорогу и Анненков.
Русским, проживавшим за границей, становилось все труднее затягивать возвращение на родину – правительство Николая I смотрело на Францию как на постоянный и опасный очаг революционных волнений.
Незадолго до отъезда Анненкова Герцен спросил его:
– Итак, решено, вы едете?
– Решено.
– Жутко вам будет в России.
– Что делать? Мне ехать необходимо… Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо; как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.
– Нет, для меня выбора нет. Я должен остаться, и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на Place Maubert. Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования…
На каждого, кто возвращался в Россию из мятежной Франции, смотрели с подозрением. Вскоре по приезде на родину у Тучкова произошел такой разговор с графом Киселевым:
– Ах, любезный Тучков, не знаю уж, красными или белыми чернилами записано ваше имя в черной книге, но что оно записано в ней, это факт.
– Почему же?
– Не знаю, как вам это объяснить. Одним словом, от вас за версту пахнет баррикадами. Да, друг мой, не следовало оставаться в Париже во время июньских дней…
Варвара Петровна давно уже настойчиво звала сына домой, и задержка с возвращением так сильно возмущала ее, что она, по обыкновению, решила прибегнуть к крутым мерам воздействия – не высылать сыну денег.
Бедность не на шутку грозила Тургеневу. Литературных заработков никак не могло хватить на самое скромное существование. Получив однажды триста рублей от редактора «Отечественных записок», Иван Сергеевич писал ему, что эти деньги решительно спасли его от голодной смерти.
Некоторое время он колебался, возвращаться ли ему вообще на родину.
Весной следующего года в Париже распространилась холера. Смерть косила людей направо и налево. Не хватало мест в больницах, не хватало похоронных дрог.
У Тургенева кончался срок найма квартиры, и он не стал возобновлять контракта, намереваясь покинуть Париж. Был конец мая, когда Тургенев пришел переночевать к Герцену. После обеда он стал жаловаться на тоску, которую наводят на него бессолнечный жар и духота. Вечером он отправился, по совету Герцена, купаться. Возвратившись, почувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил Герцена.
– Я – потерянный человек, – сказал он своему другу. – У меня холера.
Отправив на следующее утро жену и детей в деревеньку Виль д’Аврэ под Парижем, Герцен десять дней выхаживал занемогшего Ивана Сергеевича, оставшись с ним в квартире вдвоем.
Весной 1850 года Варвара Петровна прислала, наконец, сыну деньги на дорогу в Россию, но при условии, что возвращение будет безотлагательным. Брат также звал его, намереваясь совместно с ним добиваться от матери обеспечения их существования и независимости.
В середине мая Тургенев поехал в последний раз проститься с полями и рощами Куртавнеля.
Затем он вернулся в Париж, рассчитывая повидаться с Герценом, но не застал его. «Я приехал из деревни, любезный Александр, час спустя после твоего отъезда; ты можешь себе представить, как мне было это досадно; я бы так был рад еще раз с тобой повидаться перед возвращеньем в Россию. Да, брат, я возвращаюсь; все вещи мои уложены, и послезавтра я покидаю Париж… Ты можешь быть уверен, что все твои письма и бумаги будут мною доставлены в целости…»
Тургенев опять, по-видимому, взял на себя обязанность «дипломатического курьера» и подобно тому, как из Берлина он вез в 1841 году бумаги Бакунина, так теперь исполнял аналогичную просьбу Герцена.
Не зная, как сложатся обстоятельства, они заранее условились о своеобразном способе сообщения. «Бог знает, когда мне придется тебе писать в другой раз; бог знает, что меня ждет в России… В случае какого-нибудь важного обстоятельства ты можешь известить меня помещением в объявлениях «Journal des Débats», que m-r Louis Morisset de Caen» [27]27
«Журнал де Деба», что господин Луи Мориссе из Кана,
[Закрыть]и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захочешь мне сказать». Так условился Тургенев со своим старшим другом, покидая Францию.
ГЛАВА XVII
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. СМЕРТЬ МАТЕРИ. У ГОГОЛЯ
В конце июня пароход, отправившийся из Штеттина в Петербург, увозил его на родину.
Друзья и близкие знакомые Тургенева нашли, что внешне он сильно изменился. Волосы его наполовину поседели, хотя ему не исполнилось еще и тридцати трех лет.
Спеша в Москву, где поджидала его Варвара Петровна, он не задержался в Петербурге. Свидание с матерью поначалу подало ему надежду на благоприятный исход переговоров, но эфемерность этой надежды скоро стала непререкаемо ясна.
На просьбу сыновей, изложенную в самой почтительной форме, определить им хоть небольшой доход, чтобы они не беспокоили ее из-за всякой безделицы, Варвара Петровна ответила смутным обещанием уладить это дело, но так и оставила все без изменений.
Своеволие и властолюбие Варвары Петровны, проявлявшиеся в крайне резкой форме, вывели, наконец, Ивана Сергеевича из равновесия. Более всего он был обижен за старшего брата и откровенно высказал матери, что жестоко играть комедию с семейным человеком, обреченным на лишения вместе с женой и детьми.
Это решительное объяснение повлекло за собой ссору и переезд его из дома в гостиницу. А затем Иван Сергеевич уехал в небольшое имение Тургенево, по соседству со Спасским, принадлежавшее прежде его отцу. А матушка – следом в Спасское.
В одном из первых же писем, отправленных из деревни в Париж, Иван Сергеевич рассказал в самых общих чертах Полине Виардо историю своей любви к Авдотье Ермолаевне. Он чувствовал потребность в этой исповеди, потому что воочию убедился, как унизительно и жалко положение его восьмилетней дочери Пелагеи, которую Варвара Петровна сдала на руки одной из крепостных прачек.
Вся деревня злорадно называла Полю барышней, а кучера заставляли ее таскать ведра с водой.
Иной раз по приказанию Варвары Петровны девочку наряжали в чистое платье и приводили в гостиную, где «бабушка» говорила окружающим, не стесняясь присутствия сына:
– Вглядитесь хорошенько в эту девочку. На кого она похожа?
Спрошенные смущенно мялись.
– Как, вы не видите сходства? Да ведь это вылитое лицо нашего Ивана. Ведь это твоя дочь? – со смехом обращалась к нему Варвара Петровна.
«Все это, – признавался впоследствии Тургенев Фету, – заставило меня призадуматься насчет будущей судьбы девочки, а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без советов мадам Виардо, то я изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая.
Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушку из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми».
В конце октября Поля, сопровождаемая француженкой Родер, уезжавшей в Париж, находилась уже в пути за границу, а Тургенев в письме к Виардо, посланном вдогонку, писал, что он твердо решил с этого времени делать для дочери все, что будет от него зависеть.
И случилось так, что только через пять с лишним лет произошла в Париже встреча отца с дочерью, успевшей за это время позабыть родной язык.
Не успел Иван Сергеевич проводить дочь, как получил в Петербурге известие, что Варвара Петровна смертельно больна. В тот же день он выехал в Москву, но матушку в живых уже не застал. Он приехал поздно вечером в день похорон, когда родственники уже вернулись с кладбища Донского монастыря.
Даже в предсмертных муках не могла Варвара Петровна примириться с тем, что сыновья освободятся от ее власти. «Ее последние дни, – писал Иван Сергеевич Полине Виардо, – были очень печальны… Она старалась только оглушить себя, когда уже начиналось хрипение агонии; в соседней комнате, по ее распоряжению, оркестр играл польки».
Мысль ее была занята одним, как добиться разорения сыновей. В последнем письме, написанном управляющему Спасским имением, она приказывала продать с этой целью имение за бесценок или даже поджечь его.
«Несмотря ни на что, все это надо забыть, – заключал свое письмо Тургенев, – и я сделаю это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете все. А между тем я чувствую, что ей было так легко заставить нас любить ее и сожалеть о ней».
Дневник Варвары Петровны, обнаруженный после ее смерти, потряс Ивана Сергеевича. Он читал его, не отрываясь, и не мог потом всю ночь сомкнуть глаз, раздумывая о ее судьбе, о ее характере и поступках.
«Какая женщина!.. Да простит ей бог все! Но какая жизнь!»
При разделе наследства Иван Сергеевич проявил большую уступчивость в пользу брата. Он высказал только одно желание – непременно оставить за собою Спасское.
Во владениях своих он «немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал общему освобождению, при выкупе везде уступал пятую часть – и в главном имении не взял ничего за усадебную часть земли, что составляло крупную сумму».
Так отвечал сам писатель в семидесятых годах, когда ему был задан молодым историком литературы С. А. Венгеровым вопрос: что он сделал для своих крестьян? И при этом Тургенев добавил: «Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее; но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни есть. Хвастаться ею нечего, но и бесчестья она, полагаю, принести мне не может».
Своеволие Варвары Петровны ставило прежде Ивана Сергеевича в положение гордого нищего; он, по словам его друзей, хотя и сознавался порой, что находится в трудных обстоятельствах, но никогда не показывал границ, до которых доходили его лишения. Им и в голову не могло прийти, что он нуждался по временам в куске хлеба.
Теперь Тургенев не был уже стеснен в средствах. Он стал жить шире, завел повара и, будучи от природы хлебосолом, любил приглашать к обеду друзей и знакомых. Он охотно ссужал деньгами друзей, когда у них случалось безденежье.
На вечерах у Тургенева бывали литераторы, артисты, ученые и музыканты. Частыми гостями были Анненков, Полонский, Некрасов, Аксаковы, Боткин, Грановский, Забелин, М. Щепкин, Пров Садовский, С. Шумский.
Посетителям этих вечеров запомнились жаркие споры, часто происходившие между хозяином и Константином Аксаковым по вопросам, разделившим тогдашнее образованное общество на два лагеря – славянофилов и западников.
Запомнились бытовые юмористические сценки из народной жизни, с которыми выступал знаменитый актер Садовский, хоровое пение отрывков из оперы Верстовского «Аскольдова могила».
Светло, весело и дружелюбно проходили эти вечера.
Конец 1850 года и начало следующего были заполнены у Тургенева заботами о постановках его пьес в театрах обеих столиц.
С ними было много мытарств в театральной цензуре. Да и в журналах печатать их также было не легко. Одни пьесы подвергались искажениям, другие запрещались вовсе.
Ревностным пропагандистом драматических произведений Тургенева был Михаил Семенович Щепкин. Он читал их в домах друзей и знакомых и пробовал ставить на домашнем театре те комедии, на которые был наложен цензурный запрет. Особенно долго и упорно занимала его воображение роль Кузовкина в комедии «Нахлебник».
В это время Тургенев был еще полон веры в свое призвание к драматическому творчеству, чему способствовал в известной мере успех постановок «Холостяка» и «Провинциалки».
И публика, и актеры, и журналисты радовались появлению хорошей русской комедии после наскучивших всем французских водевилей.
«Как поучительно для автора присутствовать на представлении своей пьесы! – писал Тургенев, вернувшись из театра, где ставили «Холостяка». – Что там ни говори, но становишься публикой, и каждая длиннота, каждый ложный эффект поражает сразу, как удар молнии. Второй акт, несомненно, неудачен, и я считаю, что публика была слишком снисходительна. И все же я очень доволен. Опыт этот показал мне, что у меня есть призвание к театру и что со временем я смогу писать хорошие вещи».
На долю «Провинциалки» выпал еще больший успех. Взволнованный и смущенный шумными вызовами, Тургенев поспешил скрыться. Вызовы прекратились только после того, как Щепкин объявил со сцены, что автора нет в театре.
Знаменитый актер, друживший с Пушкиным, Гоголем, Белинским, проникся живой симпатией к Ивану Сергеевичу.
Однажды Тургенев сказал Щепкину, что хотел бы познакомиться с автором «Мертвых душ». Он так был захвачен гением Гоголя, что чуть ли не наизусть затвердил его произведения.
Михаил Семенович ответил:
– Если желаете, поедемте к нему вместе.
Но тут Тургенев возразил, что, пожалуй, неловко ехать без предупреждения – не подумал бы Гоголь, что он ему навязывается.
– Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать! – воскликнул Михаил Семенович.
Однако не замедлил побывать у Гоголя и спросил его:
– С вами, Николай Васильевич, хочет познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам?
– Кто же это такой?
– Да человек довольно известный; вы, вероятно, слыхали о нем: Иван Сергеевич Тургенев.
За развитием дарования Тургенева Гоголь с некоторых пор следил с большим интересом. Еще недавно, говоря в одном доме о молодых писателях, он заметил: «Во всей нынешней литературе больше всех таланту у Тургенева».
На предложение Щепкина Гоголь ответил радостным согласием, чем даже несколько удивил Михаила Семеновича, знавшего, как неподатлив стал он на новые знакомства.
Собственно, только теперь предстояло Тургеневу познакомиться с любимым писателем, которого он видел до этого несколько раз – в тридцатые годы на кафедре Петербургского университета, в начале сороковых– в доме Елагиных в Москве.
Годы, отделявшие эти встречи одну от другой, были целыми эпохами в жизни и творчестве Гоголя. На университетскую кафедру всходил он еще в пору первых своих шагов в литературе, в доме Елагиных Тургенев смотрел как бы со стороны на прославленного писателя, направившего русскую литературу по новому пути. А теперь предстояло свидание с человеком, переживавшим полосу глубокого внутреннего кризиса в связи с крушением «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Передовая русская общественная мысль в лице Белинского и Герцена с непререкаемой ясностью показала ложность пути, избранного писателем, впавшим в мистику и проповедничество.
Гоголь знал о близости Тургенева к Белинскому и Герцену. Он хотел высказать Тургеневу при свидании свое впечатление от статьи Герцена «О развитии революционных идей в России», где осудительно говорилось о его последней книге; он болезненно воспринимал критику своей «Переписки».
Щепкин и Тургенев приехали к нему днем и тотчас же были приняты им. Он жил тогда на Никитском бульваре, в доме Талызина, у графа А. П. Толстого.
Войдя в комнату, они увидели Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Одет он был в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны.
Незадолго до этого посещения Тургенев видел его в театре на представлении «Ревизора». Сидя в глубине ложи, словно прячась от зрителей, Гоголь, вытянув шею, смотрел на сцену, не вполне, видимо, довольный игрою артистов. Тургенева поразила перемена, происшедшая в нем с того времени, когда он видел его десять лет назад. «Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица…»
Встретил он Щепкина и Тургенева очень приветливо и, пожав Ивану Сергеевичу руку, сказал:
– Нам давно следовало быть знакомыми…
Он пригласил их сесть.
Тургенев пристально вглядывался в лицо Гоголя. «Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым».
Заговорив о литературе, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям и что представляет собой самый процесс работы над ними, Гоголь заметно оживился.
– У вас есть талант, – сказал он Тургеневу, – обращайтесь с ним бережно… Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное – не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть сначала повесть создастся в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно исправлял свои стихи. Его рукописей теперь никто не разберет, так они перемараны.