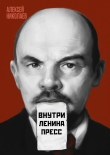Текст книги "Малознакомый Ленин"
Автор книги: Николай Валентинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Покрывало над «делом» держали, действительно, крепко. В тайну полученных денег были посвящены очень немногие. Сначала о них знала лишь верхушка партии – Ленин и Богданов, тогда еще не бывшие врагами. В партийных документах того времени, например, в резолюции Пленума Центрального Комитета в январе 1910 года пункты, относящиеся к этому делу, не были опубликованы, вместо них стоят точки. После Октябрьской революции кое-кто, например Крупская, Ярославский касались появления у большевиков этого капитала, но это было сказано мимоходом, с явным намерением не вдаваться в детали и, конечно, ни слова не говорить о том, что появление «прочной материальной базы» имело значение не только для партии, но и для личного бытия Ленина. Излагая то, что удалось собрать об этой экстраординарной истории, заранее оговариваюсь, что для меня остаются темными и неизвестными некоторые стороны этого дела. Вряд ли мы когда-либо узнаем о них: кажется, никого из главных участников, свидетелей этого кусочка истории, уже нет в живых.
Послушаем прежде всего Крупскую: «Двадцатитрехлетний Николай Павлович Шмит, племянник Морозова, владелец мебельной фабрики в Москве на Пресне, в 1905 г. целиком перешел на сторону рабочих и стал большевиком. Он давал деньги на «Новую Жизнь», на вооружение, сблизился с рабочими, стал их близким другом. Полиция называла фабрику Шмита «чертовым гнездом». Во время московского восстания эта фабрика сыграла крупную роль. Николай Павлович был арестован, его всячески мучили в тюрьме, возили смотреть, что сделали с его фабрикой, возили смотреть убитых рабочих, потом зарезалиего в тюрьме. Перед смертью он сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам.
Младшая сестра Николая Павловича – Елизавета Павловна Шмит – доставшуюся ей после брата долю наследства решила передать большевикам. Она, однако, не достигла еще совершеннолетия, и нужно было устроить ей фиктивный брак, чтобы она могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Елизавета Павловна вышла замуж за т. Игнатьева, работавшего в боевой организации, но сохранившего легальность, числилась его женой – могла теперь с разрешения мужа распоряжаться наследством, но брак был фиктивным. Елизавета Павловна была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный брак дал возможность сразу же получить наследство, деньги переданы были большевикам… Виктор Таратута летом (1908 г.) приехал в Женеву, стал помогать в хозяйственных делах и вел переписку с другими заграничными центрами в качестве секретаря Заграничного бюро Центрального Комитета».
Дополним рассказ Крупской выпиской из «Большой Советской Энциклопедии» (изд. 1-е, т. 62, ст. 556):
«Шмит, Николай Павлович (1883–1907) – видный участник революции 1905, примыкал к партии большевиков, студент Московского университета. Унаследовав мебельную фабрику на Пресне, Шмит провел на ней ряд мероприятий для улучшения положения рабочих. Активно участвовал в подготовке декабрьского вооруженного восстания 1905; купил большое количество оружия, которым были вооружены шмитовская и некоторые другие боевые дружины. Дал московской большевистской организации (через М. Горького) крупные денежные средства на вооружение рабочих. В разгар декабрьского восстания Шмит был арестован и подвергнут пыткам. Фабрику сожгли правительственные войска по приказу генерала Мина. 13/26/II 1907 (после года с лишним одиночного заключения) Шмит был найден мертвым в камере тюремной больницы (по одной версии, он был зарезан тюремной администрацией, по другой – покончил самоубийством). Его похороны превратились в большую политическую демонстрацию. Свое состояние еще в 1905 завещал большевикам».
Что здесь верно, что ложно? Есть несомненно разноречие между Крупской и Советской Энциклопедией. По словам первой – Шмит «стал большевиком», по словам Энциклопедии – он только «примыкал» к большевикам, то есть им в чем-то сочувствовал, им чем-то помогал. На большевистском языке это очень важное отличие, а не простой нюанс. Ярославский называет Шмита просто «сочувствующим большевизму». Крупская категорически заявляет: «Шмита зарезали». Энциклопедия допускает, что он «покончил самоубийством». Энциклопедия утверждает, что Шмит завещал свое имущество большевикам еще в 1905 году, то есть, можно предположить, составил тогда на этот счет какой-то акт. По словам же Крупской и Ярославского, он только перед смертью, следовательно, незадолго до февраля 1907 года«сумел передать на волю», что завещает свое имущество большевикам.
Оба цитированные документа дают огрубленное и упрощенное, лишенное всякой психологии, описание обстановки, в которой произошло интересующее нас событие. В действительности она много сложнее. Николай Шмит не был только владельцем лучшей в России мебельной фабрики на Нижней Прудовой улице в Москве в квартале Пресни. Он был сыном дочери Викулы Елисеевича Морозова, членом знаменитой купеческой династии Морозовых, королей русских текстильной индустрии, владевших огромной фабрикой (15 тысяч рабочих) в Твери, еще большей фабрикой «Никольской мануфактурой» (18 тысяч рабочих) в Орехово-Зуеве и двумя меньшими фабриками в окрестностях того же города.
Эта династия в своем большинстве уже не состояла из представителей «темного царства», каким в свое время изображал Островский русское купечество. Морозовы не ограничивались постройкой для себя дворцов в мавританском стиле на Воздвиженке в Москве или на Спиридоновской улице – особняк Саввы Морозова. В фамилии Морозовых, а иные из них оставались верующими старообрядцами, существовало навеянное религией убеждение: «Господь мне дал богатство, я должен помнить, что придется пред Богом дать ответ, как я с ним поступил». Капиталу своему многие Морозовы хотели по возможности дать «богоугодное» употребление и не столько в виде даров церквам или монастырям, сколько в виде поддержки общей культуры, искусства и просвещения. Один из Морозовых – брат матери Николая Шмита, собирал и собрал драгоценную коллекцию русского фарфора, составляющую ныне важнейшую часть советского Государственного музея фарфора. Иван Абрамович Морозов собирал картины французских художников Моне, Сислея, Писсарро, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Ван-Гога и других. Его собрание, соединенное при советской власти с замечательным собранием картин купца Щукина, по общему признанию, и в том числе самих французов, представляет по богатству и ценности единственную во всем мире коллекцию. Другие Морозовы давали огромные деньги на клиники и больницы Москвы. На их деньги были основаны известные Пречистенские рабочие курсы, сыгравшие большую роль в просвещении (и революционизировании) московских рабочих. С денежной поддержкой Морозовых существовала пользовавшаяся всеобщим уважением лучшая в России либеральная газета «Русские Ведомости», на чтении которой в течение десятков лет воспитывалась русская интеллигенция. С денежной поддержкой Саввы Морозова зародился Московский Художественный Театр Станиславского и Немировича-Данченко.
Но в лице Саввы Морозова, миллионера, не считающего мезальянсом жениться на простой работнице его фабрики [36]36
После смерти Саввы его жена вышла замуж за Рейнбота – московского градоначальника.
[Закрыть], Морозовы выходят из области поддержки только искусства, культуры, просвещения, народного здравия. Савва Морозов идет уже дальше: нужно освободить народ от гнета, создать для него лучшую жизнь. И приходит к мысли о необходимости и нравственном долге поддерживать революцию. В 1901–1903 годах он дает каждый месяц по две тысячи рублей на содержание «Искры». Через М. Горького он связывается с большевиками, дает на устройство побегов из ссылки, на постановку нелегальных типографий. Он прячет у себя на квартире революционеров – в частности Н. Баумана. Он вносит залог для освобождения в 1905 году из тюрьмы Горького. В мае 1905 года вдруг уезжает за границу и в Каннах, 26 мая вечером, в номере гостиницы Royal-Hotel кончает с собой выстрелом в сердце. Застраховав свою жизнь в 100 тысяч рублей, завещает свой страховой полис М. Ф. Андреевой, жене в то время М. Горького, которая передает этот полис в руки Красина, Ленина, Богданова. О деньгах, таким образом полученных большевиками, много говорилось на V Лондонском съезде в 1907 году.
Горький, превосходно знавший Савву Морозова и даже бывший с ним на ты, – писал о нем: «Смерть Саввы тяжело ударила меня. Жалко этого человека славный он был и умник большой и – вообще – ценный человек. В этой смерти – есть нечто таинственное. Савва Морозов жаловался на свою жизнь. «Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это – знают, и этим тоже пытаются застращать меня. Семья у нас – не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это – «хуже смерти…»».
Смерть Саввы Морозова действительно окружена тайной. Незадолго до смерти, объясняют одни, он был в крайне подавленном настроении, говорил о надвигающихся на него больших неприятностях, намекал, что предан каким-то близким существом. Причина самоубийства, утверждают другие – несчастная любовь к Андреевой, которая, бросив мужа, в это время стала женой М. Горького. Ни то и ни другое – замечают третьи: он ушел из жизни потому, что душа этого кающегося миллионера, глубоко заболевшая вопросом «как жить», не нашла на него ответа. Какое из объяснений ближе к истине – не знаем.
Это маленькое предисловие нам кажется необходимым, чтобы правильно подойти к «делу Шмита». Крупская говорит: «он был племянником Морозова», и не отдает себе отчета, что такое указание имеет гораздо больше значения, чем она думает. Шмит, вероятно, ознакомился с изрядным количеством революционных брошюр (в университете все-таки его интересовало естествознание, а не политика), но не они склонили его к революции. Влияние на него Саввы Морозова психологически было во сто крат больше,чем влияние всех большевистских прокламаций и произведений Ленина. Николай Шмит – продолжатель покаянной струи, появившейся в богатой московской купеческой среде, и если он буквально не повторял, что нужно дать отчет пред Богом за употребление имеющегося у него богатства, по сути дела нечто подобное, в виде мысли об «уплате долга народу», у него в голове несомненно сидело. Уплату долга он начал с того, что настоял на проведении ряда мер, улучшающих положение рабочих на его мебельной фабрике. Твердых и определенных политических и социальных убеждений у этого свободолюбца не было. Двери его дома были открыты лицам всех революционных течений: у него бывали социалисты-революционеры, меньшевики (например Я. В. Сорнев) и большевики, среди которых наиболее частым посетителем был сначала Андриканис и позднее, в 1906 году, Таратута.
Это Савва Морозов представил Шмита М. Горькому, и юный студент был польщен неожиданным вниманием, оказанным ему знаменитым писателем, слава которого в то время была в зените. А так как Горький, что хорошо известно всем его знавшим, производил впечатление не только пролитием в подходящую минуту слезы, но, когда хотел, и находил это нужным, умел очаровывать людей, быть большим charmeur'ом, – Шмит ни в чем отказать ему не мог и откликался на все намеки помочь освободительной борьбе. В итоге Шмит передал Горькому изрядную сумму денег на разные революционные цели, на вооружение, на поддержку «Новой Жизни», хотя приходилось слышать, что последняя получила субсидию не из рук Шмита, а от Саввы Морозова. Почти одновременно с вручением денег Горькому, тот же Шмит передал обратившемуся к нему князю Д. Шаховскому какую-то сумму на нужды организующейся конституционно-демократической (буржуазной) партии.
Этот факт показывает, что Шмит хотел помогать не однойпартии, а всемучастникам освободительной борьбы, говорит – сколь ошибочно его зачислять в число «правоверных большевиков» и с какой осторожностью нужно употреблять даже более эластичную формулу о его «примыкании к большевизму».
Во время подавления декабрьского восстания в 1905 году фабрика Шмита была дотла разрушена пушками правительственных войск. В этом акте появилось нечто большее, чем желание подавить один из главных революционных бастионов, – это была месть. Бомбардировка шла и после того как стало ясным, что никакого сопротивления никто из фабрики не оказывает. Некоторые рабочие были расстреляны, многие арестованы, был арестован и Шмит.
Вопреки тому, что рассказывает Крупская и Энциклопедия, Шмит никаким физическим пыткам не подвергся.Охранка никогда бы не посмела применить к нему, члену фамилии Морозовых, приемов, ставших вещью нормальной и обычной в практике ГПУ и НКВД. Жандармский офицер из московского охранного отделения, ведавший делом Шмита, «обработал» его другим способом. Играя роль доброжелателя, имеющего миссию спасти члена именитого московского купечества, он вел с ним «сердечные» разговоры, как бы тайком, без всякой протокольной записи. Есть указание, что обстановка, в которой происходили «сердечные» беседы, походила более на отдельный кабинет ресторана (стол с разными яствами и напитками), чем на камеру допроса. Наивный, не умеющий лгать Шмит, ловко обрабатываемый следователем (предполагают и под действием выпитого вина), однажды назвал фамилии рабочих, получивших через него оружие, назвал и других лиц, говорил о Савве Морозове и его субсидиях революции. Тогда жандармерия перестала вести игру, открыла свои карты и показала Шмиту полную запись того, что он говорил: за стеною «кабинета» сидели стенографы. По словам людей, интересовавшихся этой драмой, с этого момента Шмит и подвергся пытке. Но то была моральная пытка, самопытка.Его ужаснуло, что сделал он нечто навеки непоправимое: предал!
Шмит от природы не был крепким человеком, и наследственность его была тяжкая. Моральный удар согнул его слабый организм. Разлагаемый мрачными угрызениями совести, Шмит превратился в комок нервов. Он перестал есть, спать. День и ночь мучаясь, он пришел к выводу, что загладить, хотя бы отчасти, свое преступление, свою вину, он может тем, что откажется от всего своего богатства и для блага народа передаст его революции. Об этом решении категорического характера он говорил своим сестрам, имевшим с ним свидание в тюрьме. Было ли им сделано прямое указание, что его имущество должно быть передано именно партии большевиков и только ей одной? Этого утверждать нельзя, но такое толкование было дано – заинтересованными в том людьми, интимно сблизившимися с сестрами Шмита. В конце 1906 года признаки психического расстройства у Шмита стали столь явны, что он был переведен в тюремную больницу. Его родственники, имея протекцию в влиятельных сферах, получили обещание, что Шмит будет освобожден на поруки семьи. Он знал об этом, но дождаться освобождения не пожелал. В феврале 1907 года в камере тюремной больницы, разбив окно, он крупным стекольным осколком перерезал себе горло.
Это выдумка, что при его похоронах будто произошла «большая политическая демонстрация», о которой говорит «Большая Советская Энциклопедия». Ничего подобного не было, но в печати смерть Шмита была отмечена. Это сделал в частности пишущий эти строки в еженедельнике «Дело Жизни» (1907, № 5): «На рассвете 26 февраля, – гласит сделанная мною заметка, – в каземате московских «бутырок» с перерезанной сонной артерией «нашли» труп товарища Николая Павловича Шмита. Арестованный в декабрьские дни в связи с вооруженным восстанием, Шмит в продолжение 14 месяцев находился в одиночном заключении, претерпевая все муки тюремного режима. Он умер, замученный жестокими преследованиями своих палачей, и на кладбище жертв российской революции выросла лишняя могила. В годовщину праздника освобождения пролетариат не забудет своих товарищей, павших в борьбе, и в их числе Николая Павловича Шмита».
Моя заметка составлена в стиле и духе того времени. Что произошло в тюрьме со Шмитом, я никакого понятия тогдане имел, помню только, что, когда моя заметка появилась, Сорин и другой меньшевик, только что вышедший из Бутырской тюрьмы (фамилию его я забыл), мне сообщили, что никаких «физических мук» тюремного режима Шмит не испытывал, «материально», например относительно всякой еды, находился в исключительно благоприятных условиях, имел в тюремной больнице комнату даже с комфортом, но уже с половины 1906 года был явно ненормальным. Тюремные сторожа, получавшие от родственников Шмита весьма изрядную мзду, выполняли потихоньку по его поручению все сношения Шмита с внешним миром, но говорили, что речи, которые им держит Шмит, часто таковы, что ничего в них разобрать нельзя. Странным им казалось и его отношение к приходящим к нему на свидание сестрам. То он плакал, что их около него нет, то говорил сторожам: «Гоните их в шею, не допускайте ко мне». «Делом Шмита» интересовался позднее Дорошевич – фельетонист «Русского Слова» и Боборыкин – бытописатель купеческой среды Москвы. Кроме них с делом Шмита меня знакомили Сорнев, Бурышкин и Крицкий.
Имущество Шмита в долях, соответствующих закону, должны были наследовать – совершеннолетняя сестра Екатерина, несовершеннолетняя (18 лет) Елизавета и 15-летний брат. Для перехода наследуемого ими имущества в руки большевиков нужно было, чтобы все эти три лица (уже обеспеченные наследством от их отца) этого хотели, и этому способствовали. Брат Шмита, даже при желании исполнить волю покойного, мог это сделать лишь с согласия опекуна. Последний в эту историю не был затянут. Все говорит за то, что она шла мимо него. Главными передатчиками капиталов Шмита партии Ленина должны и могли быть только сестры покойного.
Говоря о сестрах, нужно немедленно перейти к фигурам, стоящим за их спиной в этом деле.
Первая фигура – Таратута, лицо, в советское время управлявшее различными банковскими учреждениями. В 1906 году некоторыми большевиками, в том числе известной своей ехидностью особой, носившей кличку «Землячка», по адресу Таратуты было брошено обвинение в доносительстве и провокации. Обвинение, тщательно и дважды рассматривавшееся, оказалось вздорным. Но во время распри между большевиками в 1909–1911 годах Богданов, ставший врагом Ленина, снова поднял вопрос о провокаторе Таратуте, с целью указать, из каких грязных, аморальных субъектов состоит окружение Ленина. На это обвинение Таратута ответил большим письмом, интересным для нас в том отношении, что в нем упоминаются факты, которые, дополняясь другими нам известными, позволяют очертить его роль в истории с наследством Шмита. Бежав из ссылки и побывав на Кавказе, Таратута приехал в Москву в ноябре 1905 года и, следовательно, имел возможность познакомиться с Николаем Шмитом, арестованным лишь во второй половине декабря. Таратута сделался секретарем Московского Комитета большевиков, «ведал его кассой и издательством», а так как для сего нужны были деньги, Таратута, узнав, что доступ к кошельку Николая Шмита очень легок, стал посещать дом богатого студента и с большим рвением ухаживать за Елизаветой Шмит. Весной 1906 года Таратута уехал на партийный съезд в Стокгольм, а позднее, осенью того же года, «по личным делам жил (вместе с Елизаветой Шмит?) в Финляндии». Весной 1907 года он уехал на партийный съезд в Лондон, где по распоряжению Ленина был избран кандидатом в члены Центрального Комитета. Возвратясь со съезда, Таратута, заметив, что за ним весьма следит полиция, покинул Москву. В августе мы находим его среди тех, кто посещает дачу «Ваза» в Куоккала, где живут Ленин и Богданов. Исключая время, проведенное в Стокгольме, Лондоне, Финляндии и Ярославле (откуда он получил делегатский мандат на Лондонский съезд), – в Москве он пробыл немного более кода, но и такого короткого времени для сего ловкого человека было достаточно, чтобы наладить поток денег в большевистскую кассу. Елизавета Шмит стала его женой, принося ему и сердце, и деньги. Деньги большие, как можно судить по его письму – ответу Максимову, он же Богданов. Считая, что провокаторство связано всегда с корыстными целями, – Таратута бросил следующую фразу: «…Максимов знал другой факт не менее показательный, но известный лишь тесному кружку. Он знал, что я передал в партийную кассу сумму денег, превышающую во много раз плату самых крупных провокаторов. Я не могу здесь называть цифры, но Максимов знал, что тут были единовременные передачи в сотни тысяч, что эти суммы приходилось лично мне выручать от всяческого полицейского риска. И все эти суммы (во много раз превышающие личное благосостояние не только мое, но и всех моих близких) хранились и передавались мной под контролем и под отчет всей коллегии и самого Максимова, подпись которого имеется под большинством документов, относящихся к этим пожертвованиям. Максимов знал, что достаточно было мне упустить хотя бы одну предосторожность из тех, которые мы вместе с ним намечали, чтобы партия лишилась этих пожертвований».
В этом заявлении многое для нас туманно, а оно большой важности. Таратута указывает, что передавал в партийную кассу «сотни тысяч». Так как он делал свое заявление в Париже, то, говоря о «сотнях тысяч», он очевидно имел в виду не рубли, а франки. И в этом случае обнаруживается огромность суммы, попавшей в руки большевиков, – она будет уточнена в дальнейшем. Из письма Таратуты выясняется, что в перекачивании к большевикам капитала Шмита, кроме Ленина – горячее участие принимал Богданов-Максимов, что бросает неожиданный и особый свет на сего создателя «эмпириомонистической философии». Мне всегда казалось, что по самому складу и своей психики, и своего ума, интересующегося абстрактными вещами, он не может стоять близко к «операциям», проделывавшимся Таратутой. Таратута указывает, что добываемые деньги ему пришлось выручать от «всяческого полицейского риска». Фраза безграмотная. Он, по-видимому, хотел сказать, что, «выручая» деньги, ему приходилось рисковать, чтобы не попасться полиции. Какой год тут имеет в виду Таратута? Очевидно, не 1908 год. Тогда он был уже за границей и мог не бояться царской полиции. Время, о котором он рассказывает, вне всякого сомнения – вторая половина 1907 года, когда Таратута приезжал в Куоккала на дачу «Ваза» и намечал с Богдановым (об этом, несомненно, знал Ленин) «предосторожности», которые нужно было принимать, чтобы партия не лишилась пожертвований. Можно таким образом установить, что деньги от наследства Шмита началипоступать к большевикам уже в 1907 году, шесть-семь месяцев спустя после смерти Шмита. Если это так, то Таратута не потерял много времени, ухаживая за сестрой Шмита. Он, как Цезарь, «пришел, увидел, победил» – и Елизавета Шмит стала его женой, принося большое приданое. Но она была несовершеннолетняя и не могла распоряжаться ни принадлежащим ей имуществом, ни доставшимся ей от брата наследством, а Таратута, живя на нелегальном положении и будучи то Вильяминовым, то Сергеевым, то Грибовым, не мог вступить с ней в законный брак и в качестве мужа распоряжаться ее деньгами. Для замещения Таратуты была кем-то придумана упоминаемая Крупской хитроумная комбинация с «т. Игнатьевым», а раз Крупская о ней знает, еще лучше знал о ней Ленин. Роль этого таинственного человека в предоставлении Елизавете Шмит права и юридической возможности распоряжаться деньгами – разумеется, очень велика. Без его подписи, доверенности, она не имела бы денег, не имел бы их и Таратута. В своих воспоминаниях Войтинский рассказывает, что Ленин смотрел на Таратуту, как на сутенера, тем не менее очень ценил его финансовый подвиг. Члену Большевистского Центра Рожкову (Рожков одно время жил в Куоккала на той же даче «Ваза») Ленин сказал: «Тем-то он (Виктор Таратута. – Н.В.) и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый».
В какой мере верно, что Таратута был на содержании у богатой купчихи? Средства Елизаветы Шмит были двоякого рода. У нее были деньги, полученные ею в наследство от отца. На эти деньги жила она, и вместе с нею жил и деньгами пользовался Таратута. С другой стороны, были деньги, полученные в наследство от умершего брата, и они передавались партии, причем Таратута, зная, что его кое-кто называет сутенером, стремился в своем ответе Богданову парировать это обвинение указанием, что суммы, им передаваемые партии, «во много раз превышают личное благосостояние не только его, но и всех его близких», то есть личные капиталы Елизаветы Шмит.
Обратимся к другой фигуре в этом деле – помощнику присяжного поверенного большевику Андриканису. В затеянной афере – переводе капитала Шмита в руки партии, Андриканис и Таратута сначала несомненно действовали в полном согласии, практикуя разделение труда: один ухаживал за Екатериной, другой за Елизаветой. О сестрах Шмит вот что мы знаем. Ухаживавшие за ними «партийцы» представлялись им большими героями таинственного, им неизвестного мира, гонимыми пророками какой-то новой религии, к которой, как они знали, склонялась и симпатия их трагически погибшего брата. Обе сестры были свободолюбивы, романтически настроены и, по-видимому, весьма влюбчивы. Екатерина Шмит полюбила Андриканиса, он со своей стороны, стал весьма искренно ею увлекаться, а так как, в отличие от Таратуты, Андриканис не был человеком на «нелегальном положении», ничто не мешало ему сочетаться законным браком с богатой наследницей. Это весьма устраивало партийные дела,вводя в семью Шмитов еще одного своего человека. Пользуясь своими законными правами и влиянием на жену, он должен был способствовать, чтобы достающееся обеим сестрам наследство от брата конспиративно, умело и без проволочек было передано партии. Андриканис должен был следить за реализацией имущества Шмита (в наследстве, насколько нам известно, были значительные пакеты паев мануфактур Морозовых). По какому-то поводу Андриканис был арестован, но, благодаря связям, удалось добиться сравнительно скоро его освобождения, и в качестве наказания он подвергся высылке за границу, И вот в Париже оказались Андриканис со своей супругой и Таратута с Елизаветой Шмит. Была ли тому виной «парижская атмосфера», со всеми ее влияниями и соблазнами, или другие причины, но в психологии Андриканиса произошел резкий перелом в сторону «буржуазного перерождения». Большевистская партия настолько утратила в его глазах всякий ореол и кредит, что он пришел к убеждению, очевидно склоняя к тому и свою жену, что незачем передавать партии наследство Шмита. С этого момента между Андриканисом и большевистским Центром начинаются столкновения, переходящие в свирепую борьбу. Большевистский Центр, представленный в этом деле Таратутой, требует денег, Андриканис отказывает, – и Таратута грозит ему убийством. Попытка Андриканиса жаловаться в Большевистский Центр на «недопустимые угрозы» вызывает следующий ответ, подписанный Лениным, Зиновьевым, Каменевым и Иннокентиевым:
«Мы заявляем, что все дело Z. (то есть Андриканиса , – Н.В.) т. Виктор (Таратута. – Н.В.) вел вместе с нами, по нашему поручению, под нашим контролем. Мы целиком отвечаем за это дело все и протестуем против попыток выделить по этому делу т-а Виктора».
О ходе распри и ее финале можно найти следующие строки в книге «Две партии» Каменева, в которой он обвиняет Мартова в неверном освещении этого дела. По конспиративным соображениям, следуя за Мартовым, Каменев тоже называет Андриканиса буквой Z. – нам, разумеется, этого делать не нужно.
«Большевики поручили попечение о деньгах, которые они должны были получить, Андриканису. Когда же наступило время получения этих денег, то оказалось, что Андриканис настолько «сроднился» с этими деньгами, что нам, подпольной организации, получить их от него неимоверно трудно. Ввиду целого ряда условий, о которых немыслимо говорить в печати [37]37
Для полного освещения дела, особенно в его начальной фазе, было бы крайне интересно знать этот «целый ряд условий»; увы, они и по сей день остаются для нас неизвестными.
[Закрыть]Андриканис не мог отрицать прав Большевистского Центра полностью. Но Андриканис заявил, что большевикам принадлежит лишь часть этого имущества (очень ничтожная), что эту часть он не отказывается уплатить, но ни сроков, ни суммы указать не может. А за вычетом этой части все остальное принадлежит ему,Андриканису… Большевистскому Центру осталось только отдать Андриканиса на суд общественного мнения, передав третейскому суду свой иск. И вот здесь-то и наступила труднейшая часть дела. Когда зашла речь о суде, Андриканис письменно заявил о своем выходе из партии и потребовал, чтобы в суде не было ни социал-демократов, ни бывших социал-демократов.Нам оставалось либо отказаться от всякой надежды получить что-либо, отказавшись от такого суда, либо согласиться на состав суда не из социал-демократов. Мы избрали последнее, оговорив только ввиду конспиративного характера дела, что суд должен быть по составу «не правее беспартийных левых» [38]38
Мартов говорит, что большевики, ища судей, обратились к Центральному Комитету партии эсеров. Каменев утверждает, что Большевистский Центр такого обращения не делал: два эсера, бывших третейскими судьями с его стороны, фигурировали как частные лица. Со стороны Андриканиса судьями были один эсер и один беспартийный левый.
[Закрыть]. По приговору этого суда мы получили максимум того, чего вообще суд мог добиться от Андриканиса. Суду пришлось считаться с размерами тех юридических гарантий, которые удалось получить от Андриканиса до суда. Все-таки за Андриканисом осталась львиная доляимущества».
В отличие от Андриканиса, из захваченного им богатства, давшего партии очень немного и с запозданием, Таратута передал много, и деньги Николая Шмита начали входить в партийный оборот уже во вторую половину 1907 года. Ленин, прибыв из Финляндии в Женеву, мог с помощью этих денегначать собирать около себя разбитую большевистскую гвардию и с февраля 1908 года – издавать газету «Пролетарий». Из его письма в Одессу к Воровскому можно понять, что большевистская касса была уже полна. Вызывая Воровского в Женеву, Ленин писал: «В августе нового стиля все же непременно рассчитываем на Вас, как на участника конференции… Деньги вышлем на поездку всем большевикам… Убедительно просим писать для нашей газеты. Можем платить теперь за статьи и будем платить аккуратно» [39]39
Ленин, т. XXVIII, с, 546.
[Закрыть].
Революционные газеты и журналы не имели обычая платить гонорар. Значит, «прочная материальная база», как назвала Крупская поступившие к большевикам капиталы, начинала приносить плоды. За два года в Женеве, а потом в Париже, было издано 30 номеров «Пролетария». В среднем каждый номер (редакция, гонорары, печать, экспедиция) требовал затраты около 4000 франков, следовательно, на одно только издание «Пролетария» пошло 116 тысяч франков. Учитывая другие расходы, – оплату членов Большевистского Центра, Заграничного бюро Центрального Комитета, затраты на делегатов, приезжавших в конце 1909 года на пленум ЦК, и т. д., – нужно считать, что за 1908–1909 годы из большевистской кассы ушло, минимум, 200–220 тысяч франков. Но в январе 1910 года произошло событие с последствиями, сделавшее капитал московского самоубийцы предметом новой ожесточенной борьбы, которую тщетно и безнадежно пытались смягчить и затушить представители немецкой социал-демократии и Международного Социалистического Бюро.