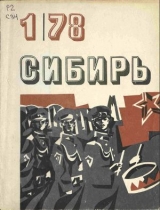
Текст книги "Красный сотник"
Автор книги: Николай Великанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
5
Очнулся Тулагин от холодного водяного хлеста. Шел дождь. Все правильно, он должен был пойти. Ведь в последний раз Тимофей видел небо черным, брюхастым от туч. И вот теперь оно разверзлось обильным ливнем.
Упругие струи ливня будто хлыстами немилосердно секли измученного Тулагина. Особенно доставалось изуродованному лицу. Чтобы спрятать его от отвесной стены дождя, Тимофей решил повернуться с бока на живот. Тяжело, больно, но благо, что ливень быстро расквасил болотный грунт – в размягченной тине все же легче поворачиваться. Мертво стиснув разбухшие губы, Тулагин уткнулся бесчувственным ртом в прохладную жижу.
Теперь ливень безбожно хлестал спину. Сперва вроде ничего, терпеть можно. Однако дальше все больнее и больнее. Как шомполами...
Тимофей испытал их на себе не так уж давно. Кажись, двадцать пятого, не то двадцать шестого января.
* * *
Первый читинский казачий полк вторую неделю хозяйничал в Чите. Казаки ежесуточно несли в городе патрульную службу.
Тимофей исправно выполнял все, что ему приказывали и поэтому числился в числе благонадежных, усердных служак. Сотенный нередко отмечал его за старание, а однажды поощрил даже.
– Даю тебе, Тулагин, за примерную службу отпуск на воскресенье. Располагай им, как хочешь, – сказал он.
Тимофей не поверил ушам. Он все намеревался подкатиться к начальству с просьбой отпустить его на денек в Могзон, чтобы повидаться с Любушкой, а тут – на тебе, сотенный сам дает ему отпуск.
– Мне в Могзон бы надобно, – подавляя сконфуженность, заговорил Тулагин.
– Знаю, зазноба там у тебя осталась. В прислуге у Шукшеева... – сотенный лукаво погрозил пальцем. – Ладно, поезжай. Сегодня наши с вагоном туда – и ты с ними. Я замолвлю слово...
В доме Шукшеева Тимофея приняли радушно. Елизар Лукьянович кликнул Любушку:
– Любушка... А кто к нам в гости!?
Увидев на пороге Тимофея, Любушка растерялась. Она никак не предполагала встретить его здесь. Широкие брови ее вспорхнули вверх, в чуть раскосых голубых глазах затрепетали, заметались радостные огоньки.
– Здравствуйте, Тимофей...
– Егорович, – подсказал Тулагин.
– ...Егорович, – закончила смущенно Любушка.
В прихожую вошла дородная, запахнутая в богатый халат женщина.
– Это георгиевский кавалер Тимофей Егорович, – представил хозяин гостя. – А это жена моя, Марфа Иннокентьевна.
Жена слегка кивнула Тимофею и, сославшись на нездоровье, вышла из прихожей.
– Что ж мы стоим? – зашумел Шукшеев. – Стол готовить! Самовар! – кинул он в глубь дома. – Любушка, раздевай гостя, приглашай в залу. Будь хозяйкой.
После казармы Тимофею дом Шукшеева показался раем. На всем точно лежала печать умиротворения, все дышало благодатью. И среди всего этого Любушку он представил постоянно окруженной заботой, душевной теплотой, бесконечно счастливой.
За столом, после пропущенных двух рюмок смирновской водки, Тимофей расчувствовался:
– Хорошо у вас: чистота кругом, спокойно... Завидую вам, Елизар Лукьянович. Любушке завидую...
– У нас всегда так. Правда ведь, Любушка? Да что про нас-то... Как у вас в Чите? Что слышно?.. Сказывают, мутят народ большевики.
– А што в Чите? По всякому... Наше дело – служба. В патрульный наряд пойдешь, увидишь чего-нибудь. А чтоб услыхать – не услышишь. Нам разговаривать-то с народом не положено. Задержали кого – сдали куда следует... Наше дело – служба...
– И правильно, нечего с народом разговаривать. Народ в строгости надо держать. Которые митингуют, прижать, а злостных – нагайками.
Первый хмель резко ударил в голову, но со временем прошел, и Тимофей стал улавливать смысл слов Шукшеева.
– Нагайками?..
– Нагайками, – подливал в рюмку водку Елизар Лукьянович.
Тимофей больше пить отказался, объяснил:
– Мне пора назад ехать. А насчет выпивки в полку строго теперь.
– И правильно, Егорыч, что строго. Дисциплина в армии – первейшее дело. А по нынешнему времени самое наипервейшее.
Елизар Лукьянович предложил Любушке познакомить гостя со всеми шукшеевскими хоромами.
Дом состоял из верхов и низов. На верхах – пять комнат: в четырех жили хозяин с женой, пятая – зала. На низах, в полуподвальных трех комнатах, располагалась прислуга. В одной – конюх-бобыль Максим, во второй – повариха Настя.
Любушка жила в самой маленькой угловой каморке, рядом с кухней а кладовыми. Несмотря на свою малость и небольшое окошко в верхней части стены, каморка выглядела светлой и даже не тесной. Узкая, аккуратно заправленная кровать, шестигранный столик у окна, табурет и плоский сундучок – вот и вся мебель.
Любушка рассказала о себе. Родилась она в Могзоне, здесь, в этом доме. Отца своего не знает, говорят, он некоторое время конюховал у Шукшеевых, а потом сгинул куда-то. Мать, как и она теперь, была в прислуге еще у покойного Лукьяна Саввича – батюшки Елизара Лукьяновича. Померла в позапрошлом году от горячки.
После рассказа девушки дом Шукшеева уже не казался Тимофею уютным и благодатным, а Любушкина жизнь в нем – такой уж счастливой.
...Через некоторое время Тулагину опять выпала оказия побывать в Могзоне. Правда, времени у него было в обрез, но повидаться с Любушкой все же сумел. На этот раз он постучался в дом Шукшеева не с парадного подъезда и не на верхи, а в угловое окошко низов.
Любушка провела его к себе через дворовую калитку. Вид у нее был расстроенный, глаза покраснели.
Тимофей осторожно спросил:
– Обидел никак кто?
– Пустяки. Это так...
Так, да что-то не так. Но Тимофей смолчал, не стал навязываться с настойчивыми расспросами. Она заговорила сама:
– Помните, в день первого нашего знакомства на станции вы говорили мне, что теперь свобода, что теперь все равны будут?
– Помню... Говорил...
– А где же оно, это равенство?.. – из глаз девушки покатились слезы.
– Да что случилось, Любушка?..
– Я так понимаю, Тимофей Егорович, – вытерла слезы и, несколько успокоившись, снова заговорила она. – Ну, богатство, оно и есть богатство. Тут кому как богом дано. А на что же топтать человека, если он бедный?..
– Да што случилось, ради бога?
– Проспала я немного сегодня и не успела к заутрене прибрать спальню Елизара Лукьяновича и Марфы Иннокентьевны. Так Елизар Лукьянович раскричался, разругался разными словами... А я что? Не человек, что ли? Зачем на меня разными словами?.. А Елизар Лукьянович еще и издевается: козявка ты, а не человек. Тебе, кричит, на роду написано быть в работницах, в прислуге. Да я, кричит, если захочу, что угодно с тобою сделаю – захочу растопчу, захочу помилую...
– Ах он гад... – задохнулся от гнева Тимофей. – А таким душевным казал себя... Сволочь буржуйская... Вот я покажу ему, как измываться...
Любушка не успела и глазом моргнуть, как Тулагин махнул на верхи. Но не застал Шукшеева – он с утра уехал по делам в Читу...
Говорят, гора с горою не сходится. А тут сошлись.
Надо же было такому случиться, что сразу по приезде Тимофея в Читу его вместе с Софроном Субботовым послали разгонять демонстрацию в железнодорожных мастерских. По дороге Тимофей спросил Софрона:
– О чем у них демонстрация, как думаешь?
– Супротив новой власти бастуют.
– А почему супротив?
– Большевики мутят.
– Может, правильно мутят, а? Большевики, говорят, – за простой народ. А что Ленин и его партия немцам продались и казачество хотят уничтожить, брехня все это.
– Кто его знает. Может, и брехня.
Тулагин и Субботов прибыли в железнодорожные мастерские, когда демонстрацию уже разогнали. Но без дела они не остались. Им поручили конвоировать одного из бунтовщиков.
Тимофей и Софрон вели в тюрьму пожилого железнодорожника по малолюдной улице города.
– Слышь, папаша, что митинговали-то? – не удержался Тимофей.
– Чтобы таким, как ты, глаза открыть! – больше с горечью, чем со злостью отозвался железнодорожник. – Кого плетями стегаете, шашками рубите, под ружейными дулами водите? Своего же брата бедняка: крестьянина, рабочего... Эх вы, топите в крови революцию на свою же голову.
«Верно ведь режет», – мысленно согласился с ним Тимофей. Вспомнились слова Шукшеева: «Нечего с народом разговаривать... Нагайками...»
– Слышь, Софрон, – поближе привернул Тулагин свою лошадь к Софроновой. – Может, отпустим, а?
– Ты что, Тимоха? – испуганно блеснули глаза Субботова. – Под военно-полевой суд захотел?..
Из проулка на улицу выкатили расписные пароконные сани. В них, за спиной конюха Максима, в роскошной колонковой шубе Шукшеев. Максим придержал лошадей, пропуская конвой. Шукшеев повернул на казаков голову, узнал Тулагина, шумно закричал:
– Георгиевский кавалер! Егорыч!.. Заловили бунтаря? Так его... В тюрьму ведете? Хоть взбодрите раз-другой нагайкой. Мороз-то нынче какой... Заколеть может большевичок-то... Любушка низко кланялась тебе, Его...
Шукшеев не досказал. Тимофей яростно хлестнул лошадь, налетел на сани и со всего плеча стебанул Елизара Лукьяновича нагайкой.
– Это – для твоего взбадривания, – приговорил он, горяча Каурого. – А это, чтоб не заколел. – И снова опустил на шукшеевскую голову нагайку. – А это за Любушку... – обрушил новые удары. – За «растопчу и помилую»...
Максим гикнул на лошадей, сани понеслись.
– А ты чего, папаша, рот раззявил? – закричал, выходя из себя, Тимофей железнодорожнику. – Катись на все четыре стороны! Кому говорят, катись...
Софрон кинулся на Тулагина:
– Опомнись. Что творишь?!
– Не мешайся, Софрон! – отмахнулся Тимофей от Субботова. – Знаю, что творю.
– Под суд же пойдем...
– Беги, папаша, пока не поздно. Бог даст, в лучшее время свидимся...
На шомпола Тимофея препровождало двенадцать казаков. Среди них был и Субботов.
За бунтовщика-железнодорожника и за Шукшеева Тулагин полностью взял вину на себя. На допросе он так и сказал: «Один я виноват. Субботов противился моим действиям, даже мешал мне, но я пригрозил ему карабином».
Софрон отделался двухчасовым караулом под шашкой на лютом морозе и обмороженными щеками и носом. Тимофею же, как избившему купца Шукшеева не по политическим мотивам, а из-за мести за оскорбленную невесту и отпустившему бунтовщика опять же не по политическим убеждениям, а в состоянии душевной взволнованности, присудили двадцать пять шомполов.
В помещении, где проводилась экзекуция, сотенный подошел к Тулагину и демонстративно грубо, на виду у всех казаков сорвал с его груди георгиевские кресты.
– Какое имеешь право?.. – возмутился Тимофей. – Я кровью их заслужил.
– Молчать! – гаркнул сотенный. – По нынешнему времени имею такое право. – Он повернулся к казакам: – На нары его, сукиного сына!..
Отпустить Тулагину первые пять горячих сотенный приказал Субботову.
– По-свойски отпусти, – ухмыльнулся он.
С каменным лицом Софрон сделал первый легкий удар.
– Как бьешь? Силы нет, что ли? – взбеленился сотенный. – Гляди у меня, положу на нары рядом с дружком!..
Тимофей сначала сравнительно легко, терпеливо переносил удары. Но с десятого терпеть стало невмоготу. Он глухо застонал. После пятнадцатого взмолился криком:
– Братцы, не выдержу... Забьете до смерти... Помру...
А сотенный считал безжалостно:
– Шестнадцать, семнадцать... девятнадцать... цать... цать...
Тимофей не помнил, когда и как казаки сняли его с лавки, отнесли в лазарет.
* * *
Чернозеров, проводив семеновцев до березняка, где проходила дорога на Серебровскую, направился было на заимку вокруг луга. Но хлынувший ливень заставил его бежать напрямик.
Он втянул голову в плечи, прикрыл глаза рукою и так сослепу и наскочил на лежащего в осоке Тулагина. Зацепился за него ногою, с размаху плюхнулся в болотную мокредь.
– Свят-свят!.. Мертвец никак... – Поднялся, перекрестился, перевернул Тулагина на бок. Тимофей издал слабый звук. – Живой, однако. – Старик, конечно же, не признал в этом безжизненном, сплошь облепленном грязью человеке командира красной сотни, которую ночью выводил на станцию. – Бог знат, как с тобой быть, – рассуждал вслух Чернозеров. – Однако, человек все же... Ладно, пойду за Варварой. Не дадим сгинуть.
6
Сон это или явь? Кто-то осторожно, но настойчиво тряс Тимофея за плечо. И звал. Тихо, вроде издалека:
– Тулагин... Тимоха...
* * *
Тимофей резко подхватился с койки:
– Тревога?.. Уходим куда?..
Охнув от засаднивших на спине болячек от шомполов, снова повалился на постель.
– Разве ж так можно вскакивать... Вот беда... – понизив голос, сказал Субботов, прикрывая рукой рот Тулагина. – Потише... – Он опасливо обернулся на дверь лазарета, продолжил: – Никакая не тревога. Я предупредить забежал. Стоял в штабе нынче на карауле, прослыхал, значит... Начальство дело твое пересмотреть хочет. Арестант, што ты отпустил, будто оказался опасный преступник. Писарь Ермохин говорит, как бы политику тебе не пришили. Смекаешь, чем пахнет?..
Тимофей поморщился от боли.
– Уходить мне надо.
– Уходить, может, и надо. Да ведь хворый ты.
– Я уже отошел. Ремни от шомполов вот только лопаются. Болючие, проклятые... Но это ничего. Терпимо.
– Куда махнешь-то? Домой нельзя – туда первым делом хватятся.
– Белый свет велик...
– Каурого твоего я приглядывал. Не схудал, справный. Застоялся, конечно, маленько.
– Мне одежу бы и овса для Каурого с ведро на первый случай. Я б прямо сейчас махнул. К утру в Могзоне был бы.
– Это все можно, конечно. Но я за хворость твою побаиваюсь.
– То ничего... Терпимо.
Субботов ушел. Вскоре он появился под окном с тулупом, валенками и заячьей папахой. Тимофей, распахнув окно, принял одежду...
Моргающее холодными звездами небо обещало трескучий мороз. И все-таки со второй половины февраля ночи уже не так студили землю, как раньше. Повертывало к теплу.
В расположении полка, несмотря на заполночь, было оживление. Казаки уезжали в наряды, возвращались с дежурства. Чуть в стороне от конюшен искрил небольшой костер, возле которого грелось несколько человек.
Тимофей вылез через окно на улицу, прикрыл за собой створки, торопливо направился к конюшням. Проходя мимо костра, услышал реплику в свой адрес:
– Проспал, видать, у бабенки...
Кто-то хихикнул:
– Я б зараз тоже не прочь погреться с милашкой.
Софрон поджидал Тулагина за углом конюшни. Каурый был заседлан.
– Через общие ворота езжай, – предупредил Тимофея Софрон. – Только что патрульные выехали. Сойдешь за отставшего. Дежурный не остановит.– Субботов обнял дружка. – Прощевай, Тимоха... Я погляжу тут, а то и сам, может, дам тягу. Третий год дома не был... Ты, если что, куда оно у тебя повернется, – можешь к нам, в Таежную. Скажешь обо мне, отец примет.
...В Могзон въехать днем Тимофей не отважился. Светлое время перекоротал в заброшенном зимовье, а вечером, когда спустились сумерки, отправился на станцию.
В угловое окошко низов шукшеевского дома он постучался глубокой ночью. Любушка спала, но на голос Тимофея отозвалась скоро. Открыла дверь каморки, не зажигая лампы. Тимофей с порога притянул ее к себе, теплую, пахнувшую постелью, поцеловал сначала в щеку, потом в губы. Любушка не оттолкнула его, только стыдливо зарылась лицом в заиндевелый отворот тулагинского полушубка, шепнула, впервые обращаясь на ты:
– Морозный ты и колючий, как ежик...
От этих слов у Тимофея точно разлилось в сердце что-то горячее, приятно взбудоражившее всю его душу.
– Я за тобой приехал, – жарко дышал он, еще крепче прижимая к груди Любушку. – Хочу, чтоб ты женой мне стала.
...Переговорив и перемечтав на многие дни и месяцы наперед, они уснули на узкой Любушкиной кровати перед вторыми петухами.
* * *
– Тулагин... Тимофей... – по-прежнему тряс кто-то плечо Тимофея.
Лица проявлялись в сознании постепенно. Сначала контуры: одно белое, круглое, как луна, другое темное, удлиненное. Затем обозначились отдельные черты. На белом, круглом, Тимофей отметил приплюснутый нос, большие серые глаза, две глубокие складки на скошенном лбу. На темном – под орлиным носом подкова смоляных усов, над прищуренными глазами тоже, как и усы, смоляные брови, сросшиеся у переносицы. Софрон?! Вроде Субботов и вроде не он.
Точно, это был Субботов.
– Очнулся наконец...
Софрон помог Тулагину подняться в постели. Тимофей был очень слаб, но с помощью Субботова все же сел, огляделся вокруг. Комната – не комната, амбар, что ли, или зимовье. Стены срублены из бревен, не обмазанные. Стол – широкая плаха – стоял на грубо тесанных половицах двумя ножками, другую пару ножек заменял чурбак лиственницы. У стен длинные полки со всякой утварью. Рядом с печкой – кровать в виде нар, застланная толстым потником.
– Где я? – разжал разбухшие губы, полушепотом спросил Тулагин.
Софрон поспешил с ответом:
– На заимке Чернозерова. Помнишь, старик нас ночью выводил за Серебровкой. Так вот он и есть, Илья Иванович Чернозеров – хозяин этой заимки. А это невестка его – Варвара.
– Мы думали, из белых ты... – заговорила грудным голосом Варвара, светловолосая, сероглазая, круглолицая молодуха. – Денно и ночно отхаживали. Какой ты был – страшно глянуть. Мертвяк мертвяком. Совсем плох. Хорошо, пуля внутренности не задела – так кровью же начисто истек. Думали, не выживешь. Ан нет – выжил...
Тимофей был облачен в широкую холщовую рубаху: его одежда, выстиранная и заштопанная, висела на жердях неподалеку от печки. Он сидел на приставленных к стене двух скамьях, застеленных разным тряпьем и старым ергачом, облезлой шерстью наверх.
– Ребята как? – опять задвигал губами Тулагин.
– Рассеялись поначалу. А сейчас собираются помаленьку. Многих, конечно, недосчитаемся...
Долго сидеть Тимофею было трудно: усталость ломала его, клонило набок. Субботов помог ему лечь.
Варвара спохватилась:
– Подкрепиться тебе надобно. Почитай, целую неделю только молоком да медом подкармливали. Теперь, слава богу, можно и лапшичкой горяченькой.
Тимофей опять спросил:
– А Моторин как?
Субботов помедлил с ответом:
– Моторин?.. – Он отвернулся к стене. – Зарубили Моторина семеновцы. Раненый он был. Ребята вынесли его со станции. К утру – до Серебровской, значит, а там – белые. Особый эскадрон какого-то есаула Кормилова. Ну и...
– А сам как?
Субботов рассказал Тулагину о своих мытарствах.
Из огненного четырехугольника он вырвался последним, с пятью самыми близкими бойцами-товарищами. Софрон повел их не на хребет, с которого они атаковали станцию, а вдоль железнодорожного полотна. У разъезда свернул в лес, к станице Холодной.
В Холодной у хозяина крайней избы разузнал, как проехать на Колошу. Оказалось, прямо дороги нет, только через Серебровскую. Пришлось день провести в тайге, так как с восходом солнца в Холодную заявились семеновцы.
Ночью Субботов с бойцами двинулись в Серебровскую. При подъезде к ней попали в засаду. Потеряли двух бойцов, снова ушли в тайгу.
На вторую ночь Софрон опять решился приблизиться к станице. Изрядно покружив огородами, пробрались во двор Чернозерова. Всех мучил голод, а Софрона еще – незнание обстановки в округе.
К счастью, бородатый проводник был дома. Он впустил Субботова с бойцами, замахав руками:
– Зверю в пасть прикатили... Похватают вас тута... Порубают, как энтих...
От старика Софрон узнал, что после ночного «тарарама» на станции в Серебровскую прискакал эскадрон белоказаков во главе с лютым есаулом. Семеновцы поймали несколько конников, одних расстреляли, других зарубили. А самый главный – красный сотник – вырвался от белых, тяжело ранив есаула.
Чернозеров сообщил также, что семеновцы сейчас перекрыли все дороги, повсюду ищут красногвардейцев и особенно их командира. Так что пока нужно забиться в тайгу и переждать некоторое время. Старик посоветовал воспользоваться для этого зимовьем у Лосиного ключа. Место там спокойное, неотоптанное; два-три дня вполне можно отсидеться.
Подкрепившись у Чернозерова и запасшись провизией, Субботов с тремя бойцами отправился на Лосиный ключ. Старик подробно растолковал, как туда проехать. Пообещал через сутки наведаться.
Ночь стояла лунная. Но в малознакомой местности поблуждать немного все же пришлось. Покрутив верст десять меж сопок, ручеек, как и объяснил старик, привел Субботова и его спутников нехоженым распадком к замшелому зимовью.
Через ночь пришел Чернозеров. И не один. Он привел шестерых бойцов из моторинского взвода во главе с Хмариным. Хмарин-то и поведал о том, как белые зарубили раненого Моторина.
Чернозеров с глазу на глаз сказал Субботову, что у него на заимке лежит в беспамятстве один человек. Вначале он принял его за семеновского офицера, потом засомневался: не похож он обличием на офицера. Да и в бреду бормочет что-то непонятное: то скомандует «Огонь по белым», то ругнет какого-то Шукшеева, то вспомянет, видать, свою зазнобу, Любушку...
Субботов не дослушал до конца старика. Ему стало ясно, что это Тулагин. Он тотчас собрался с Чернозеровым на заимку. И вот Софрон здесь...
В избу вошел Чернозеров. Теперь Тимофей мог по-настоящему рассмотреть своего спасителя. Старик был среднего роста, сухой, жилистый. Большая, кудлатая с чернью борода как-то не очень шла к его лицу – худому, узкому, с маленькими, глубоко всаженными в подлобье блеклыми глазами.
Чернозеров заговорил густым басом:
– Однако трогать его покуда не следует. Пущай в силы входит.
Софрон спросил Тимофея:
– Как? Побудешь здесь, пока на ноги встанешь?
Тулагин молчал.
– Тут, конечно, с едой получше. Да и пригляд женский. А мы соберем остальных и за тобой всей сотней...
Тимофей разжал губы:
– Поскорей...
– День-другой, не больше.
Подоспела Варвара с горячей лапшой:
– Будя вам хворого человека потчевать баснями. Надо, соколик, горяченького похлебать.
Прощаясь с Тулагиным, Софрон достал из-за пояса маузер, положил Тимофею под ергач.
– На всякий случай.








