Стихи остаются в строю
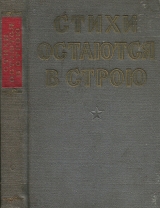
Текст книги "Стихи остаются в строю"
Автор книги: Николай Майоров
Соавторы: Алексей Лебедев,Владислав Занадворов,Иосиф Уткин,Павел Коган,Иван Рогов,Михаил Кульчицкий,Джек Алтаузен,Арон Копштейн,Сергей Спирт,Георгий Суворов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Море
В двухсветных залах Русского музея
Я с необычной жадностью глядел
На воплощенье красок Зюдерзее,
На паруса испанских каравелл.
Здесь оживали книги Стивенсона,
И ветер путал снасти бригантин,
Звала к себе неведомая зона…
Кто не прошел сквозь этот карантин?
С утра на взморье убежав из класса,
Мы по волне веслом чертили след,
А рулевой стоял на дне баркаса,
Сжимая самодельный пистолет.
Так возникало смутное начало
Далекого и трудного пути;
Да, нас изрядно море покачало,
Но научило плавать и грести.
В нас был наивной гордости излишек,
И за поход на яхте в Петергоф
Во всем сословье уличных мальчишек
Лишь мы носили титул моряков.
И те, кто вместе с нами полюбили
Свирепых ураганов голоса,
Дорогу в лавку меряли на мили
И из простынь кроили паруса.
Тогда еще мы многого не знали,
Не верили, разглядывая мир,
Что будет день – и в судовом журнале
О нас напишет скупо командир.
Все будет вечным – верность и отвага,
И мы, раскрыв походную тетрадь,
Взойдем на бак перед подъемом флага,
Чтоб жизнь по-настоящему начать.
1940
«Не всегда и вполне безупречно…»
Не всегда и вполне безупречно
Я общался с своей судьбой,
Ошибался порой, но вечно
Оставался самим собой.
На дороге моей вставала
Заслонявшая свет тоска,
Я ее миновал, как скалы
Незнакомого материка.
Но покоя мне не довольно
(Знаю цену таким вещам),
Ненавижу самодовольных
Обывателей и мещан.
Я видал и Неву и Припять,
Дружбу видел, только, прости,
Дружба – это не вместе выпить, —
Это вместе на смерть пойти.
Старый корабль
Проржавев от рубки до заклепок,
Он свое отплавал и одрях…
Снег лежит на палубе, как хлопок,
Ночь стоит на мертвых якорях…
Этот крейсер, ветхий и невзрачный,
Он давал четырнадцать узлов,
Но теперь от времени прозрачны
Стенки износившихся котлов.
В кочегарке бродит без опаски
Старая откормленная мышь,
По отбитой многослойной краске
Возраст корабля определишь.
Борт шершав от пластырей и вмятин,
Тряпки сохнут в путанице рей,
Он угрюм и даже неопрятен —
Старый предок наших кораблей.
А из порта движется эскадра,
И смеется флагман, говоря:
– Я на нем служил три года в кадрах,
Этот крейсер знают все моря!
Он когда-то был последним словом
Кораблестроительных наук.
Много лет он нам казался новым, —
Старость замечаем мы не вдруг!..
И мечталось флагману в походе,
Что когда-нибудь изобретут
Новый флаг в международном своде:
«Отставному крейсеру – салют!»
1940
Январь сорокового года
Суров январь сорокового года,
Покрыты белым пухом берега.
Синоптик мрачен. Скверная погода.
Шуршит в заливе скользкая шуга…
Весь день над шаткой палубою тучи,
Стоят морозы несколько недель,
Январский лед, тяжелый и колючий,
Плавучую сжимает цитадель.
На корабле сбираются к обеду,
Встречают кока дюжиной острот,
Течет спокойно мирная беседа,
Пока ее тревога не прервет.
Война, война… На строгости традиций
Она не отражается ничуть,
И горе вам, рискнувшим не побриться,
И вам, шинель забывшим застегнуть.
Но вдруг ворвался в шумные отсеки
И зазвенел прерывистый сигнал,
Единым звуком в каждом человеке
Он мускулы спружинил и собрал.
Клокочет море. Сипло завывая,
Холодный ветер палубы сечет,
А вдалеке, как будто неживая,
Лежит земля, закованная в лед.
И тишина минуты на две, на три,
Как перед смотром части войсковой,
Перед началом оперы в театре
Или в глухой тайге перед грозой.
Природа мрак над Балтикой простерла,
Померк под снегопадом зимний день.
Шестидюймовок стынущие жерла
Нащупывают первую мишень.
За этот миг ледовою коростой
На корабле железо обросло.
Ты не легко, не шуточно, не просто,
Жестокое морское ремесло!
Но для того, кто в молодости выбрал
Бесстрашие вечным спутником своим,
Нужна работа крупного калибра
И крепкий шторм подчас необходим.
Чтоб, никогда не ведая испуга,
Смотреть, как в черный вражеский зенит
Пружина боя, скрученная туго,
Молниеносным залпом зазвенит.
Как жадно звуки схватывает разум,
Когда мишень на целике видна,
И наконец магическим приказом
Звучит короткий возглас ревуна.
И сразу башня вздрогнула… другая…
Небесная качнулась высота,
Оранжевое пламя изрыгая,
Орудия взметнули хобота.
Казалось, море выло и гудело,
Противник бил наводкою прямой,
Эсминец рыскал в зареве обстрела,
Фонтаны оставляя за кормой.
Разбиты восемь движущихся точек.
Осталось две, они еще палят.
В предсмертной злобе раненый наводчик
Шлет свой последний яростный снаряд.
А в это время где-нибудь в Сибири,
Быть может, на краю материка,
В просторной и натопленной квартире
Ласкает сына нежная рука.
Вихрастый и взъерошенный мальчишка,
Ему совсем не хочется в постель,
Пред ним до дыр зачитанная книжка
И корабля картонная модель.
Уже двенадцать. Передана сводка,
А он не спит. И в шуме у крыльца
Ему все время слышится походка
На вахту заступившего отца.
И видит он клокочущее море
И слышит рядом плачущую мать,
А женщина, суровая от горя,
Все думает: сказать иль не сказать?..
И сдерживает, пряча телеграмму,
Рыданья, в горле вставшие комком…
– Усни, сынок! – А он твердит упрямо,
Как все мальчишки: – Буду моряком!..
1940
Григорий Кац
Курганы
В привольной степи за Полтавой,
В зеленом и жарком краю,
Спивают высокие Травы
Старинную песню свою.
Склонилась плакучая ива
Над тонкою ряской речной,
Курганы стоят молчаливо,
Полынной дыша тишиной.
Пусть утро играет над ними,
Вечерние зори горят, —
Сверкая главами седыми,
Безмолвно курганы стоят.
Положен в могилу степную,
Кто, смертных не ведая мук,
Вдруг падал на землю родную,
Не выронив сабли из рук.
Какой уже век ими прожит?
Безвестным могилам – почет.
И птица летит, и прохожий,
С дороги свернув, подойдет.
Он шапку снимает при встрече,
Завидя высоты вдали,
Кургану он сыплет на плечи
Две полные горсти земли…
А свадьба степною дорогой
Летит, бубенцами звеня, —
Внезапно и трезво и строго
Сваты остановят коня.
И шутка уже неуместна,
И песни в сторонку ушли.
Бросают жених и невеста
Две полные горсти земли…
Так, всадник промчится ли мимо,
Иль мать со слезами пройдет,
Иль об руку хлопец с любимой, —
Курган все растет и растет.
«Мчит на север состав по полям…»
Мчит на север состав по полям,
А за ним – торопливым шагом
Весна со снежком пополам,
Залегающим по оврагам.
Ветер в тамбур неслышно проник
С местожительства – Лозовая.
Улыбаясь, поет проводник,
Полустанки из тьмы вызывая.
Голубой огонь наших звезд
Долетает, в пути не сгорая.
Приблизительно триста верст
До улыбки твоей, дорогая.
День
Выходят звезды. Безвозвратно прожит
Горячих поисков, больших свершений день.
Ночь вырастает – словно время тоже
Широкую отбрасывает тень.
Как сохранить в себе неповторимый
Твой образ от начала до конца,
И даже этот пролетевший мимо
Степной и горький запах чабреца?..
Павел Коган
«Есть в наших днях такая точность…»
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова —
Косая сажень, твердый шаг —
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых.
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки
пробьемся мы!
… … … … … … … … … … …
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я – патриот, я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках…
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пес, от ностальгии[2]2
Ностальгия – тоска по родине.
[Закрыть]
В любом кокосовом раю.
1940
Ракета
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.
Ломоносов
Трехлетний
вдумчивый человечек,
Обдумать миры
подошедший к окну,
На небо глядит —
и думает Млечный
Большой Медведицей зачерпнуть.
…Сухое тепло торопливых пожатий,
И песня,
Старинная песня навзрыд,
И междупланетный
Вагоновожатый
Рычаг переводит
На медленный взрыв.
А миг остановится,
Медленной ниткой
Он перекрутится у лица.
Удар!
И ракета рванулась к зениту.
Чтоб маленькой звездочкой замерцать.
И мир,
Полушарьем известный с пеленок,
Начнет расширяться,
Свистя и крутясь,
Пока,
Расстоянием опаленный,
Водитель зажмурится,
Отворотясь.
И тронет рычаг.
И, почти задыхаясь,
Увидит, как падает, дымясь,
Игрушечным мячиком
Брошенный в хаос
Чудовищно преувеличенный мяч.
И вечность
Космической бессонницей
У губ,
У глаз его
Сходит на нет,
И медленно
Проплывают солнца,
Чужие солнца чужих планет.
Так вот она – мера людской тревоги,
И одиночества,
И тоски.
Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У мори отбили,
Отбили у крови,
Отбили у тупости и зимы,
Во имя войны сорок пятого года,
Во имя чекистской породы,
Во и! —
– мя!
Принявших твердь и воду.
Смерть. Холод.
Бессонницу и бои.
А мальчик мужает…
Полночью давней
Гудки проплывают у самых застав.
Крылатые вслед
разлетаются ставни.
Идет за мечтой,
на дому не застав.
И, может, ему
опаляя ресницы,
Такое придет
и заглянет в мечту,
Такое прядет
и такое приснится…
Что строчку на Марсе его перечтут.
А Марс заливает полнебосклона.
Идет тишина, свистя и рыча,
Водитель еще раз проверит баллоны
И медленно
Переведет рычаг.
Стремительный сплав мечты и теорий,
Во всех телескопах земных отблистав,
Ракета выходит
На путь метеоров.
Водитель закуривает.
Он устал.
1939
Из романа в стихах
…В те годы в праздники возили
нас по Москве грузовики,
где рядом с узником Бразилии
художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
как нынче, разные враги).
На перечиненных, охрипших
врезались в строгие века
империализм, антанта, рикши,
мальчишки в старых пиджаках.
Мальчишки в довоенных валенках,
оглохшие от грома труб,
восторженные, злые, маленькие,
простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
художники от мук сопреют,
пока они изобразят их,
погибших возле речки Шпрее.
А вы поставьте зло и косо
вперед идущие упрямо
чуть рахитичные колеса
грузовика системы «АМО»,
и мальчики моей поруки
сквозь расстояние и изморозь
протянут худенькие руки
людям
коммунизма.
Апрель 1941 г.
Стихи о ремесле
Поговорим о нашем славном,
о настоящем ремесле,
пока по заводям и плавням
проходит время, стелет след,
пока седеет и мужает
на всех дорогах и полях
листвой червленою в Можае
старинный провожает шлях.
О, Бонапартова дорога!
…Гони коней! Руби, руби!
От Нарвы до Кривого Рога
трубач, отчаявшись, трубит.
Буран над диким бездорожьем,
да волчьи звезды далеки,
да под натянутою кожей
стучат сухие костяки.
Да двери яростью заволгли,
да волки, да леса, да степь!
Да сумасшедший ветер с Волги б
ураном заметет гостей.
«Гони, гони! – Расчет не выдал,
фортуна выдала сама!
Гони коней! Денис Давыдов,
да сам фельдмаршал, да зима!»
А партизаны гонят рысью,
и у взглянувшего назад
вразлет раскосые «по-рысьи»,
с веселой искоркой глаза.
«Бурцев, Ера-забияка,
мой товарищ дорогой,
ради бога и арака,
приезжай ко мне домой».
Буерак да перестрелка,
наша ль доблесть не видна,
если сабля не согрела —
песня выручит одна.
Ухнет филин или пушка.
Что ты, родина сама
то ль гусарская пирушка,
то ль метельная зима.
Обернись невестой, что ли,
милой юностью взгляни!
(Поле, поле, поле, поле!
Придорожные огни!)
«А ну!» – Коней за буераки
во мрак ведет передовой.
Так ради бога и арака,
приезжай ко мне домой.
Поговорим о нашем честном,
пока заносит время след,
о ремесле высоком – песни
и сабли – ясном ремесле.
Декабрь 1939 г.
Арон Копштейн
Торпеда
Лейтенанту Б. Заболотскому
Как воплощенная победа,
Она легка и хороша,
Вот эта быстрая торпеда,
Живая, гневная душа.
Когда торпедоносный катер
Почти по воздуху летит,
Когда беснуется фарватер,
Свинцовой молнией покрыт.
Когда каюту вдруг окатит
Волной развинченной, крутой,
Когда дыхание захватит
Остервеневшей быстротой, —
Она скользнет из аппарата,
И поведут ее рули,
Чтоб поразить стальной расплатой
Чужие, вражьи корабли.
Она вбуравится сурово
В броню, в сплетенье грозных сил,
И скажет правильное слово
Неразговорчивый тротил.
Опять победоносный катер
Помчится, быстротой томим,
И захлебнется, словно кратер,
Стальное море перед ним.
«Вот июль Уссурийского края…»
Вот июль Уссурийского края
Постучался в палатку дождем,
Дышит почва, густая, сырая,
Та земля, на которой живем.
В каждой пади волнуется влага.
И у сопок скопилась вода,
И деревьям даровано благо,
Чтоб не сохли они никогда.
И не сохнут, они вырастают
В свете утренней, чистой красы.
На рассвете над ними блистают
Охлажденные капли росы.
Мы живем в полотняных палатках
На озерном крутом берегу,
В травянистых умытых распадках
Оттеснивших на север тайгу,
Где запрятался в дальней лощине
Хлопотливой речонки исток,
Где стоят боевые машины,
Неустанно смотря на восток.
Мы стоим нерушимым оплотом,
Мы на каждой границе живем.
Каждый куст может стать пулеметом,
Огнедышащим грозным гнездом.
Эти влажные наши просторы,
Созреваньем обильный июль
Защитим боевым разговором,
Неожиданным посвистом пуль.
Если я упаду, умирая,
Будь во взгляде последнем моем,
Молодая, живая, сырая,
Та земля, на которой живем.
Поэты
Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блестки желтых искр.
Теперь мы переламываем душу,
Мечтаем о театре, о кино,
Поем в строю вполголоса «Катюшу»
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу.
Дорога шла в навалах диабаза,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путано-восторженные фразы
Восторженней звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданья не топтали мы.
Что ранее мы видели в природе?
Степное счастье оренбургских нив,
Днепровское похмелье плодородья
И волжский нелукавящий разлив.
Ни ливнем, ни метелью, ни пожаром
(Такой ее мы увидали тут) —
Она была для нас Тверским бульваром,
Зеленою дорогой в институт.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну.
Нет, и сейчас я не люблю гармони
Визгливую, надорванную грусть.
Я тем горжусь, что в лыжном эскадроне
Я Пушкина читаю наизусть,
Что я изведал напряженье страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти,
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается кряду —
И вдруг забормотал, заговорил,
И ровное его сердцебиенье,
Уверенный, неторопливый шум,
Напомнит мне мое стихотворенье,
Которое еще я напишу.
И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт. Любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски – «на часах»),
И, как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок.
«И вечный бой. Покой нам только снится…»
Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.
«Мы с тобой простились на перроне …»
Мы с тобой простились на перроне,
Я уехал в дальние края.
У меня в «смертельном медальоне»
Значится фамилия твоя.
Если что-нибудь со мной случится,
Если смерть в бою разлучит нас,
Телеграмма полетит, как птица,
Нет, быстрей во много тысяч раз.
Но не верь ты этому известью,
Не печалься, даром слез не трать:
Мы с тобой не можем быть не вместе,
Нам нельзя раздельно умирать.
Если ты прочтешь, что пулеметчик
Отступить заставил батальон, —
За столбцом скупых газетных строчек
Ты пойми, почувствуй: это он.
Ты узнаешь, что советский летчик
Разбомбил враждебный эшелон, —
За столбцом скупых газетных строчек
Ты пойми, почувствуй: это он!
Пусть я буду вертким и летучим,
Пусть в боях я буду невредим,
Пусть всегда я буду самым лучшим, —
Я хотел при жизни быть таким.
Пусть же не проходит между нами
Черный ветер северной реки,
Что несется мертвыми полями,
Шевеля пустые позвонки.
Будешь видеть, как на дне колодца,
Образ мой все чище и новей,
Будешь верить: «Он еще вернется,
Постучится у моих дверей».
И, как будто не было разлуки,
Я зайду в твой опустевший дом.
Ты узнаешь. Ты протянешь руки
И поймешь, что врозь мы не умрем.
Борис Костров
Заказник
Заросший земляничником курган.
Таскают хвою муравьи на спинах.
Растет и зреет ярая малина.
Клыкастый пень
Стоит как истукан.
Кроты пещеры под корнями роют,
И в тишине —
до звезд вознесена —
О купол неба бьется головою,
Не в силах с места тронуться,
сосна.
По ветру к солнцу медленно летит
Пернатых новоселов стая,
Но безучастно —
с дерева —
седая
Сова на мир полуденный глядит.
Безмолвствую в раздумье.
Очарован
Речушкою, что буйствует во рву.
…И счастлив тем,
Что я к земле
прикован,
Что я во всем,
Как все во мне, живу!
1939
«А мне, клянусь, еще не надоело…»
А мне, клянусь, еще не надоело
Читать стихи кому придется, петь
И, в шорох листьев вслушиваясь, смело
В глаза тщеславным недругам смотреть.
И в миг тревог, больших страстей, исканий
Входить в тот час, когда заря и тишь…
И ты меня за это любишь втайне,
И лжешь другому, и ночей не спишь.
И шепчешь так: – Когда б не ты, мечтатель,
Не по годам веселый и седой,
Зачем мне жить и к морю в белом платье
В немую полночь выходить одной?!
1941
«Только фара мелькнет в отдаленье…»
Только фара мелькнет в отдаленье
Или пуля дум-дум прожужжит —
И опять тишина и смятенье
Убегающих к югу ракит…
Но во тьме, тронув гребень затвора,
От души проклинает связист
Журавлиную песню мотора
И по ветру чуть слышимый свист.
Ну, а я, прочитав Светлова,
Загасив в изголовье свечу,
Сплю в походной палатке и снова
Лучшей доли себе не хочу…
1941
После боя
Портянки сохнут над трубой,
Вся в инее стена…
И, к печке прислонясь спиной,
Спит стоя старшина.
Шепчу: – Товарищ, ты бы лег
И отдохнул, солдат!
Ты накормил как только мог
Вернувшихся назад.
Ты не поварил нам. Ну что ж,
В том нет большой беды.
Метет метель. И не найдешь
На небе ни звезды.
Твоей заботе нет цены.
Ляг между нами, брат.
Они снежком занесены
И не придут назад.
1943
«Когда утихнет бой и повара…»
Когда утихнет бой и повара
Определят потери по расходу,
Мне кажется, что ты еще вчера
Смотрела с моста каменного в воду.
О чем, о чем ты думала в тот миг?
Какие мысли сердце полонили?
Окопы. Ночь. Я ко всему привык.
В разведку мы опять сейчас ходили.
Но как до счастья далеко! Река
Бежит на запад по долине смело.
А то, что шлем прострелен у виска,
Так это чушь, обыденное дело.
1944
«Такой, как все, – в треухе, полушубке…»
Такой, как все, – в треухе, полушубке,
Не по годам заросший бородой, —
Шутил солдат. А дым валил из трубки,
И он его отмахивал рукой…
И говорил раздельно и негромко:
– Ну разве, други, в том моя вина,
Что русская беспечная девчонка
В меня под Омском где-то влюблена.
Спасенья нет от писем и открыток,
От самых веских в многоточьях строк…
У юности всегда большой избыток
Душевных чувств, догадок и тревог.
Спасенья нет! А началось все просто:
Пришла посылка… (Экая беда!)
Но если б я, примерно, был Матросов,
Тогда понять все можно без труда.
А то – сапер! – Все улыбнулись. Мирно
Горел костер. Дул южный ветерок.
Смолистый пень в сугробе, как мортира,
Стоял. И ночь трубила в лунный рог.
Преодолев молчанье, выпив водки,
Он встал: – Пора! – Снег падал с высоты.
Вздохнули все. Но он пошел по тропке
Ломать мостам железные хребты.
Восточная Пруссия, 1944
Табак
Я из холстины сшил кисет себе,
Из клена выжег трубку ночью. Знаю:
Они в моих скитаньях и судьбе
Большую роль наверняка сыграют.
Но если я не буду стар и сед
И выйду раньше времени из строя,
Пускай возьмет и трубку и кисет
Любой, кто труп найдет мой после боя.
Я так хочу, чтоб и в другой судьбе
Они, как хлеб, необходимы были…
Я трубку выжег, сшил кисет себе,
Друзья мои мне кремень подарили.
1944
Борис Котов
Сентябрь
Ветер вскинул пыль повыше,
И немного погодя
Вдруг ударили о крышу
Две дробиночки дождя.
И, качая подорожник,
Заставляя травы лечь,
Обложной осенний дождик
Начинает землю сечь.
Это снова ранний вечер
Тенью встанет у окон,
И в туман оденет плечи
Потемневший террикон,
Выйдет позднею порою
Вновь соседка на крыльцо,
От дождя платком закроет
Моложавое лицо.
Дым осядет полновесный,
Листья ринутся во тьму.
И опять подступит песня
Близко к сердцу моему.
Утро на пчельнике
На грядах спит, свернув бутоны, мак,
И дикий хмель застыл, свисая с крыши.
Но вот, качнув заброшенный гамак,
Проходит ветер по аллее вишен.
Он осторожно, силясь закачать,
Лишь только тронет у черемух кисти,
И, задымясь от первого луча,
Вдруг ярко вспыхнут, загораясь, листья.
И день плывет по новому пути.
Проходит эскадрилья в стройном гуле.
Роса дымится. Бабочка летит.
В кустах ребрится желтобокий улей.
Он стережет пчелы звенящий взлет,
Жужжанье трутней, грузных от дремоты.
Хранит в ячейках желтоватый мед,
Смолой и мятой пахнущие соты.
Здесь, как закон, незыблем строгий труд.
И вот, стремясь в крутом полете выше,
Шумящий рой несется поутру
На запах яблонь, тополей и вишен.
А день все ближе. Резче птичий крик,
И, осторожно раздвигая ветки,
Шагает к пчельнику седой старик,
Прикрыв лицо изношенною сеткой.
Он разжигает медленно дымарь,
Берет роевню, поправляет сетку.
Он смотрит мед – расплавленный янтарь,
Разлитый бережно в прозрачных клетках, —
И осторожно выбирает пчел,
Запутавшихся в бороде косматой.
…Весенний ветер дышит горячо
Пахучим цветом яблони рогатой.








