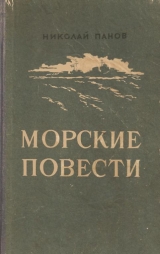
Текст книги "Морские повести"
Автор книги: Николай Панов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Четверо моряков сбежали со сходней и пошли по пирсу, по его ледяным, покрытым утоптанным снегом доскам. Мимо закопченных буксиров и барж, мимо низко сидящих, ощерившихся зенитками катеров с палубами, заполненными бойцами.
На некоторые корабли как раз шла посадка. Пехотинцы осторожно балансировали по трапам, с вещевыми мешками за спиной, с ремнями автоматов на шеях. Другие стояли еще на суше, у медленно вздымающихся бортов, сидели на вещевых мешках. Некоторые курили, отойдя подальше к скалам, другие ходили по пирсу, переминались с ноги на ногу, ждали очереди на посадку.
– Однако, – сказал Зайцев, – двинулся наш солдат в сопки.
Он немного отстал от друзей. Внимательно всматривался в лица, искал знакомых с сухопутья.
– Есть кто из автоматчиков майора Титова?
Нет, здесь была незнакомая часть. Зайцев вздохнул, догнал друзей, задержавшихся в конце пирса, нетерпеливо ждавших его.
– Похоже, серьезное началось дело, матросы!
– О Павле не разузнал? – спросил Старостин.
– Нет, здесь все с других участков, только идут на Средний… Серьезное, видно, началось дело. Смотрите, сколько буксиров уходит!
Они вышли на дорогу. Старостин нетерпеливо шел впереди, очень прямой, сосредоточенный, задорно поблескивая ярко надраенной бляхой ремня и пуговицами шинели. Друзья еле поспевали за ним. Подойдя к деревянному трапу, взбегающему вверх, Старостин остановился, решительно взглянул на друзей.
– Ну, вам налево, матросы? А мне, как нарочно, направо.
– Понятно, – буркнул Филиппов. – Уточнений не надо.
– Вы, значит, в Дом флота? Я тоже, может, попозже подгребу.
– Ты как раз подгребешь, – скептически сказал Зайцев.
Чтобы сократить путь, Михаил шагнул прямо в снег, провалился по щиколотку начищенным, как зеркало, ботинком. Выбрался на обточенный ветром гранитный скат.
– Наказанный Дон Жуан де Маранья! – крикнул вслед Зайцев. – Вот она, непривычка к сухопутью. Ножки не застудишь?
– Она ему посушит. Они договорятся, – добавил Филиппов.
Не отвечая, Старостин прыгал по камням, направляясь к верхней линии домов.
Они не обижались на Михаила. Знали – нынче у него решающий разговор. Почему-то Аня не вышла к кораблю, хотя, конечно, весь город уже знал, что «Громовой» ошвартовался у стенки. Матросы все пошли бы поддержать друга, если бы тактика не подсказала другого решения. Михаил был серьезен и сосредоточен: у него будет с Аней окончательный разговор.
Так же торопливо они шли к Дому флота. Быстро темнело. Голубые иглы прожекторов шарили за сопками где-то очень далеко. Бледные зарева залпов вновь и вновь вспыхивали на краю неба, пересеченного горным хребтом.
– А наши бьют! Все наши корабли бьют! – сказал Филиппов.
– Серьезное началось дело, – повторил Зайцев… – В библиотеку сразу зайдем или после? И в редакцию еще зайти нужно.
– Давай сейчас в библиотеку, а в редакцию попозже, – откликнулся Филиппов. Он волновался за свои стихи, но ведь нужно же было дать редакции время познакомиться с ними!
У него и у Зайцева торчали подмышками библиотечные книжки. У Зайцева первая книга «Анны Карениной», у Филиппова – «Введение в высшую математику». Им, собственно, некуда было спешить. Здесь их не ждал никто. Вот если б корабль пришел в Архангельск, тогда другое дело. Тогда Филиппов тоже торопился бы расстаться с друзьями. Но он не волновался бы так, как Михаил. Его Маша не дала бы ему повода так волноваться.
– Значит, уговор, матросы: в случае тревоги собираемся вместе, решаем по обстановке, куда итти, – сказал Филиппов.
– О чем говорить! – откликнулся Афонин.
Все это время он молчал, только старался итти в ногу с остальными такой же немного раскачивающейся морской походкой. Он чувствовал себя лучше, крепче, как-то свежее. Странное дело: после последней вахты крепко спал, несмотря на качку, несмотря на то, что волны сильнее, чем всегда, скреблись в борт и его почти сбрасывало с койки.
Страхи, о которых он говорил со старшим лейтенантом, как-то померкли, не мучили больше, будто Снегирев вскрыл какой-то долго назревавший нарыв.
– Может, и нет ничего в Доме флота?
– Нет, комиссар уточнял. Танцы и кино.
– Давно не танцевал я, ребята, – сказал Афонин.
– А мы, скажешь, танцевали? По минной дорожке, с юта на полубак…
Они пересекли мост над широкой площадью стадиона. Порядок! В Доме флота то и дело открывалась наружная дверь, у кассы толпился народ. Вестибюль, залитый электричеством, был полон солдатами в шинелях, остро пахнущих махоркой, землянкой и йодоформом. Пехотинцы сдавали шинели в гардероб, проталкивались в гремящий музыкой зал.
Моряков почти не было. Группы девушек в бушлатах и шубках расхаживали по вестибюлю.
Трое друзей, конечно, разделись тоже, сдали шинели с шапками, засунутыми в рукава, и, затянувшись ремнями, пристегнув перед зеркалом гюйсы, прошли в библиотеку.
Им повезло. Вторая книга «Анны Карениной» была свободна, Филиппов тоже подобрал нужную книгу. Только Афонин не смог записаться, – не взял справки с корабля. Сунув книги в противогазы, они прошли в танцевальный зал.
Парни – хоть куда, боевые моряки на отдыхе! Только Филиппов немного стеснялся своего подмороженного, ярко алеющего носа.
– Выглядишь ты, как старый пират-выпивоха, – шепнул ему в дверях Зайцев.
Они заранее купили билеты в кино, хотя сеанс должен был начаться через час. Когда брали билеты, подошли турбинисты Глущенко и Мотылев и сразу взяли десяток билетов для матросов, которые придут попозже, после окончания вахты.
– А вот и девчата нас поджидают, – сказал Филиппов, войдя в зал и поднося белоснежный платок ко все еще смущавшему его носу. Скосил глаза на его распухший кончик. Конечно, нос красный, но совсем не такой страшный, каким представлялся воображению!
И действительно, этот нос не помешал ему пригласить на тур вальса хорошенькую девушку, застенчиво поглядывавшую кругом. Только потанцевать! Маша не обиделась бы, если бы даже узнала об этом! И вот они уже кружились среди других пар, под шарканье валенок, кирзовых сапог, фетровых сапожек, открытых туфель.
Блестя в углу саксофонами и медью начищенных труб, играл джаз-оркестр ансамбля песни и пляски Северного флота. Музыканты были в краснофлотской форме, те же моряки с кораблей. Стены отливали стеклом больших фотоэтюдов: боевые эпизоды, портреты героев-североморцев. Филиппов кружился, осторожно придерживая партнершу, и увидел, как мелькнуло мимо довольное, порозовевшее лицо Афонина, ведущего другую девушку; как, лихо раскачиваясь, пронесся мимо разворотистый Зайцев. Зайцев танцевал с младшим лейтенантом береговой службы, овевающим его взмахами волос, спадающих на маленькие белые уши.
– Извиняюсь, Верочка, – сказал вдруг Зайцев. Конечно, он уже разведал имя младшего лейтенанта, и младший лейтенант не обиделся на такую вольность. Он мог обидеться скорее на другое: на то, что быстрые карие глаза уже не смотрели на него, а радостно и беспокойно устремились вдаль, в толпу, тесным кругом охватившую танцующие пары, и Зайцев сразу повернул в ту сторону. – Извиняюсь, Верочка, – повторил Зайцев, как только танец кончился и музыканты опустили саксофоны и трубы. – Запеленговал фронтового друга. Один момент.
Он уже подходил к маленькому пехотинцу с пришитым к рукаву гимнастерки золотым якорем в черном овале.
– Здорово, Пономарев!
Морской пехотинец взглянул, радостно подался вперед, протянул левую руку.
– Зайцев, здорово!
– Что это ты здесь?
– В госпитале провалялся неделю.
– Сильно ранен?
– Миной царапнуло. – Правая рука Пономарева висела на защитного цвета косынке. – Уже подлечился, денька через два обратно, в пекло.
– А жарко там сейчас?
– Жарко! – нахмурился Пономарев. – Ну, а ты как на корабле?
– В море – дома, – сказал Зайцев. Он думал о другом, но как будто не решался спросить. – Как там Москаленко у вас? Что-то давно он мне не пишет.
– Москаленко здесь, со мной в госпитале лежал, – неохотно сказал Пономарев, – худо ему.
Зайцев похолодел.
– Сильно ранен?
– Здорово ранен Москаленко! Разрывной пулей в бок. Лежит в пятой палате.
Зайцев сразу отошел от Пономарева. Показалось, что в зале померк свет и куда-то вдаль ушли все звуки. Он подозвал Филиппова, Афонин тоже подошел к ним.
– Ты, Афонин, оставайся, мы обернемся до кино, – не своим голосом сказал Зайцев.
Но Афонин не хотел отставать от новых друзей. Все трое молчали, пока не вошли в госпиталь. Госпиталь был недалеко, меньше чем в кабельтове от Дома флота. Они успеют вернуться до начала сеанса. Они уже наспех условились о новой встрече с девушками, которым объяснили, в чем дело и теперь думали совсем о другом.
Войдя в белую приемную госпиталя, моряки попросили у дежурного врача разрешения навестить корабельного друга.
Москаленко лежал на угловой койке в длинной, затемненной черными шторами палате. Его лицо стало желтовато-прозрачным, обтянулись высокие скулы и большой красивый лоб. Зайцев и Филиппов с трудом признали закадычного друга.
– А комиссар-то здесь, матросы! – шепнул Афонин.
И точно – на стуле, около койки, сидел старший лейтенант Снегирев, так же как и они, одетый в больничный белый халат.
– А вот и корабельная делегация, – как всегда весело, сказал старший лейтенант. – Ну, орлы, стало быть, я пойду. А вы поправляйтесь скорей, Москаленко! Только выздоровеете, мы вас снова на корабль перетянем. Вам, видно, морской воздух необходим.
И он подмигнул так весело и лукаво, что Москаленко улыбнулся во второй раз. В первый раз лицо его просияло улыбкой, когда он увидел Филиппова и Зайцева, вошедших в палату.
– Ну, как она, жизнь-то, Павло? – сказал Зайцев, протягивая руку. – Значит, говоришь, ранен?
Филиппов не сказал ничего. Он смотрел и смотрел – и не мог выговорить ни слова, только взял в свои красные, обветренные руки и крепко сжал костлявые пальцы раненого.
– Видите, друзья, подкосился немножко. Разрывная пуля, – сказал Москаленко, не шевелясь, лихорадочно блестя глазами.
Старший лейтенант уже выходил из палаты. Зайцев придвинул к себе его стул, но не сел, тоже глядел на неподвижную фигуру друга, чуть обрисовывающуюся под байковым одеялом. Почему он такой неподвижный? Только голова шевелится на тонкой шее и лоб стал страшно выпуклым и желтым, будто вылепленным из воска.
– И на койку можно сесть, – сказал Москаленко, слабыми пальцами поправляя одеяло. – Садись, Дима.
– А вот мы сейчас развернемся, – сказал Дима Филиппов. Он произнес это с трудом, судорога стиснула и не отпускала горло.
Он отвернулся, не мог смотреть на этот выпуклый лоб и неподвижное тело. Он сейчас успокоится, но пока судорога стиснула и не отпускала горло.
Афонин сел на стул, а Зайцев на койку. Зайцев держал в руке пальцы Москаленко.
– Значит, они тебя в бок? А ты, верно, тоже покрошил не мало?
– Мы Черный Шлем штурмовали, – сказал Москаленко. Его щеки порозовели, он снова стал похож на прежнего красавца-плясуна. – Как дрались наши орлы, как дрались! Ты, Ваня, сам знаешь, ты там был, а описать… может быть, когда-нибудь опишут… – Он помолчал, прикрыл веками блестящие глаза. – Вы мне сперва скажите, как «Громовой»? Помнишь, он нам в сопках ночами снился. Ласточка наша родная!
– Живет «Громовой!» Мы по берегу стреляли, а сейчас только из дозора… Может быть… – Зайцев осекся, глянул на лежащих кругом раненых: конечно, все свои люди, а все-таки о корабельных делах помолчу. – Я тебе, Павло, потом подробно все расскажу… Жаль, не знали мы, что ты здесь. Мы бы тебе шоколаду принесли. Теперь дают вместо папирос некурящим. Я бы расстарался. Папиросы-то есть у тебя?
– Махорку дают, да вот и старший лейтенант принес сигареты.
– А вот и шоколад, – сказал неожиданно Афонин. Он вытащил из кармана брюк полплитки в блестящей бумаге. – Ешьте, товарищ Москаленко, у меня лишний…
– Ешь! – радостно подхватил Зайцев. – Он, бродяга все равно его для девушек припас. Ему не нужно – он и так красивый.
– Спасибо, – почти прошептал Москаленко. Он снова начал бледнеть, откинулся на подушки. – Я о тебе, Зайцев, много думал. И о тебе, Дима. И о Мише Старостине. Цел Старостин?
– Жив-здоров Старостин, – сказал Зайцев. – Он теперь командир лучшего орудия.
– В последние дни наши корабли много с моря били, – тихо продолжал Москаленко. – Лежу в секрете и думаю: это «Громовой». По голосу узнаю.
– Постой, постой, – сказал, наконец, Филиппов. – Наверно, мы это и били! Перед самым наступлением много стреляли.
– Товарищи! – сказал вдруг Афонин. Он косился на часики, выступавшие из-под рукава фланелевки Зайцева. – В кино-то не опоздаем?
– А ты иди один, – злым шопотом сказал Зайцев. – Билеты у тебя, ты иди…
Все взглянули на Москаленко, как будто не слышавшего их, лежавшего откинув голову, вытянув руки вдоль тела.
– Какая картина? – каким-то особенным, чужим голосом сказал Москаленко. – Давно я кино не смотрел. Вы, друзья, конечно, идите, не задерживайтесь из-за меня.
– Мы с Зайцевым еще посидим, – решительно сказал Филиппов. – Время есть. И крутят сегодня какую-то американскую дрянь. Была бы наша картина!
Москаленко лежал попрежнему, но напряженность сошла с его лица.
– Во время тревог здесь плохо, – сказал он. – Кто ходить может, те прямым курсом в скалу, а мне нельзя. Вот лежишь и ждешь, пока на тебя бомба не капнет. На фронте – другое: там как ни охоте: следишь за ним, если снизится очень – ударишь. У нас недавно один боец «мессершмитт» из пулемета сбил. Ей-богу! А тут лежишь, слушаешь.
– А вот и они здесь! – перебил Зайцев. – Легки на помине.
Откуда-то из страшного далека, пробиваясь сквозь наглухо закрытые, затемненные окна, слышался надрывный рев сирен. Раненые поднимались с коек, накидывали байковые халаты, брали костыли…
– Вот, стало быть, и вам пора итти, – прежним равнодушным голосом сказал Москаленко.
– Накрылось наше кино. А ты торопился! – почти одновременно сказал Зайцев Афонину, не вставая с койки.
Тоскливый рев сирен продолжался. Унылый, нарастающий, выматывающий душу звук. К нему примешались мерный рокот моторов, торопливое и уверенное хлопанье зениток.
Палата уже опустела. В дверь заглянула сестра. Широкая, в длинном халате, подчеркивающем могучие контуры ее тела.
– Это что еще за собрание? Все в скалу! Посетителям сейчас здесь вообще не положено… Дежурный врач разрешил? А он вам разрешил во время тревог в убежище не итти?
– Разрешил, – с апломбом сказал Зайцев. – А вы, сестрица, присядьте с нами. Мы здесь до отбоя. Никому не помешаем. Шоколадцу? А может быть, папироску? Или вы тоже в скалу?
– Мне в скалу нельзя, – угрюмо сказала сестра. – Я дежурная по этажу. А вот если вы не уйдете, – честное краснофлотское, вызову дежурного врача, заработаете губу за неподчинение приказам.
– Это вы в своем праве, сестрица, – галантно произнес Зайцев. – А с другой стороны, возникает вопрос… Да вы присядьте, обсудим, как боевые друзья…
– Вот пойду и доложу дежурному врачу, – сказала сестра, исчезая в дверях.
– О чем разговор! – жалобно крикнул Зайцев. – Сидите ребята, сейчас улажу дело.
Он догнал сестру в длинном, ярко освещенном пустом коридоре, пошел рядом с ней.
– Если вы такая принципиальная, – с отчаянием сказал Зайцев, – если вы на принцип хотите: командуйте – на руках вынесем друга в скалу. Понимать нужно, каково ему здесь. Носилки дайте, мигом снесем.
Сестра остановилась. Ее толстощекое лицо было грустно, строго смотрели маленькие глазки.
– Нельзя его трогать, понятно тебе? – раздельно сказала сестра. – Две операции ему делали, весь бок вырван, нагноение, гипсу наложить нельзя. И шевелить его врач запретил. Что ж ты думаешь, мы не люди? Не снесли бы парня в убежище?
– Понятно, – сказал Зайцев.
Он больше не смотрел на сестру. Вернулся в палату немного медленнее, чем обычно. Перед дверью провел рукой вдоль потемневшего лица, точно надевая на него прежнюю маску веселья.
«Раз, раз, раз», – все ближе хлестали зенитки. Громыхнул тяжелый взрыв, как будто шатнулась стена, мигнули лампочки, легкая пленка извести выбелила проход между койками.
– Все улажено с сестрой, – весело сказал Зайцев, садясь рядом с Москаленко. – Так вот, по вопросу о «Громовом»…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ– Пожалуйста, ну пожалуйста! – все крепче сжимая локоть девушки, говорил Михаил.
Они остановились у заснеженного, чуть различимого в морозном ветреном мраке крыльца. Прожектор берегового поста снова скользил по небу. Высоко-высоко, в самом зените, тонкий луч замер. Упершись в облачко, будто плавился фиолетовым расплющенным концом.
Луч постоял неподвижно, медленно скользнул вниз, скрылся за невидимой сопкой. И с другой стороны узкое световое лезвие взметнулось вверх, подрожало в небе, нерешительно ушло за горизонт.
– Опять, верно, летает, – сказала Аня.
– Объект вроде вашего не так легко пробомбить, – отозвался Михаил. – Разве только с пикированья, как на той неделе… Что ж, так и не зайдем к тебе?
Уже второй час она мучила его, водя по заснеженным улицам базы. Он застал ее дома, но у нее сидела подруга. Аня сразу предложила пойти подышать свежим воздухом в такую славную погоду. Они гуляли, но Михаил не болтал на этот раз о всяких пустяках, не признавался ей снова в любви, а расспрашивал Аню о ее жизни. Ни слова не сказал о своей любви, только ненароком всматривался в ее худощавое, милое лицо.
И она разговорилась доверчиво и серьезно, без обычных отшучиваний, к которым привыкла в легких разговорах с ребятами. Они совсем промерзли, вернулись к ее дому, но Аня не хотела заходить внутрь, а время уходило, с каждой минутой шло все быстрее.
– Не доверяешь, Аня? – с болью спросил Михаил.
Он встал так, что совсем близко, на фоне темных, отполированных полярными ветрами досок крыльца, белело ее лицо, оттененное круглой шапочкой, сдвинутой немного назад. Она рванулась к ступенькам, но он нежно и крепко держал ее за локоть.
– Мне скоро на дежурство пора, – тихо сказала Аня. Вновь попыталась освободить руку, и это усилие стало будто пределом ее сопротивления. Она хотела остаться одна. Ей нужно было многое обдумать. Вот перестал говорить обычные любовные слова, расспрашивал о ее мечтах и стремлениях и сразу стал как-то особенно дорог… Ей было очень трудно противоречить ему.
– Ты меня сейчас отпусти, Миша… Мы завтра повидаемся снова…
– Что? – переспросил Михаил.
Он туговато слышал после недавнего обстрела побережья, когда его оглушило сверху второе орудие главного калибра. С тех пор мир звуков как бы задернулся легкой завесой, в ушах надоедливо стоял тоненький, надрывный звон.
Но и он, конечно, услышал грохот выстрела, раскатившегося со стороны залива. Световая парабола, взлетев от воды, круто прорезала небо. Несколько мгновений тишины – и снова выстрел, снова унесся вверх трассирующий голубой снаряд.
– Видно, «Триста вторая» пришла, – возбужденно сказала Аня. – Два корабля потопили.
Они попрежнему стояли тесно друг к другу, но Михаил почувствовал: она сразу внутренне отдалилась от него.
– Пожалуй, еще стрельнут, – сказала Аня, всматриваясь в сторону пирса.
Два выстрела с подводной лодки – весть о двух потопленных вражеских кораблях. Конечно, подводники, в глазах девушек, побивали всех. У них громкая слава, ордена, уже не говоря о том, что они, действительно, все как на подбор: бесстрашные, культурные, развитые ребята… Может быть, как раз на этой лодке пришел Анин избранник.
Лодка больше не стреляла. Густая ветреная мгла сомкнулась над тем местом, где скользит сейчас высокая ромбообразная рубка. Стоя у маленькой пушки, подводники вглядываются в родной затемненный берег.
– Может, у тебя на «Триста второй» кто есть? – с усилием произнес Михаил. – Ты мне прямо скажи. Я тебя, Анюта, неволить не хочу. Если любишь кого, вашего курса пересекать не стану.
– Я бы сейчас любого расцеловала с «Триста второй». – В тихом голосе Ани прозвучал подлинный восторг. – Победа-то какая, Миша! Два фашистских корабля!
– А если никого другого не любишь… – Старостин не мог сдержаться, близко наклонился к ней. – Знаешь, как нам в море трудно бывает… Знаешь, как сердце веселится, когда тебя в базе любимая девушка ждет? Я о тебе в море всегда думаю.
– И я о тебе думаю, Миша, – мягко сказала Аня. Михаил, глядя неотрывно, вслушивался изо всех сил. – Разве я, Миша, не понимаю, как вам трудно, какая война идет. Мы, девушки, тоже кое-что понимаем… Только не будем опять об этом… Не за тем я сюда приехала, чтобы замуж выйти, – совсем по-другому, застенчивым, горячим шопотом добавила она.
– Я этого и не думаю, Аня, – жарко вымолвил Михаил. – Но уж коли встретились, понимаем друг друга… Я так понимаю, Анюта, что тебе слово как боевой подруге даю и никогда не нарушу. И ты мне дай слово.
Он обхватил Анины плечи, запрокинул голову. Чувствовал под рукой мягкую прядь волос, грубый мех воротника. Ее нежная, прохладная щека скользнула из-под его губ.
– Мы советские люди, нам друг с другом играть не приходится. Скажи сейчас: хочешь мне жизнь облегчить?
Слова, так просто и задушевно сказанные старшим лейтенантом, всплывали в памяти, страстно срывались в темноту:
– Подхожу ли тебе как друг, как человека ценишь меня? Я тебя, Аня, все больше ценю как верного друга…
Он видел, что она все ближе приникает к нему, ее полузакрытые глаза совсем вплотную мерцают теплой чернью. Огромная нежность переполняла его сердце.
– Я тебе с Новой Земли чернобурку привезу, – прошептал ей в самое ухо. – Слово моряка – куплю самую лучшую.
Неожиданно и резко рванувшись, она высвободилась из его рук, взбежала на крыльцо.
«Обиделась… – похолодел Михаил. – Ясно – за чернобурку! Хорош я: русский человек, коммунист, а бухнул, как американский пижон. То – боевая подруга, а то – чернобурка»…
– Ты только, Анюта, не обижайся, – отчаянно сказал он. – Сморозил про чернобурку… Я же понимаю, ты не такая… Я от чистого сердца…
Она смутно темнела над поручнями крыльца: тоненькая прямая фигурка на фоне запорошенной снегом стены.
– Завтра приходи, – сказала отрывисто Аня, и ее голос прозвучал по-новому – холодно и чуждо. – Мне на дежурство пора.
Михаил взбежал по ступенькам, взял ее за руку.
Она отстранилась, но не очень, молчала, глядела в его яркие, пристальные, правдивые глаза. Опять совсем близко чувствовала его дыханье.
– Не сердишься, Аня? – попрежнему отчаянно сказал Михаил. – Я же понимаю, за такие слова… Это американцы своих девушек на шелковые чулки и всякое барахло ловят… Ты пойми: просто увидел, только теперь – раньше как-то глаз не доходил – у тебя воротник на шубке неважный, тебя в нем нашими ветрами насмерть просвистеть может…
«Глупый, глупый, – думала Аня. – Как могу на него обижаться! Если бы кто другой… А он это от любви сказал, правильно, что от чистого сердца… Он добрый… С виду хмурый, строгий, а какой добрый… Но как сделать, чтоб он ушел? Не могу еще решиться… Не хочу выходить замуж. Я же ему объяснила, что не за тем мы с другими комсомолками приехали сюда…
– Анюта! – страстно, нежно, вопросительно в который раз повторил Михаил ее имя.
«Если не уйдет сейчас, позову его к себе, – думала Аня. – Он хороший, близкий, самый родной… Никто еще не говорил со мной так… Он снова в море уходит на днях, может быть, на верную смерть… Они все уходят в море, может быть, на верную смерть. Но этот самый близкий, любимый. Мне все труднее расставаться с ним».
– Завтра приходи, – снова упрямо сказала вслух. – До завтра недолго.
«Нельзя сказать ей! – подумал Михаил, и сразу озноб пробежал по спине и бросило в жар. – Нельзя сказать ей, что, наверное, уйдем нынче ночью! По всем признакам уйдем нынче ночью, на обстрел берегов… А был бы другой разговор! Хотя бы намекнуть? Нет, командир всегда предупреждает: каждый выход – военная тайна, скажешь одной – пойдет по всей базе… Еще имею больше часа, должен вернуться на корабль двадцать ноль ноль… Хочу получить сейчас же ее крепкое слово, не могу уйти просто так…»
Но он молчал, ни слова не сказал о корабле. Нет, никаких намеков! Будь что будет… Она скользнула внутрь, закрылась наружная дверь на тяжелом блоке. Он шагнул следом – в темноту крыльца, нащупал дверь в квартиру.
Прихожая была освещена. За одной дверью пело радио, за другой стояла полная тишина.
– Аня, – сказал Михаил, – впусти на минутку.
За дверью молчание. Заперлась, наверное, на ключ. Михаил нажал ручку. Конечно, заперлась на ключ.
– Аня, впусти на минутку.
Вдруг у него сжалось сердце: за дверью послышалось всхлипыванье, тихий, беспомощный плач. Он стоял, замерев, в маленькой пустой прихожей, в своей шинели с начищенными пуговицами, в проледеневших хромовых ботинках. Плач прекратился. И музыка по радио прекратилась, оборвавшись мягко и внезапно.
– Сейчас по радио тревогу объявят, – громко сказал Михаил. – Слышь, Аня? Все равно в убежище итти.
И верно: снаружи, со стороны пирса, густо завыл буксир. И тотчас что-то щелкнуло в приемнике.
– Внимание! Говорит штаб противовоздушной обороны. Внимание! Воздушная тревога.
Михаил выбежал на крыльцо. С окрестных сопок били зенитки. Как всегда – будто торопливое хлопанье огромного огненного бича. Внизу было темно, база молчала, затаилась в горах, и только в стороне скрещивались медленно летящие малиновые шарики, расцветали оранжевые язычки разрывов.
Все – как обычно. Но вот наступил день. Фантастический зеленовато-голубой мертвенный свет залил окрестности.
Шипящая огненная тарелка медленно опускалась над деревянными домиками базы. Она плыла в небе, как плоская световая медуза, и даже сквозь грохот стрельбы и рокот самолетов было слышно ее шипенье.
Михаил рванулся в подъезд. Но Аня уже стояла рядом с ним. Кутаясь в свою шубку, смотрела на небо.
– Осветительные кидает! – крикнул Михаил. – С осветительными дело хуже. Я на корабль, Аня!
Он еще раз оглянулся, сбегая с крыльца. В неестественном свете ракеты ее лицо казалось очень худым и трогательно близким.
– Теперь в убежище не успеешь, – крикнул Михаил на бегу. – Услышишь бомбу, ложись у дома за сугроб.
Ракета шипела. Раскаленные шарики снарядов летели теперь прямо к ней, коснулись ее, она медленно рассыпалась в небе. Но рядом повисла вторая. Михаил бежал стремглав. Ноги сразу согрелись, стало гулко стучать сердце, своим стуком заглушая все остальные звуки. В первый раз Гитлер бросил осветительные над самой базой, над его родным кораблем…
– Искать самолеты врага, без моего приказа не стрелять, – четко и торопливо сказал капитан-лейтенант Ларионов, взбежав на мостик «Громового». – Гордеев, передайте по всем кораблям.
– Есть передать по всем кораблям! – отозвался Гордеев.
Весь эсминец до мельчайших деталей был залит дрожащим, мертвенным светом ракеты. Звенела стальная палуба, экипаж разбегался по боевым постам. Сидя в кожаных креслицах, похожих на велосипедные седла, зенитчики крутили штурвалы наводки, старались поймать самолеты в перекрестья прицелов. Прямо вверх были устремлены раструбы длинных, узких стволов.
Тени, густые, будто нарисованные тушью, падали от надстроек и механизмов. Сигнальщики всматривались в небо; телефонист стоял у нактоуза; провода наушников, как круглые щупальцы, бежали по палубе.
К счастью, был отлив. «Громовой» и другие корабли почти не выступали над стенкой.
– Вижу самолет противника! – доложил старшина Гордеев.
– Вижу самолет противника! – крикнул сигнальщик с другого крыла.
– Без приказа стрельбу не открывать! – повторил Ларионов.
Первый раз врагу удалось повесить ракеты почти над самой базой. Но он едва ли видит корабли, едва ли видит маленькую кучку домов, затерянную в однообразных скалах. «Он может бомбить по площади, по очертаниям залива, но это уже не то. Это уже не то!» – думал капитан-лейтенант Ларионов.
Старостин взбежал на корабль. Его веки горели, из-под меха ушанки стекали на глаза жгучие струйки пота. Он пробежал к первому орудию, поднявшему высоко вверх белый могучий ствол.
– Порядок, старшина, – сказал замочный Сергеев. Одним взглядом Старостин охватил все. Брезент с казенной части снят, барашки кранцев отвернуты, снаряды лежат на матике возле щита.
– Дульную пробку вынуть не забыл? – спросил Старостин.
Он сказал это больше как утверждение, чем как вопрос. Уже видел: пробка с пятиконечной звездой, укрывающая дуло от снега и брызг, снята, как положено по уставу.
Всю дорогу его мучила мысль, не забыли ли матросы снять пробку. На одном из кораблей был случай: впопыхах забыли снять пробку; спохватились уже в последний момент, все орудие могло разнести.
– Обижаете, старшина, – сказал Сергеев. Его голова была запрокинута, он смотрел на плавящуюся в небе тарелку.
– Какие приказы были? – спросил Старостин, становясь на место. Запальные трубки блестели в пазах холщевого пояса, обхватывающего талию Сергеева. Старостин еще раз окинул орудие взглядом. Все готово к стрельбе.
– Искать самолеты, без приказа стрельбу не открывать, сам командир с мостика по радио приказал, – сказал вполголоса первый наводчик.
– Есть искать самолеты, стрельбу не открывать, – повторил Старостин. Он уловил недоумение в голосе наводчика, но повторил приказ как само собой разумеющееся дело.
– Недавно над Мурманском как дали из главного калибра – от «юнкерса» только щепки полетели..»
– Разговорчики! – крикнул Старостин.
У орудия была тишина. Наводчики припали к оптическим приборам. Морозный воздух гудел близким громом вражеских самолетов.
– Вижу «юнкерс», – задыхающимся шопотом сказал наводчик Мусин. – Идет курсом на зюйд.
– Держать в прицеле, – приказал Старостин.
Он тоже видел самолеты, поймал их в окуляры бинокля. Они шли на большой скорости, чуть поблескивая плоскостями в прожекторном свете. Они были высоко, но не так высоко, чтобы не достать их главным калибром. Его сердце стучало быстро и глухо, пальцы до боли сжали бинокль.
Запеленговали ли они корабли?
Ларионов тоже видел самолеты в бинокль. Обнаружили ли они корабли? Если обнаружили, нужно стрелять. Если нет – нельзя вспышками привлекать их внимание, «Смелый» тоже не стреляет. Командир «Смелого» слышал его приказ. Он старший на рейде – его приказу сейчас повинуются все. Главное – не обнаружить пирс, у которого сосредоточено столько кораблей.
Тяжелый взрыв… второй… третий… Бомбы рвутся в стороне, их сбросили по площади без прицела.
Снегирев стоял в двух шагах от командира. Он увидел, как улыбка пробежала по строгому, резко очерченному лицу. Увидел это улыбающееся, зеленовато-желтое лицо, и вдруг оно исчезло в темноте. Ракеты погасли, темнота залила все.
– Выдержали характер, товарищ капитан-лейтенант!
Ларионов провел рукой по лицу. Лицо было мокро от пота, и во рту солоноватый вкус крови. «Неужели я закусил до крови губу? – подумал Ларионов. – Ребячество какое».
У него была манера прикусывать губу, так же он прикусил ее во время того трагического похода на лодке.








