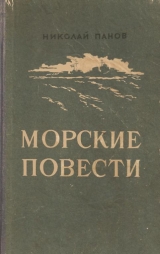
Текст книги "Морские повести"
Автор книги: Николай Панов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Он взял со стола фотокарточку, стал тщательно укладывать в ящик. Другая фотография – большое лицо Ольги Крыловой – одним краем глянуло из-под бумаг. Ларионов быстро задвинул ящик.
– Ей кажется, что Борис все-таки, может быть, не погиб, может быть, добрался до берега. Она ждет месяц за месяцем, дни и ночи… Мне рассказывали… Когда я думаю о ней, во мне будто обрывается что-то…
– А он не мог, действительно, выплыть? – спросил Калугин.
– Нет, не мог. Если бы его не потопил миноносец, его разорвали бы глубинные бомбы. И он был ранен в обе ноги… Часто мучает мысль: а может быть, можно было остановить погруженье, рискнуть лодкой, спустить его в люк?.. Но знаю: повторись все с начала – опять принял бы тогдашнее решение.
Капитан-лейтенант порывисто встал, аккуратно разжег сигарету, снял с вешалки меховую куртку.
– Ну, спасибо за компанию. – Одеваясь он не глядел на Калугина. – Пойду на мостик. Стало быть, знаете теперь, почему не нужно говорить обо мне с Ольгой Петровной. Вы причинили бы ей напрасную боль…
Он постоял в дверях, ожидая, пока Калугин наденет и застегнет полушубок. Пропустил его вперед. Быстро пересек коридорчик и толкнул наружную дверь.
Свет выключился и включился снова. Калугин стоял один у дверей командирской каюты.
Когда он спустился вниз, койка старшего лейтенанта Снегирева была попрежнему пуста. Степан Степанович не вернулся еще с обхода боевых постов.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯНебо было лиловато-синим, очень прозрачным, необычайной свежести и глубины, и со стороны невидимого солнца веер малиновых исполинских полос взбегал над протянутыми по горизонту облаками.
Короткая многоцветная радуга блестела в воде, убегая под киль корабля. Радуга в воде, а не на небе! Она плыла вместе с кораблем, через нее катились проносящиеся у борта волны, она то исчезала, то вновь возникала в прозрачной, как небо, стеклянно-плотной воде.
Вдалеке проплывал берег.
Туманные, обледенелые грани, вставшие отвесной, ребристой стеной, на вершинах белеющие покатыми снеговыми полями.
А море кругом блестело и переливалось, было празднично-спокойным, палуба корабля плотно лежала под ногами.
Калугин взбежал на мостик. Ларионова и Снегирева не было здесь. Старпом, откинувший за спину мех капюшона, сдвинувший фуражку немного на затылок и, как всегда, будто чем-то раздраженный, стоял у машинного телеграфа.
Вахтенный офицер лейтенант Лужков медленно просматривал в бинокль мерно вздымающиеся волны, потом устремил взгляд на оставшуюся сзади скалистую ледяную громаду.
– Это Кильдин? – спросил Калугин.
– Так точно, Кильдин, граница морского фронта, – сказал Лужков, опуская бинокль. – Чувствуете? – качает меньше. Вошли в залив. А в океане попрежнему дает во-всю, будьте уверены.
– В другой климат входим, – сказал, улыбаясь, Калугин. – С севера на юг, из зимы в весну. Какая разница в климате вчера и сегодня. Не похоже на глубокую осень.
– Потому что берег близко, – сказал Лужков. – А знаете, совсем недавно прошли самые опасные места. Командир только что спустился к себе…
– Вахтенный офицер! – окликнул сзади Бубекин.
Лужков подтянулся, повернулся к старпому.
– Есть вахтенный офицер.
– Потрудитесь прекратить посторонние разговоры. Здесь мостик эсминца, а не землянка в часы перекурки.
– Есть прекратить посторонние разговоры.
Лужков деловито нагнулся над репитором гирокомпаса, повернулся к рулевому.
– На румбе?
«Далась ему эта землянка! – подумал, отходя Калугин. – Впрочем, он прав. Он безусловно прав. А я должен не обижаться, а найти общий язык и с ним, хотя это действительно не так просто…»
Его хорошее настроение не проходило. У него было превосходное настроение, он хорошо поработал сегодня, работал все утро после разговора с командиром. Кажется не напрасно побыл здесь, уже начал входить в жизнь корабля, набрал материал для редакции, установил связи с людьми.
Скоро он ступит на сушу. Ступит на твердую землю, на родной берег после стольких часов сурового океанского похода…
Опершись на поручни у прожекторного мостика, стоял мистер Гарвей, с аккуратно расчесанной бородой, торчащей над желтым воротником верблюжьего реглана. Гарвей что-то меланхолически жевал, глядя на высокий темный силуэт «Смелого», идущего сзади, в кильватер «Громовому».
– Гуд бай, мистер Гарвей! – сказал Калугин.
– О, вы желаете мне спокойной ночи? – мистер Гарвей, как всегда, со вкусом неторопливо выговаривал русские слова. – Вы немножко опоздали. Но это ничего. Вы угадали, товарищ корреспондент: я спал, как сырок.
– Как сурок, мистер Гарвей?
– О да, как сырок.
Белые зубы Гарвея блеснули из-под черных, аккуратно причесанных усов. У него были сухие, тонкие, бескровные губы. Может быть, потому его улыбка казалась натянутой и неприятной.
– Как будто кончается поход, мистер Гарвей?
– Для вас, может быть, да. Для меня, вероятно, нет. Я еще не заработал достаточно фунтов на мой будущий оффис. Итак, эта эр… как это у вас говорят… оперейшен…
– Операция?
– Да, операция… Эта операция не состоялась. Мне сказала маленькая птичка, что выход немецких кораблей отменен.
– Маленькая птичка?
– У нас есть такая пословица… Короче говоря, ночью нас известили по радио, что, по сведениям английской разведки, вражеские рейдеры не выйдут в море.
– А ваша разведка не ошиблась?
– О, наша разведка не ошибается никогда! Наша разведка – лучшая разведка в мире.
Снова его тонкие губы раздвинулись в улыбку, но сумрачные, глубоко запавшие глаза не смеялись. «Сам ты разведчик-шпион!» – с отвращением подумал Калугин.
– Во всяком случае на берег ступить приятно! – Эта незначительная фраза поможет закруглить разговор.
– О да, на берег ступить приятно…
Калугин спустился по трапу. Еще раз пройти по всему кораблю – от полубака до юта! Эсминец больше не казался незнакомым и грозным, может быть, потому, что палубу почти не качало и волны не всплескивали из-за бортов, может быть, потому, что уже привык к корабельной обстановке.
Стоя у зениток и пулеметов, как всегда, зорко всматривались краснофлотцы в небо и в очертания скал.
На площадке торпедного аппарата вахтенный торпедист сидел возле длинных труб, укутанных брезентом. Воротник его тулупа был поднят, руки соединены, так что длинные рукава сливались один с другим.
Бортовой леер был снова натянут; положив на него руки, смотрел вдаль смуглый матрос.
Он был без полушубка, в холщевой, измазанной машинным маслом и копотью спецовке, верхняя пуговица спецовки расстегнута, обнажена мускулистая шея. Вафельное полотенце лежало на плече, как шарф.
«Это Зайцев, будущий наш военкор, – подумал Калугин. Вчера Калугин уже беседовал с ним, подсказал ему темы корреспонденции. – На берегу свяжу его с майором…»
– Не простудитесь, товарищ Зайцев?
Котельный машинист повернул к нему круглое кареглазое лицо с задорным облупленным носом.
– Здравствуйте, товарищ капитан… Нет, не простыну… Мы здесь все просоленные, просмоленные насквозь, простуда нас не берет. Вот умылся, сейчас подзаряжусь и спать после вахты… Вам, товарищ капитан, на переднем крае бывать довелось?
– Да, я жил у разведчиков, на Рыбачьем и Среднем…
– Что-то, похоже, началось на суше…
– Почему вы думаете, Зайцев?
– Ночью все время белые сполохи на весте играли. Вспышки тяжелых орудий. Смотрю сейчас на берег и думаю: пожалуй, друзья в наступление пошли. Давно у нас душа горит: Черный Шлем отбить у фрицев… Там, верно, сейчас и началось… Слыхали про высоту Черный Шлем? Два раза мы в атаку поднимались, бились врукопашную и два раза сбрасывали нас вниз. Там ведь такое дело: горные егеря наверху, а мы на скатах. У них вся выгода… Только неправда, вышибем их оттуда… Стою вот и думаю: как там мой Москаль.
– Кто это Москаль?
– Кореш мой, котельный машинист Москаленко, с нашего корабля. Мы с ним вместе на сушу ушли. Добровольцами списались в морскую пехоту. Плясун, весельчак. Думал вместе со мной вернуться, да он из лучших разведчиков, его пока там задержали, не отпустили домой…
– Домой?
– Точно. Сюда, на корабль… Ну, прошу прощения, товарищ капитан, большая приборочка начинается…
Да, начиналась большая приборка. Свистели боцманские дудки, матросы разбегались по палубе, длинными лохматыми швабрами счищали тающий снег, скалывали льдинки с лееров и с сетей для улавливания гильз.
Калугин возвращался в каюту. Неужели началось наступление в сопках? Долгожданное наступление на суше. Тогда кончено с кораблем, он едет к друзьям-разведчикам. Если отпустит начальство. На сухопутье, конечно, уже посланы другие, туда давно рвался Кисин.
Он вошел в коридор офицерских кают. Двери кают были раскрыты, портьеры раздернуты. В одной каюте краснофлотец, скатав ковер, натирал линолеум палубы мылом, в другой, стоя перед умывальником, командир артиллерийской боевой части Агафонов, недавно сменившийся с вахты, старательно брился. Через спинку кресла была переброшена белая рубашка с крахмальным воротничком.
«Не отпустили домой», – вспомнил Калугин слова Зайцева. Теперь он понимал выражение: «Корабль – родной дом моряка»… Для меня такая каюта – временное пристанище, а для них постоянное, родное жилище. Но почему и мне тоже жалко расстаться с этой тесной каютой, с этими стальными, поскрипывающими переборками?.. Странное чувство: облегчение после удачно кончающегося похода и легкая грусть, что море осталось позади…
Он вошел в каюту старшего лейтенанта Снегирева. Койки были задернуты портьерой. Старший лейтенант спал, лежа на спине, сложив на груди свои короткие жесткие пальцы. Калугин задернул занавеску плотнее. Пусть спит, всю ночь он провел на боевых постах, только на рассвете вернулся в каюту…
– Разрешите войти, товарищ капитан.
В дверях стояли два моряка – Старостин и другой, худощавый, высокий, с застенчивой улыбкой на воспаленном от ветра лице, с курчавым пушком, оттеняющим впалые щеки.
– Входите, товарищи! – радушно сказал Калугин. Он не боялся разбудить Снегирева. Он знал по опыту: только колокол громкого боя может разбудить моряка, отдыхающего в боевом походе.
– Заходи, Филиппов, – сказал Старостин, пропуская вперед спутника.
Оба были в черных, отглаженных брюках, в свежих фланелевках. Бледноголубые «гюйсы» ровно лежали па плечах.
– Это, товарищ капитан, дружок мой Филиппов, командир торпедного аппарата.
Старостин говорил, как всегда, веско и не спеша. Филиппов застенчиво улыбался. Оба торжественно ответили на рукопожатие Калугина.
– Садитесь вот сюда, на диван.
Моряки сели, положив на колени тяжелые руки, молча смотрели. С ободрительной улыбкой Калугин ждал, когда они начнут разговор.
– Покажи им, Дима, – наконец, сказал Старостин.
Только теперь Калугин заметил, что из кармана брюк Филиппова торчит плотно свернутая ученическая тетрадка. Филиппов вынул тетрадку, но держал крепко сжатой в руке. Его лицо стало еще краснее, и увлажнился лоб.
– Вы, товарищ капитан, агитировали, чтоб заметки писали в вашу газету. Так вот я его привел, – сказал Старостин.
– А, вы написали заметку?! Отлично! О чем? – Калугин протянул руку к тетрадке.
– Нет, не заметку. Стишки, – сказал Старостин. – У нас, товарищ капитан, теперь многие стишками балуются. А у него складно выходит, не хуже, чем в газете. Да вот стесняется посылать.
– Это не баловство, – глядя вниз и попрежнему не выпуская тетрадку, произнес Филиппов. – Это чувство выхода просит. Иногда человек так в стихах скажет, будто в сердце тебе заглянул. Вот я в свободное время. – Нерешительно он положил тетрадку на стол.
Она была густо исписана мелким, старательным почерком, столбики рифмованных строк загибались на поля.
– Отлично, – повторил Калугин. – Оставьте ее мне. Прочту внимательно и, если можно, обязательно предложу в газету. Или сами прочитаете сейчас что-нибудь? Прочитайте то, что считаете лучшим.
Филиппов нервно и нерешительно перебирал странички. На лбу проступили капельки пота. Наконец, стал читать тихой, отчетливой скороговоркой:
Ревет и стонет Баренцово море,
Фашистские посудины круша.
Но я не дрогну в штормовом просторе —
Чиста моя матросская душа.
Наш «Громовой» летит сквозь волны-горы,
Что бесятся за снежным Кильдиным.
На вахтах сталинские комендоры
Не склонят глаз под ветром ледяным.
О, как душа будет сраженью рада!
Я не устану драить сталь и медь.
Под крыльями торпедных аппаратов
Хотят торпеды в море полететь.
Все сделаем, что есть в матросских силах,
Чтобы враг не лез к родимым городам.
За Родину, за Сталина, за милых
Я молодую жизнь мою отдам.
Филиппов резко оборвал, сидел потупившись, сжав в пальцах тетрадку. Старостин глядел гордо и в то же время тревожно.
– Мне нравится, – сказал Калугин.
Филиппов вскинул мягко блестевшие глаза.
– Я тебе говорил! – весомо произнес Старостин. – Хорошо-то как, товарищ капитан: «чиста моя матросская душа». И еще: «За Родину, за Сталина, за милых я молодую жизнь мою отдам». В самую точку попал.
– Я думаю, мы сможем это напечатать… – Калугин взял тетрадку, перечитал стихи. – Вы не возражаете, если кое-что подправим? Вот тяжелая строчка: «О, как душа будет сраженью рада». Не лучше ли сказать: «Душа моя сраженью будет рада». Или вот мне не нравится: «фашистские посудины». Что за слово: «посудины»? Не поэтично. Как вы думаете, товарищ Филиппов?
– Оно верно, не особенно, – протянул нерешительно Филиппов.
– Разрешите обратиться, товарищ капитан, – наклонился вперед Старостин. – Насчет первой строки – это вы правы. Мы ему тоже говорили, что как-то не в рифму. А вот вторую строчку матросы одобряют. Какие у фашистов корабли? У них посудины – факт! Мы врага не только снарядами – и презреньем своим хотим уничтожать.
– Ну, это мы еще обсудим, – засмеялся Калугин. – Постараемся не испортить стихи. Значит, оставите мне тетрадку. Может быть, еще что-нибудь выберем, перепечатаем, а тетрадку сам вам верну… – Филиппов кивнул. Калугин положил тетрадь в свою полевую сумку. – Очень, очень рад, товарищ Филиппов, что пришли ко мне. Будете теперь нашим сотрудником… Об этом, старшина, вы и хотели поговорить со мной?
– Да нет, не только об этом… – В первый раз теперь Старостин опустил глаза, его красновато-коричневая жилистая кисть с бледной татуировкой на запястье – якорь, обмотанный расплывчатой цепью, – судорожно сжалась.
– Он с вами о жизни хочет поговорить, товарищ капитан, – вмешался Филиппов. Его смущенье прошло, осталось одно радостное возбуждение. – Сам-то начать опасался, вот и притащил меня под видом моих стихов. Посоветоваться с вами хочет…
– Пожалуйста, если чем могу помочь, – с большой охотой! – Калугин удобнее уселся в кресле, приготовился слушать. Но Старостин продолжал тяжело молчать.
– У него здесь, в главной базе, девушка есть, – становясь очень серьезным, сказал Филиппов. – Мучает его сколько времени: ни да, ни нет. Он ее и на танцы водит, и в театр. Сейчас, ясное дело, не до любви, – война. Да вот зацепило парня.
Старостин вскинул голову, устремил на Калугина свой светлый, непреклонный взгляд. Калугин молчал. Был сбит с толку поворотом разговора: никто до сих пор не обращался к нему за такой консультацией.
– Я на ней честно жениться хочу. И загс предлагаю. А она как-то несерьезно подходит. «Будем, говорит, друзьями, как в старых романах пишут». Смеется.
– А вам кажется, вы действительно нравитесь ей?
– Нравлюсь будто. Как свиданье назначим, никогда не обманет. Да разве у девушки узнаешь? Ей, похоже, многие нравятся. Придет какой матрос из похода, заговорит с ней в Доме флота – глядишь, уж болтает с ним, будто сто лет знакомы.
– Так, может, пустая девушка? И расстраиваться вам из-за нее не стоит?
– Да нет, не пустая. О политике, о боевых операциях говорить любит. Да ведь ребята по-разному смотрят. Скажем, распишемся с ней, уйду в море, а ее кто-нибудь и заговорит в Доме флота. У нас такие артисты есть.
– Как же, вы совсем не доверяете ей, а жениться хотите?
– Свадьбу я с ней все равно сыграю, – твердо сказал Старостин. – Только до этого, похоже, в конец меня изведет.
– Но если не уверены в ней, вас и после женитьбы будет ревность мучить.
– Точно, – тихо сказал Старостин.
«Сложный вопрос! – думал Калугин. – Какие тут могут быть советы?» Но Старостин и Филиппов глядели выжидательно.
– А может быть, товарищ Старостин, вам поговорить с ней вполне откровенно? Вот как сейчас со мной говорите. Вам кажется, что она с вами играет. А может, и не думает совсем о замужестве. Просто любит встречаться с вами по-дружески, как с боевым моряком. А если любит, должны вы ей доверять… Она комсомолка?
– Комсомолка. Телефонисткой служит при штабе.
Звякнули кольца, отодвинулся занавес. Старший лейтенант смотрел на Старостина, подперев голову ладонью.
– Мне позволите вступить в разговор? Ты, старшина, обдумай, что товарищ капитан сказал. Поговори с ней по душам, откровенно. Может быть, и не нужен ей вовсе этот загс. Болтаешь с ней, верно, о разных любовных пустяках, а человека в ней не видишь. Ты мне вот что скажи: человек она хороший? Стоит твоей любви?
– Девушка она подходящая, развитая, – сказал Старостин. – Со многими матросами дружит, а держит себя строго. Похвастать никто не может.
– Так посмотри ты на нее как на друга, как на фронтового товарища, – задушевно сказал Снегирев. – Ты вот коммунист, а к девушкам у тебя старый подход. Ревновать, говоришь, будешь? А почему требуешь от нее большой любви? Жалеешь ли ее больше, чем себя, хочешь ли ей жизнь облегчить, ее интересы понять? Расспроси ее: о чем мечтает, чего от жизни ждет, свои думки-мечты расскажи. Так просто, по-хорошему, верно, не говорил с ней ни разу?
– Как-то не случалось, – сказал отрывисто Старостин, глядя на Снегирева.
– Вы же советские люди, у вас недомолвок быть не должно. Если подходит она тебе как друг, ценит тебя как человека, тогда какое может быть недоверие? А согласится за тебя выйти, подашь рапорт командиру, сыграем свадьбу всем кораблем.
– Старший лейтенант прав, – сказал Калугин.
– Не мучьте себя сомнениями, а поговорите начистоту. Если действительно нравитесь ей, она вас поймет, это дела не испортит.
– Так, – помолчав, сказал Старостин.
Он и Филиппов поднялись с дивана.
– Ну, спасибо за разговор. Разрешите быть свободными?
– Свободны, товарищи.
Старший лейтенант сел на койке, застегивая китель.
– Да вот еще что, Филиппов: есть вам партийное поручение. Вы как, с минером Афониным подружиться еще не успели?
– Особой дружбы нет, товарищ старший лейтенант, – сказал Филиппов.
– Так вот, орлы, подружитесь с ним. Примите его в свою компанию. Ясно?
– Ясно, товарищ комиссар.
– Я не комиссар, – с неожиданной строгостью сказал Снегирев. – Я заместитель командира по политической части… Так вот, старшины. Афонин матрос хороший и человек будто не плохой, а только на корабле ему еще трудновато, нужны ему настоящие друзья. Конечно, я вас не неволю, не сможете сдружиться с ним – не нужно, но постарайтесь. Как коммунистов прошу.
– Есть постараться сдружиться! – с обычной своей серьезностью сказал Старостин, а Филиппов только молча кивнул головой.
– Мы их тремя мушкетерами зовем, – сказал Снегирев Калугину и рассмеялся своим тонким, заразительным смехом, – Их вот двоих и еще Зайцева. Одногодки, вместе пришли на корабль, водой не разольешь… Ну, шагайте, мушкетеры!
Он уже надел реглан. Все четверо вышли из каюты. Калугин крепко пожал руки старшинам, накинул и застегнул на ходу полушубок. Вместе со Снегиревым поднялся на мостик.
Корабль подходил к базе. Округлые, синевато-черные у подножий, белеющие снегами наверху сопки надвигались с обеих сторон, охватывали корабль гранитным объятием, проплывали с боков трещинами дальних, обнаженных ветрами ущелий, острыми вышками хребтов.
На мостике, у машинного телеграфа, стоял капитан-лейтенант Ларионов, глядя прямо вперед из-под низко надвинутого на глаза козырька. У него был обычный бесстрастный, даже несколько сонный вид.
В ответ на приветствие Калугина он отдал честь четко и равнодушно; подняв бинокль, стал внимательно всматриваться в береговой рельеф.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БЕРЕГ
Где снежный берег в море врос
Домами низкими столпился, —
Блестит обледенелый трос,
Эсминец длинный лег у пирса.
Бегут по скалам провода,
Алеют на морозе лица,
И желтоватая вода
Туманом медленным дымится.
Таков полярный город мой —
зимой…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вода залива еще была подернута белым, колышущимся дымом тумана, но очертания берегов проглядывали все яснее.
Будто возникая из небытия, проносились мимо прильнувшие к самой воде домики береговых сигнальных постов, проступали слоистые очертания сопок, с округлыми скосами снеговых полей, с темными вершинами, оголенными ветрами.
И линия заградительных бонов, цепь огромных черных поплавков, перегородивших вход в бухту, вдруг вынырнула из тумана и, раздвигаясь перед кораблем, проплыла по обоим его бортам.
– До́ма! – сказал Калугин улыбаясь.
Он не мог не улыбаться. До́ма, в родной базе, после неустанного напряжения, недосыпания всех этих дней и ночей похода… Были ли здесь воздушные налеты? Не пострадала ли база? Живы ли, целы ли друзья, товарищи по работе? Ждут ли его письма от семьи, с которой не виделся столько месяцев?
Здесь, видимо, было все в порядке. Как всегда, взбегало по крутым береговым скалам несколько линий двухэтажных деревянных домов. Каменный многоколонный циркульный дом поднимался над широкими гранитными ступенями главного причала. И серое кубическое здание штаба флота, как угрюмый форпост, серело над заливом на вершине скалы.
Уже было видно, как взад и вперед, взад и вперед ходит у его дверей вахтенный краснофлотец в тулупе и в бескозырке, с винтовкой, взятой наперевес.
Мимо проплывали темные веретена подводных лодок, вытянутых вдоль причала подплава. К одной из лодок подвозили на тележках торпеды, другая медленно отходила от причала; на ее высоком стальном мостике темнела группа смотрящих вдаль моряков.
– А наших кораблей что-то не видно! – сказал Старостин.
Действительно, эсминцев не было ни у причала, ни на рейде – на все больше яснеющей, подернутой легкой рябью глади залива.
– Зато вон сколько ботишек и буксиров нагнали!
Все высокие бревенчатые причалы, вытянутые по сторонам бухты, были заставлены грузными, задымленными кораблями. Кое-где они даже стояли борт к борту, их мачты казались сплетением оголенных прямых деревьев, увенчанных крестообразными ветвями. Палубы одних были безлюдны, на другие, по сходням, перекинутым на берег, взбегали фигурки в ватниках, плащ-палатках, стальных шлемах – фронтовики, кажущиеся горбатыми от вздувшихся под плащ-палатками вещевых мешков.
– Что-то делается, – сказал высокий замочный Сергеев. – Недаром никто нас не встречал. Бывало, только пройдешь Кильдин, навстречу тебе катер комдива. Поздравляют с окончанием похода, интересуются…
– А с чем поздравлять? – хмуро сказал Старостин. – Побарахтались в море и ни с чем приходим.
– Нет, тут не в этом дело! – отозвался боцман.
– Прямо руль! – скомандовал на мостике капитан-лейтенант.
Он стоял на левом крыле, озабоченно глядя вперед. Лейтенант Лужков держал руки на ручках машинного телеграфа.
– Есть прямо руль! – повторил рулевой.
– Левая малый вперед, правая малый назад!
Лужков со звоном перевел ручку машинного телеграфа.
– Есть левая малый вперед, правая малый назад! Как люди, товарищ командир?
– Люди до места! [15]15
Подъем флажка «люди» означает поворот корабля влево.
[Закрыть]
Белый флажок, пересеченный красным крестом, пополз вверх по фалам.
– Есть люди до места! – крикнул старшина Гордеев.
Корабль медленно, очень медленно скользил в сторону высокой бревенчатой стенки. Командир перевесился через поручни, измеряя глазами расстояние до берега.
– Левая стоп, правая малый назад!
– Есть левая стоп, правая малый назад! – снова звякнул машинный телеграф под рукой Лужкова.
– Шар долой, землю поднять! [16]16
Поднятый на мачте шар – сигнал «стоп машины», флажок «земля» – корабль дал задний ход.
[Закрыть] – командовал Ларионов.
Черный фанерный шар заскользил вниз. Вверх взлетел клетчатый, сине-белый флажок.
– Левая малый вперед!
– Есть левая малый вперед!
– Землю долой, шар на средний!
На фок-мачте трепетали спускаемые и поднимаемые флажки. Калугин уже начинал разбираться в значении этих команд, в названиях флажных сигналов, говорящих о маневрировании корабля.
Он всматривался в лицо капитан-лейтенанта. Две резкие вертикальные морщины легли вдоль тщательно выбритых щек, оттеняя жесткий, волевой рот, плотно сжатые губы.
– Легче влево, одерживай, одерживай, не пускай сильно!
Это команда рулевому, высоко поднявшему плечи и вытянувшему вперед голову над гладкой рукояткой штурвала. Эсминец уже был совсем близко от пирса, но почти неподвижно стоял на воде; почти не уменьшалась черная лаковая полоса воды между его бортом и высокой бревенчатой обледенелой сверху стенкой.
– Сколько до стенки? – крикнул вниз командир.
– До стенки тридцать метров! – донесся голос боцмана.
– Обе малый вперед! – приказал Ларионов.
– Малый вперед обе! – повторил Лужков, звякнув ручками телеграфа.
– Стоп машины! Подать кормовой! – скомандовал Ларионов.
«С каким напряжением командует капитан-лейтенант, когда эсминец уже стоит у самого причала, – думал Калугин. – Как Ларионов охраняет корабль, с какой придирчивой осторожностью подводит его к стенке! Военный корабль, переносящий любые испытания в море! Значит, нельзя сразу, в притирочку, как пишут в морских романах, подойти и ошвартоваться у пирса».
Нет, очевидно, нельзя! Вот, собрав длинный бросательный конец в свободные кольца, один из матросов кинул его через борт. Он пролетел над водой, упал на край стенки; стоящий на берегу краснофлотец подхватил его, вытащил на берег тонкий стальной трос. Несколько других матросов помогли закрепить трос вокруг чугунной тумбы.
Теперь корабль вплотную подтягивался к причалу, и боцманская команда «Громового» уже стояла наготове с кранцами в руках, готовясь опустить их за борт корабля, чтобы ослабить его соприкосновение с пирсом.
С борта на берег перебросили деревянные сходни. И вахтенный краснофлотец с винтовкой вытянулся возле них на берегу.
– Смирно! – скомандовал лейтенант Лужков.
Ларионов уже торопливо сходил на берег. Следом – старший лейтенант Снегирев. Калугин успел лишь на минуту забежать в каюту, сменить полушубок на шинель, захватить противогаз и полевую сумку, а они уже шли по заснеженным доскам пирса, в сторону штаба, в сторону коленчатых узких мостков, бегущих вверх по скалам.
Калугин тоже шагнул на сходню. Берег, твердая земля! Здесь можно итти и итти вперед, и никакая грань борта не остановит тебя. Теперь он понимал чувства моряков, ступающих с корабля на сушу.
Взбежав по сходням, он оглянулся на пирс. «Громовой» стоял там, прижавшись к высокой стенке, белея рядом стальных надстроек, длинными орудийными стволами, укрытыми плотным брезентом. На его корме развевался перенесенный с мачты военно-морской флаг; на носовом флагштоке – огненный гюйс; над широким полукруглым мостиком поднималась стройная мачта. Фигуры сигнальщиков двигались там, подняв бинокли к ясному небу.
И вдруг новое, горячее чувство пронизало его. Привязанность к кораблю. Он провел на нем всего несколько дней, а уже ощущал к нему какое-то родственное чувство.
«В море – дома!» – подумал Калугин. В первый раз эта фраза показалась выражением, имеющим глубокий жизненный смысл.
Но это чувство возникло лишь на мгновение, затерялось в других ожиданиях и мыслях.
Он глядел кругом и видел: нечто изменилось в быту базы. На улицах необычное движение, в порту необычное количество кораблей.
Навстречу ему сбегал по трапу отряд. Обветренные молодые лица, на головах шерстяные подшлемники; стальные покрашенные в белое шлемы покачиваются под рукой у каждого, рядом со штыком и походным котелком. Поверх полушубков висят куцые черные автоматы; грузные подбитые войлоком валенки бесшумно ступают по сходням. Морская пехота, автоматчики идут грузиться на корабль. А по другим сходням спускается еще отряд. Некоторые корабли внизу уже заполнены бойцами. Неужели началось наступление, долгожданное наступление?
Он торопливо шел к редакции по неровным, выбитым в граните улицам, мимо стандартных деревянных домов с высокими крылечками, занесенными снегом. Он жил пока в самой редакции, после того как приехал с переднего края.
Вдруг вновь кругом закрутилась снежная пелена, безоблачное небо померкло, линии скал и окна задернулись густо летящей белой крупой. Резкий ветер подул с залива. Там тоже все было под снежной завесой, рубиновый тусклый свет сигнальных огней блестел сквозь снеговую муть. Калугин взбегал по деревянным ступенькам туда, где над самым склоном находился дом редакции флотской газеты.
В подъезде стоял вахтенный краснофлотец – сурово вытянувшаяся девушка из типографской команды.
– Здравствуйте, Зина! – сказал Калугин, входя в подъезд и стряхивая с шинели снег.
На столе дежурного, около двери, лежала кипа новых, пахнущих свежей краской газет. Из глубины помещения слышалось жужжание электромоторов и мерное постукивание типографской машины.
– Здравствуйте, товарищ капитан, с возвращением, – сказала Зина. На ее открытом, миловидном лице проступила улыбка, но она строго нахмурилась, плотней поставила винтовку к ноге, как настоящий часовой-краснофлотец.
– Редактор здесь?
– Капитан первого ранга еще не уходил… Майор тоже здесь… Товарищ капитан… – Она хотела что-то прибавить, ее свежие губы дрогнули, но она замолчала.
– Писем мне нет, Зина?
– Есть письма. Два письма, товарищ капитан!
Она вынула из ящика стола и протянула ему два заштемпелеванных треугольничка. Калугин жадно развернул письма, пробежал мельком, спрятал в полевую сумку. «Хорошо. Прочту внимательно потом, наедине, чтобы не портить удовольствия».
– Из дому пишут, товарищ капитан? – спросила Зина.
– Да, Зина, жена и мама…
Он взял из стопки на столе свежий номер газеты, не читая сунул в карман, пошел к лестнице во второй этаж.
По лестнице с грохотом бежал редакционный фотограф. Маленький быстрый, всегда улыбающийся, отчаянно храбрый Венчук. Он был в полушубке и кирзовых сапогах, через плечо перевязь противогаза, через другое – желтый ремешок фотоаппарата.
– А, мое нижайшее! – Венчук нынче был непривычно серьезен. – Ну, как поход? Сколько самолетов в сумке?
– Об этом прочтете в моих очерках, – таинственно сказал Калугин. – Куда спешите, Федор Николаевич?
– Редакционное задание особой важности. У нас такие события! Бегите в боевой отдел. Может быть, отправимся вместе… Еще полчаса буду в фотолаборатории. Спешу, спешу! – Венчук скрылся за поворотом, откуда несся стук типографской машины.
По лестнице спускался боец в разрисованной желтыми листьями зеленой плащ-палатке, в шерстяном подшлемнике, пересекающем обветренный лоб. Из-под плащ-палатки высовывался висящий на шее бойца автомат.
В коридоре наверху прохаживался моряк с нашивками старшины, в черной пилотке подводника. Он волновался, поглядывал на дверь с надписью «Боевой отдел».








