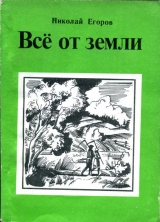
Текст книги "Всё от земли"
Автор книги: Николай Егоров
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Большие Дворы
Дворы – да, дворы в ней были угластые, но сама целиком вся деревенька кругленькая и уютная, как пыжиковая шапка. И рыжели ее подворья жестью крыш до того в стороне от столбовых дорог, что даже собаки цепенели от удивления, если случалось появиться незанюханному человеку: это откуда он тут взялся такой?
А наведывались, в основном, чужедальние городские пенсионеры с единой целью приобрести какую-нибудь хибарку с огородиком и покопаться напоследок в земле, как в смысле прожитой жизни.
О продаже недвижимости здесь и не заикались, здесь утверждался навечно и жался старожил к старожилу так плотно, что между них и блоха чужая не вклинится, но очередного страждущего от суеты, шума и засоренной атмосферы на всякий пожарный случай направили к Устинье Осиповне, тоже давно пенсионерке и женщине кругом одинокой и безродной, так получается, если единственный сын и глаз не кажет в Большие Дворы, тогда как просто обязан призреть старуху, перемогающую ради него безмужно с самой войны. Совсем безмужно. Как статуя.
– Купца не ждешь, хозяйка? Здравствуй. Домик вы якобы продаете, так не назовете ли цену?
– Сто сот, – усмехнулась Осиповна, – купец выискался, гляди-ка.
Но тот принял усмешку за начало торга и повеселел:
– Ну, если за всю деревню оптом, тетя, да если половину скостишь, то, пожалуй, можно и по рукам.
– За всю, дядя, за всю, мы поштучно и картошкой на базарах не торгуем.
– Да уж на базарах вы дерете с нашего брата с горожанина.
– Так оно и нам железо ваше в копеечку влетает. Не продаю, мил человек, не продаю, туману только напускаю.
– Вплоть до двухтысячного года?
– Пока до двухтысячного, а там новый срок назначат, как без этого, сам посуди: рук около земли год от году меньше, зубов – больше…
– Так, так… Поэтому, значит, и дорожитесь?
– И дорожимся, и держимся, а куда деваться? Земля – поручень надежный. Только отпускаться от него не надо бы, потом не вдруг ухватишься снова. Вот как ты, к примеру. Или сынок мой круженый…
Заезжий долго и тоскливо согласно кивал головой, вздыхал, блуждал взглядом по Устиньину подворью со следами всякой пернатой и парнокопытной живности, с постройками и пристройками, с избушкой-малухой, с баней по-белому, сараем и сараюшками, с птичником и хлевом, с дровяником, с персональным колодцем посреди большого двора, с амбаром и казенкой. И все под железом, все рубленое, уконопаченное, теплое и приземленное.
– Ничего, плотно живете.
– Вы – не знаю, а мы щелевато и не жили.
И окончательно отгораживаясь от пришлого, Устинья нарочито медленно закрыла перед самым его носом воротца, выдернула из дырочки ремешок щеколды, набросила кованый крючок, двинула засов и припала глазом к прорези для почты в заборе глянуть на поворот от ворот, гордая тем, что заборы да затворы только и остались от прежней деревни.
Но отходя от этой надежной ограды своей, отходила Осиповна и сердцем, а с высокого крыльца и вовсе жалостливо смотрела вслед личной машине, такой же пожилой, задумчивой и сутулой, что и владелец.
– Железа, конечно, полно у них у всех, да железо только ржа ест.
Потом, ближе к вечеру, накормила птицу, все четыре «сорта», и тихо-мирно посиживала на теплом крылечке, готовя пойло для коровки и телка: голоднехонькие с выпаса приходят. Разломив надвое кирпич магазинного четырнадцатикопеечного хлеба, выщипывала мякиш, мелко крошила его суставистыми пальцами извечной доярки над маленьким капроновым ведерком, в большое луженое кидала корки и качала головой:
– Дораспахивались, язвило бы нас, скот хлебом насущным кормим. А сколько шуму, вспомнить, с этой залежью было, сколько куража… Теперь вот ни сена, ни фуража.
Напористо и часто зачакала о защелку щеколда, во двор домогался кто-то свой.
– Батюшки, уж не Леонтий ли…
– Мать! Ну ты что расселась, как Минин и Пожарский? Открывай!
Осиповна по-молодому через ступеньку сбежала с крыльца и, не веря ушам своим, припала глазами к прорези для почты. Он!
– Да я, я это. Левка.
Он. Отодвинула засов, откинула крючок – и затряслись руки: мать есть мать.
– Фу ты, с-ступа старая, слепнуть начинаю, никак ремешком в дырочку не попаду…
– Да подними клямку сама, совсем одичала в своих Больших Дворах.
– Одичаешь с тобой, реже солнечного затмения бываешь. И все налегке.
– А ты меня с каким вьюком ждешь? – Левка скраснел и замотнул за спину авоську с бумажным кульком.
– С внуком. Или хотя бы со снохой, с каким. Пятый ведь десяток уж разменял. Все жеребцуешь, жеребец. Давай тут, нито, деревенскую невесту сосватаем, есть у меня на примете одна неплохая так девка-перестарок.
Но Левка придурковато закатил зенки под лоб и грянул частушку:
А на кой она, невеста,
Холостому лучше жить:
Положил табак на место,
Утром встал, а он лежит.
– Ошалел, что ли, зеваешь на всю улицу? Пятый десяток дитю – умом все, как эти воротца: с дыркой, на шарнирах и поскрипывает.
Левка кхэкал, помыкивал ласковым телком и маятниково покачивал авоську.
– Да не тряси ты кульком своим, что там в нем…
– А гостинец. Сноха послала.
– Сноха-а… То ли правда? И ведь молчал.
– А сюрприз с презентом готовил.
Левка выпростал из авоськи зауголистый кулек и подал матери. Устинья вытерла о фартук руки, сглотнула слюнки, развернула раструб и… прикусила губу. То ли чтобы не расхохотаться тоже, то ли – не расплакаться: чеснок. Крупный, свежий, фасонистый, но – чеснок.
– Самый острый дефицит у нас на Северке был.
Дефициту этого у нее своего четыре сквозных гряды из-под зимы на продажу растет да для себя кончик.
– У-у, сорт, видать, шибко хороший. Слышь, а что, если я его на племя пущу?
– Ешь, не выдумывай. Не приживется он у тебя, не тот климат. У среднеазиатских республиканцев Надюха на базаре покупала. Рубь штучка. Аж на тридцатку тут.
– Да, да, да, – пересилив себя, поддакнула сыну Устинья, – дорожает сельский продукт на базарах. Да и как ему не дорожать: сеющих год от году меньше, пожинающих – больше. Карточку хоть привез?
– Какую? А-а, Надюхину… Не. Забыл.
– О-хо-хо… Ладно, соловья баснями не кормят, пошли в дом.
– А я не соловей, мать, я, мать, голубь.
– Бумажный. Куда махнут, туда и полетел.
Левка разлетелся было прямиком в горницу, но через полустертую грань между городом и деревней переступить не посмел и, распяв себя на косяках, зарился с порожка на палас во весь пол, на трехстворчатый платяной шкаф, цветной телевизор, сервант со всякими сервизами (непонятно, зачем и для кого они ей в Больших Дворах?), на круглый допотопный стол под гарусной скатертью, на такую же древнюю деревянную кровать под иранским покрывалом, с кружевным подзором донизу и с пирамидой подушек чуть ли не до потолка. И все простенки в дешевеньких паспарту.
– И как тебе мой новый терем? Глянется?
– Н-ну, спрашиваешь. Исторический музей с картинной галереей. И во что обошлась «комсомольская стройка»? Или секрет?
– Ой, не говори, даром почти. Лес, кирпич и кровлю колхоз выделил безвозмездно. Как ветерану. И помочь собирала, никто рубля за работу не взял. Мать всего и потратилась – коромысло водки успела поставила добрых людей угостить. Так что ты шибко не казнись, что ни сам не приехал матери подсобить, ни копейку заместо себя не прислал…
Левка мотнул головой, вытряхнув из ушей материнский упрек:
– Два ведра – двадцать литров? Или сколько?
– Да два ящика, сколько… Ящиками да ведрами уж начинали пить, садись ужинать, не майся.
Левка утянул животик и полез за тесный стол, но, не обнаружив на нем вдруг ни «пузыря», ни стопок, застопорил.
– Стоп, стоп, стоп, а со свиданием где? Ну-ка, пошарь под лавкой.
– А все, сынок, текла под лавками река, да обмелела. Да какой же это иконе молиться, до трезвого дня дожили. У вас в городе – не знаю, а у нас рай наступил, совсем эту монополию прихлопнули. Так ты веришь или нет, заядлые потребители и часы позабрасывали, а то ведь на оберучь носили: по одним ждут, скоро ли два, по другим спотыкаются – успеть бы до семи. А теперь красота. И зарабатывать, слышь ты, хорошо стали. А я тут ночью как-то раскинула – так мы ведь это, вдовые бабы, пьяную заразу развели, до войны не было ее. Мы, мы. Больше никто.
– Да ну, вы…
– А вот и не ну. Вот, слышь, когда меня на пенсию провожали, председатель речь готовил и подсчитал, что я якобы за сорок лет по шес… Вру, не по шестнадцать – по сто шиисят тонн от каждой коровки надоила. В среднем, конечно. А вот кто бы занялся да подсчитал, сколько я водки чужим мужикам выпоила – и цистернов, поди, таких и нету. Поросенка заколоть – «пузырь». Сено привезти – два да три. Дрова – те вовсе синим пламенем горят. Ночь ли, за полночь – шаришь под лавкой, потому что «магазин закрыт» – не скажешь, запасай, когда открыт. А теперь красотища. Нету. Ты зачем приехал? – застала она сына врасплох.
– Я? Я – ни за чем, я так.
– Ну, ты зубы языком не корчуй, так ты никогда не приезжаешь.
– Да… понимаешь… обмен квартиры наклевывается. Надькину полуторку на двухкомнатную с доплатой.
– Ну…
– Ну и три тысячи просит.
– Сколько? Да что уж там за вокзал за такой. Не-е. Сотни три еще наскребла бы, а тысячи мои туда ушли, – кивнула она в горницу. – Теперь уж до осени ждите, может, наторгую. Картошка нарастет, лук. Скотинешку лишнюю сдам, успеваемость уж не та ходить за ней.
– До какой до осени, ты что, мать, крайний срок – понедельник. Не этот, а следующий. Мам! А если дом толкнуть? А? А жить – к нам. Места хватит, ни дров, ни сена не надо.
– К вам… Ты со своей Надюхой поночевал да опять скочевал, а мать потом в какие Палестины?
– Не, не, с этой мы в законном браке. Вот, – достал паспорт.
– Штампы в паспортах нынче, сынок, узелки двойной петлей вязанные: за любой кончик нечаянно дернешь – и нет его. Да-а, времена, времена. Да твои-то длинные рубли куда подевались, хвалился, по скольку зашибаешь.
– Куда… На юг съездили, свадьбу в ресторане справили.
– А-а-а, ну вот кто у вас в ресторане гулял на свадьбе, у тех и займуйте. Как открытку бросить, мать-старуху пригласить, так запамятовали, а как «дай» – вспомнили?
– Но ты ж все равно не смогла бы приехать за такие версты.
– Не смогла бы и не поехала, только открытка ваша пятикопеечная мне дороже бы этих тысяч стоила. – И взорвалась замедленной бомбой. – А тянуться из последних на тебя я смогла? Говори, паразит, смогла?! Молчишь, стыдно шарам. Ладно, пошла я управляться, табун гонят. И даже и не жди, я долго. А захочешь баиньки, милый сын, – постелька тебе в чулане.
– И дернуло меня про эту свадьбу, – каялся Левка, пробираясь по незнакомым сеням в чулан.
И на какое ребро упал, на том и проснулся. На стекле крохотного оконца желтопузая муха греется, вся насквозь светясь и суча лапками.
– Ишь, тварь насекомая, наела эпидемию тут в деревне и голова больше ни о чем не болит.
Не болела голова и у Левки впервые за столько лет. И, вспомнив, почему она не болит, долго не мог прийти в себя. Дольше, чем с глубокого похмелья.
– Родная мать не угостила, а… Текла, говорит, река, да обмелела. Ну, карга старая. От груди и то сыспотиха отнимала. Так сколько я сиську сосал? Год? Пусть – два. А пили – десятилетиями. Вот уж, наверно, некоторые местные мужички посучили ногами. Как эта муха. Да есть у нее в заначке, она без такого запасу сроду не жила. Мать! А, мать…
Никого и тишина, как мор прошел. Муха припала к стеклу и насторожилась. Ворохнулся с боку на бок – на спинке стула костюм его подглаженный висит, на сиденье – записка.
– У, даже две. Повернул первую к свету.
«Выручу, погорячилась я вечор, А пишу, чтобы не будить, соседка попросила подменить ее, на станцию дочь встречать поедут они на своей к поезду, с имя и ты езжай и объявление там повесишь».
Схватил вторую бумажку.
«Объявление. В больших Дворах спешно продается совсем новый дом испот топора за 3 тыс. и не меньше. Спрашивать Устинью Осиповну. Пенсионерку. Ращет сразу».
Объявление сорвали скоро, и Устинье Осиповне тоже ничего не оставалось, как сорваться из своих Больших Дворов, которые уместились теперь за пазушкой в бумажном свертке с тридцатью сотенными, но не как с тридцатью сребрениками, нет, хотя поначалу она и терзалась такой думой. Теперь – нет.
И она спокойно шла с ними по незнакомому городу в неизвестную жизнь.
И сколько ей еще отпущено пребывать в той жизни, даже об этом Устинья Осиповна не думала. Она только знала, что она – мать, а дети на что будут способны – время покажет.
Время покажет.
Дождь на свету
Бабка Минушка очнулась от тишины. Прислушалась – нет, тишина. Ну вот прямо-таки подземельная тишина. Ходиков и тех не слыхать.
– Господи, да не на том ли уж свете я?
Отяжелела как-то вся сразу и лежит влажным глинистым пластом, боясь пошевелиться.
– Ах ты, моль безмозглая, да ведь я же боюсь, значит, жива должна быть.
Пошарила на привычном месте стакан с чаем – тут. Открыла глаза – три оконца избушки белесово глянули на нее. И скатился тяжелый камень с груди: дома и живая.
Поднялась, проскрипела половицами, составила с подоконника на лавку герань, распахнула створку, высунулась в нее. Небо все сплошь серое, и не распознать, давно ли уж утро или только светать начинает.
Наугад подвела стрелки, протарахтела цепочкой, подтягивая гирьку с обезножившим будильником на ней, толкнула маятник. Маятник испуганно шарахнулся и зачастил, наверстывая секунды, но, поняв, что за временем ему не угнаться: годы не те, умерил шаг и монотонно заскрипел протезом из вязальной спицы.
Земля для бабки Минушки вернулась на свою орбиту.
– Велика ли живность – часы в доме, а без их бы совсем тоска. Век в деревне доживаю, и вот когда коснулось, что тишина может быть такой невыносимой…
Усмехнулась, постояла посреди избы, как на распутье, раздумывая, лечь или уж ни к чему теперь, все одно не уснуть.
Шибко уж мудреный сон привиделся ей. И Минушке не терпелось рассказать его, и уж не к смерти ли он, но утро запаздывало.
– Да как же бы это время точно узнать?
Покрутила радио – молчит. Пошла легла.
– Нет уж, видно, открутила свое, так и радио не поможет, крути, не крути. Да к чему бы это я в Америку собиралась… А к чему еще могут в дальний путь собираться старые во сне: хватит, пожила, слава богу. Всяко жили. У-ух, всяко…
С возрастом память ослабевает, но не скудеет, храня только значимое, то самое, без чего, может быть, и жизнь твоя как человека не состоялась бы.
…В ту военную зиму изба Минушки не казалась такой просторной, как теперь: своих четверо девчонок да у квартирантки Тонечки, у ленинградки, двое. Восемь женских душ и война.
– Пляшите. Все пляшите.
Тонечка стояла у порога, держа над головой треугольник письма со штемпелем «Бесплатно». Бесплатно? Нет, русским женщинам дорого стоили и дорого обошлись эти письма с фронтов. Ох, дорого. И хотя, помнится, она тогда и не топнула ни разу, письмо Тонечка тут же подала ей.
– Ну-ка, читай вслух, солдатка.
– А мамка никак читать не умеет, – обиженно надула губешки ее старшенькая, в какой же… а, во второй класс уж она тогда бегала.
– Не сердись, доченька, ты у меня грамотная, ты еще начитаешься, а я вот только сердцем до всего дохожу.
И прижала письмо к груди, будто и вправду вникая сердцем в родные строчки и слова, до самых краешков переполненные тоской по ней и детям, подробными заботами обо всем и надеждой на скорую встречу.
Потом бережно опустила в карман казенного халата, выдаваемого свинаркам, сняла с лампы стекло, долго дышала в него и надышаться не могла, протерла до скрипа газеткой, добыла огонь, принарядила стол скатертью, усадила за него всех девчонок, утайкой поглядывая на дверь, не откроется ли она и не войдет ли ее Василий.
Но Василий так до сих пор и не вошел.
Письмо читать по общему согласию доверили Тоне, но она сначала одна пробежала его глазами, привыкая к почерку, и улыбнулась:
– Прелесть, какой оригинал ваш дядя Вася: каждое слово с заглавной буквы и никаких знаков препинания.
– А там для них теперь все заглавное. Ты читай, читай, не развлекайся. Или меня учи грамоте!
Училась. Каждый печатный клочок, гонимый ветром, ловила, чтобы и письма от Васеньки самой читать, а пришла похоронная на него. Это ли не злосчастье?
– Тогда уж не померла, теперь что не жить, – думала Минушка. – Девок всех образовала и всех на ноги поставила, за больших женихов по городам разошлись. Здоровье свое, в аптеках не покупаю, деньги зря не извожу. А как бы да не к войне сон. Телевизор хоть не включай…
В Добренку мимоходом завернул радостно-теплый дождик, закружился, зашумел, зашлепал ладошками по прогнутой черной тесовой крыше, как по загорелой спине.
– Дождичек на свету – к погожему дню, ранний гость – до обеда, – отметила Минушка и обрадовалась. – А ведь и верно, утро уж, разлеглась колода!
Пели оглашенные петухи. Мычали коровы. Озоровал ливень. Под клеенчатым парусом плыла Минушка в глубоких галошах на шерстяной носок по лужистой улочке Добренки прямехонько к задушевной подружке своей Некорыстихе, она-то уж тоже должна быть давно на ногах, такое хозяйство на ней и семьища.
И соседка совсем неблизкая, и годилась ей разве что в дочери, но Минушка не взирала ни на расстояние, ни на разнящий возраст и тянулась к ней потому, быть может, что Галина и по характеру не чета нонешним, и детей уже имела столько же, сколько и она о ту пору в свои тридцать лет.
Ворота настежь, во дворе Петькин грузовик. Не Петькин, совхозный, но он тут как свой домашний.
– Галь! Ты где?
– Счас! – отозвалась из сарайки Галина.
Минушка потопталась на старом зиловском радиаторе, вытирая галоши, сняла их у нижней ступеньки крыльца, поднялась на верхнюю и уселась под навесик коротать долгую минуту ожидания.
Скоротала.
– А в дом чего не заходишь? – появилась наконец хозяйка с подойником.
– Да твои-то, поди, все спять еще…
– Тебе вот только никак не спится, я гляжу.
– Дождь-то… Чуром чурит, – неловко перевела разговор старуха, сообразив, что притащилась она со своими нелепыми снами в самый недосуг. – Дождь на свету – к доброму дню.
– На прогноз погоды переключилась, что ли? – улыбнулась Галина, зная о пристрастии бабки Минушки к передачам «Сегодня в мире».
Поставила ведро, присела рядом.
– Ну, что там у тебя стряслось?
– Кабы у меня одной… Ты, подруженька, серчай, не серчай, а делов наших бабьих никогда всех не переделать. Умрешь, а работы еще на день все равно останется. Да ведь, пока живы, и пожить надо. Замысловатый сон я видела нынче.
– Опять сон? Беда с вами старыми. И когда только вы их глядеть успеваете! Давно ли про самолеты во все небо рассказывала? Про гул вселенский…
– А! А ведь сбылся он.
– Не плети, сбылся.
– А Течер не потопила четыре корабля? Потопила. И каждый, чать, километра по полтора длиной будет. Э что? Не война?
– Так то где…
– Да хоть и где. Те же люди гибнут. Где… Ишь ведь, как мы рассуждаем: где. Нонешний мир что спичечный коробок: ткни сдуру горящую спичку в него не с того конца – и только пшик останется.
– Ты сон, сон давай, – напомнила Некорыстиха.
Минушка стянула с костоватых плеч клеенку, стряхнула капли, повесила на перильце.
– Погоди разберусь. Дожилась, явь от видения не отличаю. А, ну вот, слушай. Будто и в летах я в своих теперешних, и молодая, как ты. Приснится же… И в самодеятельности будто. И сроду я в ней не бывала, а тут артистка, значит, – Минушка посмеялась в нос и зажала его заветренными пальцами, как деревянными прищепками. – И вот будто посылают меня в Америку басню читать…
Галина прыснула и качнулась назад. Поймала накренившийся подойник и аж порозовела.
– Да подь ты в пим дырявый, выдумщица. Чуть последнее молоко из-за тебя не пролила. Какую басню?
– А вот ведь и не помню, затмило. Ай… «А Васька слушает да ест!» Собираюсь это я в дорогу и достаю из сундука смертный узел…
– Какой, какой, ты сказала, узел?
– Смертный. Второй уж припасла, первый донашиваю. Живу и…
– А это еще что за узел такой? Почему смертный?
– Потому что старый человек на смерть себе готовит: и одежду, в чем в домовину положить, и что на помин раздать: платки, полотенца. А я еще и печатку духового мыла с фланелевой тряпичкой учла – усопшую меня обмывать, – и десятку денег в нее завернула за обиход. Доченьки с зятевьями поспеют или нет к выносу хоть бы, а чужому кому охота задаром с покойницей.
Некорыстиха знобко поводила плечами и отодвинулась.
– Жуть берет, как ты спокойно о своей смерти говоришь.
– Своя смерть – благо, а вот как прилетит да шарахнет где-нибудь эта зараза – и поползем удельными червями. Ой, не дай, господь…
– Удельные – это дождевые, что ли?
– Ну. Так мы их в детстве звали. А старость – болезнь неизлечимая, милая моя. На чем я там остановилась?
– На узле, – одними губами подсказала Галина.
– Тьфу ты, язвило бы тебя, затмило. А вот это уж старческий крылез у меня начинается. Достаю это я смертный узел с собой взять, вдруг, думаю, на обратную дорогу жизни не хватит, Америка, чать, не близкий свет… Ой, Галька, не к добру сон. Достаю из сундука и думаю… Понимаешь? Во сне думаю. Думаю, Васькой их не усовестишь, у них, поди, и котов сроду по-другому зовут, надо переделать басню. И пе-ре-делала ведь! – хлопнула Минушка Некорыстиху по коленке.
– Ну-ка…
– А Регент слушает да ест. А! И не ухмыляйся что есть, так бы и врезала, кой-кому из американцев открыла бы глаза на образа.
– Хорошо переделала, я почему и улыбаюсь. Хорошо: а Регент слушает да ест. И ясно – кто, и не прикопаешься, мало ли какой регент. А они что на это?
– Кто?
– Да американцы-то.
– А не доехала я до них, проснулась.
– И все?
– Зачем все, перед пробуждением еще сторублевку искала.
– То говорила – десятку завернула, то уж сотенную.
– А сотенная – совсем другая статья, сотенная – на поминки. Ищу, сокрушаюсь, куда она могла деваться, как, думаю, в такую путь – и без копейки. По гостинцу ребятишечкам Галькиным, – твоим, значит, – и то не на что будет купить. Или вдруг насморк приключится, а там ведь не у нас, там как чихнул, так доллар плати, а у нас хоть сколько валяйся в больнице – и тебе же потом заплатят, если не помрешь. Ты не смейся, не смейся, – опять заметила Минушка, зайчики в глазах у подружки запрыгали, – вчера до конца смотрела телевизер?
– Прямо, досуг мне. Ты сон свой давай скорей досказывай, вот-вот табун погонят. – Глянула сама на часы, поднесла время к глазам Минушки.
– А дальше и слушать нечего. Ищу это я деньги и слышу – машина гудит. И как наяву…
– Наяву и гудела. Некорыстин мой свое безнарядное звено по дворам собирал, сено метать.
– Ночью?
– Ночью. И вовремя управились, а то бы вот намочило его.
– Да неужели и мы в хозяевов перестраиваться стали? Годится. Так выглянула это я в окошко, что там за такси под меня подали такое нетерпеливое, гудит и гудит, и уже будто не в Добренке я, а в Ленинграде у Тонечки, у военной квартиранки моей в гостях на высо-о-ком этаже… Надо ж наблазнить. С чего?
– Телевизоры смотришь до конца.
– Вам не наблазнит, ни голоду, ни холоду не знаете живете, а мы какой крах одолели. А что, Галь, неужли Течер нашего полу?
– А ты что, не видела, в платке ее тут как-то показывали. И платок будто бы простенький, и по-бабьи повязанный.
– Да не из камня же она тесанная, четыре корабля потопить. И каждый…
– Ой, некогда мне, – поклевала Галина ногтем стеклышко часов.
– А, заканчиваю. Выглянула это я в окошко – и головушку мою обнесло, такая высь. И внизу машина грузовая стоит, а в ней уж народу… Как дров. И все наши, деревенские. Увидали меня и кричат: «Минушка! Минушка!» И эдакая ли за душу обида взяла – ажно до слез: если мужа на войне убило, так до самой до смерти теперь с девичьей кличкой жить? – старуха сжала губы и тяжело задышала через нос, комкая концы сдвинутого на плечи полушалка. Но сдержалась.
– Так это прозвище – Минушка?
– А то что же… Кричат они там снизу: Минушка, скорей, в европорт опаздываем, а я им сверху: покуда по имени-отчеству не назовете – не сойду. Стихли они, переглядываются и молчат. И я молчу, не подсказываю, вспомнят сами или нет. И такая тут тишина воцарилась – ажно проснулась. Ты-то хоть знаешь?
– Откуда, мы вовсе приезжие.
– Ульяна Аверьяновна я, Смирнова. Ладно, побегу. Это что, – заглянула в подойник, – от двух коров и столько?
– Почему, от одной, другую в совхоз сдали, все равно половина удоя на закуп идет, так хоть голову не ломать, чем их зимой кормить двоих.
– Ой, с кормами беда. И на скоко вытянула?
– На пятьсот с копейками.
– О-о-о! Хорошо. Ну вон они какие печи у вас. Деньги на книжку положили?
– И все-то ей надо знать. Обязательно на книжку? Да у меня мой Петр хоть и не Первый…
– А сколькой он у тебя?
– Фу ты, ну рта не даст раскрыть. Я хочу сказать, мой Петр хоть и не царь Петр Первый, а тоже понимает, где медь нужнее. В Фонд мира решил послать…
Некорыстиха сквозь редкий тюль кухонной занавески проводила глазами старуху со двора.
– А ну ее. Умирать собралась, а носится по деревне – на «Жигулях» не обгонишь.
Сходила в сени за сепаратором, поставила на привычное место, размотала шнур, потянулась вилкой к розетке…
– Ребята встанут – про-се-е-е… парируют, – спрятал Некорыстин улыбку в зевок, вышагивая из горницы.
– Смешно? – Галина скомкала провод, швырнула в горловину сепаратора и опустилась на лавку возле него. – Говорила, давай лучше бычка решим – и на базар.
– Бычка само собой.
Некорыстин вернулся в горницу, скрипнула дверка шифоньера, зашелестели раздвигаемые плечики.
– Петь! Может, до осени помешкаем с бычком?
– Ты вот… Да где он? Стихи любишь. И вообще поэтов… Придумала, мой парадный костюм своим халатом завесить. А помнишь, что Маяковский писал? Надо красного защитника кормить вовремя.
– Надо вовремя кормить, – поправила Галина. – Вот еще одна бабка Минушка выискалась.
– Ты, Галич, Ульяну Аверьяновну не склоняй, она несклоняема, – грозил там в горнице Петр пальцем, – слышал я всю вашу политбеседу, курить вставал. О! Легкая на помине. Аверьяновна! – звякнуло окошко. – Ну-ка заверни на минутку.
– А я и так к вам, – послышалось с улицы.
Проплыла по простенку слабая тень. Прошамкали об радиатор галоши. Прокряхтели ступеньки.
– А ты чего это, как галка на церковном кресте, нахохлилась сидишь? Уж не денежная ли жаль одолела? Мельница вертится, а у мельника голова кругом идет? Язык у тебя гладкий, нёбо шершавое оказалось.
– Так ее, Аверьяновна, – вышел из горницы Петр, поправляя на ощупь галстук.
Минушка шагнула в сторону, чтобы не застить свет, и скрупулезно и долго разглядывала Некорыстина.
– Нарядный. Как Фисуненко из телевизера.
– Ничего ты меня воспроизвела, – смутился Петр и принялся снова за галстук.
– Да не мучь ты его, не мучь, не строй интеллигента из себя, – не вытерпела Галина. – Все равно на спине будет, пока до города едешь по нашему асфальту.
– В Фонд, значит, твердо намерился?
Петр кивнул.
– Тогда вези и мою долю. Поживется – накоплю еще, а не успею, так наверху все равно не оставят и, может, хоть этим помянут.
Минушка подала Петру сторублевку, подала свернутый солдатским треугольничком тетрадный листок, посмотрела на крюк в потолочине, на котором висела когда-то керосиновая лампа, а теперь электролампочка. У Галины навернулись крутые слезы, слышала она эту ее историю с похоронкой. Выдвинула ящик кухонного шкафа и, не оборачиваясь, тоже подала мужу пачку денег.
– Может… не все?
– Да ладно уж. Чего их делить…
– Ох и советская ты старуха, Аверьяновна, – обнял ее Петр.
– Вот и ладно, езжай.
– Ульяна Аверьяновна! Постой. Будут, спрашивать, от кого и кто ты такая, что сказать?
– Там написано.
И тихо прикрыла за собой дверь.
Написано было простым карандашом, коряво и с ошибками, но удивительно верно выражено каждым словом с большой буквы:
От Смирновых Из Добренки от Убитого На Войне Василия и Вдовы Его Ульяны В Фонт Мира Просим Принять.








