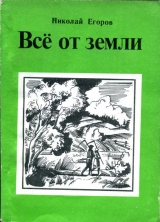
Текст книги "Всё от земли"
Автор книги: Николай Егоров
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– В какую?
– В какую… Восьмое марта скоро.
– А-а. А за что?
– Да хотя бы за то, что не пью, не курю…
– Рожаешь исправно, – продолжил Широкоступов редкостный перечень, кивнув на выпуклость Шуркиного полушубка. – Кого ждем?
– А нет, это грелка там с керосином.
– Что и требовалось доказать.
– А проводи электричество. Ты со своей грелкой, – потянула Александра красную папку из-под мышки председателя, – ни зимой, ни летом не расстаешься. И не бегай за мной, как собака за возом, за керосин я плачу, можешь в бухгалтерии своей свериться. Ты лучше скажи, светит мне какой огонек к женскому нашему празднику или опять нет?
– Ну, сама посуди: за что? За какие проценты? Как замуж вышла, так все на легком и на легком. Если не техничка, то уборщица.
– Ладно…
И в тот же вечер озадачила Семена.
– Сень… Ты как-то сказывал, на самоходных пушках ездил за рулем.
– Там не руль, там рычаги.
– И на самоходном комбайне поехал бы?
– А не одинаковое железо? Зачем тебе?
– Научи меня.
В сельхозтехнике Александра разбиралась куда лучше, чем в географии, но одного никак понять не могла, почему зерно должно подниматься вверх по разгрузочному шнеку. Семен принес болт с гайкой, чтобы наглядно показать.
– Вот смотри, придерживаем гайку, крутим болт. Гайка ползет кверху?
– Ты мне, товарищ механик, атмосферу не засоряй, отпусти гайку. Ну? Что? Так она вниз не падает – на резьбе держится, а зерно, оно не мясо в мясорубке.
Семен хлопнул себя по лбу, привернул мясорубку к табуретке, засыпал горсть пшеницы, наклонил всю конструкцию под углом сорок пять градусов: крути!
И сколько ж было недоумения в Шуркиных глазах, когда из решетки запостреливала крупа.
– Ой, Сенька-а… Ой, что мне взбрело… Чтобы комбайн сразу и молол, эвон сколько зерна теряется по нашим дорогам.
Семен тогда так долго хохотал, что и сейчас, вспомнив, не мог удержаться…
– И не «ха-ха», а Лежачий Камень без нас пролежит, мы без целины – едва ли.
– Совсем угорела баба. Ты соображаешь, какой волок это? Да только под одну под нашу под деревянную кровать целую железнодорожную платформу надо.
– А мы из нее и сделаем платформу. Паровозные колеса приладим – и ту-ту.
– Ну-у, дает! То к комбайну мельницу приладит, то к кровати паровоз. А дом? А баня? Это куда?
– Куда… – И Александра надолго задумалась.
У Семена отлегло от души: зацепил, она любила поплюхаться, как утка, и не унималась, пока всю воду на себя не выплещет.
– Подумаешь – баня. Да в самоварной трубе просторней и сажи меньше, чем в твоей развалюхе. Так что перышком по губам не води, не поежусь.
– Ну и ты не плещи по ковшику на каменку. Я с двумя агрессорами вон с какими справился, а уж с тобой с одной, с пигалицей уж как-нибудь, не таких пантер видал… с «тиграми», – вывернулся Семен на немецкие танки, опасаясь, как бы ему самому не перепало за пантеру. Но Шура и без того поняла, какой зверинец имелся в виду.
– Да укротитель ты мой бесстрашный, да пойдем-ка лучше домываться, ну бы их к лешему, и танки эти, комбайны лучше.
Домывался, собственно, один Семен. Александра решила, что после веника мылу просто делать нечего, окачиваясь, извела на себя полбочки воды и млела от чистоты, упруго сгоняя отмякшими ладошками щекотливые струйки с лица, с шеи, с плеч, с груди, с живота, с бедер и так аж до самых щиколоток.
– Ну-у, расскрипелась, как наканифоленная.
Семен навел на голове целый морской прибой, истратив чуть ли не полпечатки, и, мешкая, чтобы мыло как следует отъело грязь, драил пока остальное, до смешного слепо лапая скользкую лавку то вокруг себя, то вокруг тазика в поисках обмылка, мочалки или черпака.
– Ты вы… тьфу, – сплюнул пену, в рот попала, – ты вылизалась? Иди гони ребятишек.
– Успеют. Сень! А до этой Сев. Каз. обл. шибко далеко?
– А с колокольни и то, слышь, не видать. Да тьфу!
– Ой, с твоей колокольни вообще ни шиша не видать.
– Ты уж у нас зато больно подкованная. Как лошадь. Ну и скачи, закуси удила.
– Ну и оставайся. А я вон на комбайн, приплод твой в бункер и-и-и «Сентетюлиха табак толкла». Куркуль.
Семен потянулся было за словом тоже с верхней полки и сапнул носом, набираясь духу, но набрался пены и тут же погнал эту пену обратно, у ноздрей вспыхнули и начали расти пузыри, лопнули, другие выскочили, один оторвался и полетел. Шурка несдержанно взвизгнула, выпулилась из бани, надернула сарафан как был на левой стороне, воткнулась в Сенькины галоши и напрямки, по огороду, по картошке.
Доспотыкалась до крыльца, плюхнулась и только тогда разглядела, что и в одном сарафане наизнанку, и не на ту ногу обутки, и липкая испарина на лбу, провела пальцами.
– Это называется пришла баба из бани. – Перевела дух, ополоснулась под рукомойником. – Погоди, Сенечка, вечером ты у меня не такие пузыри пустишь.
Выфрантилась – и в правление колхоза.
Широкоступов торопил себе первое место по досрочной уборке зерновых и сидел как на шиле: и это надо, и домой надо, своя собака и та уж лает, хозяин с апреля по сентябрь раньше полуночи во двор не заявлялся.
– Сводничаешь?
Председатель вздрогнул, но головы от писанины так и не поднял, узнав по голосу, кто пришел.
– Слушай, некогда мне.
– Да я только заявление подмахнуть.
– Давай, нашла время.
Бросил авторучку, выдернул из подстаканника толстый о двух концах карандаш, крутнул бумажку, жирно скраснел наискось «Бух!», подчеркнул, ниже черты синим концом – «Оформить» и еще ниже снова красным расширокоступился.
– Ох, и продолговатая ж у тебя роспись, Наум Сергеевич, – еле дождалась последнего зигзага Александра и сощипнула со стола заявление как блин со сковородки. – Дай тебе бог еще столько же лет царствовать тут. Счастливо оставаться.
– Беги, беги… Стой! – заподозрил неладное председатель. – Ты не телегу тут подкатила мне? Не шарабан с барабаном? А ну вернись, гляну.
– А не окривеешь? На целину мы решили поехать. В Сев. Каз. обл.
– Куда, куда? В казахские степи? На подвиги. Ну-ну. Надоумил кто, или самим шлея под хвост попала?
– Письмо от Сашки нашего получили. Пишет… Поклон тебе от него. Пишет, работы у них там – колом не провернешь.
– Тут работы бы ему не нашлось, патриот.
– Какой работы… Чего уж пелену на глаза натягивать.
– А я говорю, без работы не останемся, придумаем что-нибудь. Да хоть тот же фруктовый сад разведем, в конце концов.
– Во-во. Насадим груш и круглый год будем их околачивать. Взять моего Семена к примеру. Механизатор – токо на паровозе за рулем не ездил, а где он у тебя? Бочкой с керосином заведует?
– Ты Семена не приплетай, Семен за войну досыта на железе наездился. Не приплетай.
Широкоступова одолело-таки скрипучее самолюбие и заворочало на стуле. Погремел коробком спичек в кармане, смял и смел в мусорницу выкрошенную «прибоину» вместе с пачкой, облапил телефон и прищурил глаз. На пальцах и на запястье густо ощетинился жесткий волос.
«Батюшки, до чего ж мохнатая лапища у него, оказывается, – похолодела и пристыла к полу Шурка. – Не перед добром я давеч хохотала: позвонит сейчас главбухше не оформлять расчет – и подавился петушок бобовым зернышком».
– А в «Правде» за 17 августа этого, 1954-го, года писали, чтобы никому не препятствовать. Особенно – молодежи, – на всякий случай прикрылась она газетной статьей.
– Так то молодежи, а тебе сколько? За тридцать или под сорок? – председатель оттолкнул от себя услужливо притаившийся телефон, – ползи, без тебя обойдемся, – и снова заскрипел стулом. – Ладно, катитесь вы, знаешь, куда… Катись. Не держу. Да и прав таких теперь больше не имею. Но помни: навсегда отлучались из Лежачего Камня лишь убитые на войне. А ты вот в мирное время улучила момент и бежишь от Широкоступова. Эх, Шурка, Шурка!
А у нее тоже вдруг защипало веки, повлажнели ресницы, отсырел носишко. Ей по-бабьи сразу и невыносимо до смерти стало жалко и Семена, который променял Москву на Лежачий Камень и моет теперь шестерых ребятишек в бане, и деревню жалко, и себя, и землю, и председателя особенно, с которым они все такие времена перемогли, как коллективизацию и войну. В шелках не ходили, но и с голоду не пухли.
– Ну что ты, Наум Сергеевич, зря-то, не от тебя я бегу, не от тебя, что ты… Ну, хочешь заявление обратно порву? Порвать?
– Ладно, все правильно. Так мне и надо. Езжайте. И не тряпичные куклы это – целина.
Домой Александра свет Тимофеевна сыскалась в глубоких сумерках и навеселе.
– Ты где это успела причаститься и по какому численнику празднуешь? – встретил ее у порога Семен.
– М-м-магарыч пила! – и заприщелкивала любимую лежачинскую топотуху с картинками:
Сентетюлиха табак толкла,
Угорела да спать легла,
Угорела да спать легла,
А в избушечке такая мгла…
Дальше должен был петься самый пейзаж, и Семен прикрыл его плотной ладонью:
– Э! Э! Сдурела, тушканчики еще не спят. С кем пила, какие магарычи?
– Ой, капитан ты мой бронетанковый, да ведь все я катанула, стерва, всех этих гусят-поросят, сено, дрова, баню и огород вместе с картошкой на корню, и из колхоза выписала обоих и расчет по трудодням оформила…
– Играй барыню, а деньги где?
– Деньги ночью спят, сказали, завтра принесут.
– Так ты что, серьезно, что ли? Ну, у всякой у болезни бывает конец, ну бабью ж глупость и смерть неймет. Так вот завтра же, чуть свет, иди обратно по дворам, кому что продала, и отказывайся: за ночь, мол, передумали.
– Не передумаем. Ночная кукушка все равно дневную перекукует. Да я уж и срочную телеграмму Сашке туда отбила: приезжай за нами.
Сашка еще короче отсверкнулся «молнией»: «Еду!» И следом за «молнией» заявился сам на звероватой машине и увез их в Сев. Каз. обл. вместе всех со всякими сковородниками, ухватами, лопатами, с самоваром и самоварной трубой.
И Лежачий Камень зашевелился: если уж Семен с Шуркой со своим утиным выводком отважились кинуть все и уехать на целину – значит, есть смысл, а уж молодым да холостым и подавно само время велело поднимать и осваивать.
И не было таких лежачих камней, которых бы не разрушало течение времени.
Никогда не было.
Иван-да-Марья
Упоминая всуе и по-за глаз, их во всем Железном никто не называл иначе, как только сразу обоих и вместе: Иван-да-Марья. А чтобы располичить, о ком же из них конкретно оповещается, ту особу первой и ставили в связке.
Но чаще они фигурировали оба сразу.
– Слыхала? Краевы опять первое место заняли.
– По чему?
– По вспашке, не по гульбе же.
– А потому и занимают, что даже одну книжку читают в обнимку.
И хотя в этом крылся более глубокий корень наподобие того, что бедный духовно не создаст и ценностей материальных, на их общие интересы смотрели как на мирские, и неразлучность объяснялась привычкой сызмальства.
Вместе пасли зеленых гусят возле мельницы-ветрянки на одуванчиковом пригорке, встречали вечерами отяжелевших коров из табуна, играли по праздникам в одни игры.
Но когда и поженившись, сели они рядом за парту в ликвидацию неграмотности, было пересудов. И у баб, и у мужиков.
– Ну, Иван-да-Марья… До всякой нужды на пару.
– Что колышки в перевясле. Тоже, поди, уверовали в эту советскую любовь.
– А лучина с верой – чем не свеча?
И с той свечой – никуда друг без друга. Иван – на трактор, Мария – на плуг. Иван на комбайн – и Марья с ним. Иван в дальний командировочный рейс – и она в кабину его автомобиля грузчиком или экспедитором. И тогда не обходилось без скабрезных мужицких шуток, хотя и были моральные устои в Железном действительно железными.
И только однажды, ранней весной 1954 года, когда позвонили в Железное из райкома партии и попросили выделить грузовик, оборудованный для перевозки пассажиров, или, еще лучше, если бы автобус с первоклассным шофером, чтобы встретить на станции Петухово первоцелинников и отвезти их, куда укажут по карте, и ответственный этот рейс поручили коммунисту Ивану Краеву, не взял он с собой Машу.
– Ну, сама посуди: их человек шестьдесят, поди, не меньше. Да какие-никакие пожитки, не с одними ж они комсомольскими путевками едут, энтузиазм, он тоже без естества – ничто. Ну и куда я тебя посажу потом? На руль? Так автобус – не велосипед…
Слетал Иван не мигом, он не орел, и вернулся к полуночи лишь. И хотя и валилась у него за ужином ложка из рук, спать не ложились долго.
– Ой, не знаю, Маша, но никаких колхозников, по-моему, из них не получится. У одного спрашиваю, на чем хлеб растет, у другого – только плечами жмут. Ни у кого сображения не хватило сказать – на земле. Все на ней растет, начиная от одуванчика и кончая самой высокой травой… Фу, ты – горой! Как ее… Д-джомо-лунгма, вот.
– А не Эверест?
– Так это оно одно и то же. И вот ты веришь, показались мне эти целинники какими-то эвакуированными, каких к нам в войну привозили. И ведь ни один из них в железинской нашей Палестине не остался, все обратно в свои бердичевы да житомиры вернулись. И с этими как бы то же самое не произошло, вон какие они легкие на слова.
– Да ты не туда ли уж баранку крутишь?
– Совершенно буквально, Маша. Помогать им ехать надо. Ну, директор с агрономом, допустим, может, и отличат ячмень ото ржи, а остальные…
– Ехать так ехать. Я разве против?
В Железном был колхоз, идущий хотя и на убыль, но дать санкцию на выход из него все равно могло лишь правление, которое к тому времени тоже расползлось все, остался лишь один председатель, и тот пребывал на посту последние секунды, наперед зная, что вот-вот дадут им с председательшей по шапке за развал, колхоз переименуют в совхоз и пришлют нового директора, а поэтому с утра до вечера отсиживался в кабинете над заготовленным отчетом о положении дел на текущий момент с жирным минусом убытков в итоге и жег самосад, закоптив до черноты потолок над собой и лозунг сзади на стенке «Доешь целину!».
«С такими хозяевами доеди́м и целину», – бросился лозунг в глаза Ивану-да-Марье, едва они переступили порог.
– Никаких вам, голуби мои, высоких полетов. Тут тоже решено образовать целинный совхоз, и распоряжением сверху не велено никого никуда отпускать. Было бы оно у вас настоящее высокое сознание, может, и целину трогать еще не понадобилось бы. Так что пашите-ка лучше тут, где деды ваши и прадеды лежат.
Председатель воткнул в одно заявление указательный, в другое – средний пальцы, готовые подломиться и зажать подвернувшийся большой, но схулиганить до конца не посмел и долго смотрел и смотрел на влажные отпечатки, пока не испарился и не исчез их рисунок. А потом скомкал и бросил обе бумажки на пол.
– Все! Полную резолюцию наклал я на вас и на вашу писанину! – пыхнул он спиртовым пламенем.
Но и у Ивана глаза тоже как синь порох бывают. Редко, но бывают.
Супруги Краевы покинули родное Железное, попросив соседку, бабку добросовестную и шуструю на ногах, доблюсти за их домашностью и огородом.
– Ну, скатертью вам дорога, милые. Не беспокойтесь!
И пока Иван-да-Марья повернули в проулок к большаку, стояла она за воротами нового пятистенка, спрятав руки под фартук и покачивая головой то сверху вниз, то из стороны в сторону.
– Устиновна! – распахнулись створки в избе напротив. – Это куда это Иван-да-Марья наладились с кошелями ни свет ни заря? Не на базар в райвон?
– Кабы в район, а то землю Ханаанскую искать…
Теперь, спустя много лет, кажется нам, что каждый целинник был если не Цезарь, то Юлий, а уж Кай – обязательно, и все у них просто получалось: пришел, увидел и так далее. Не очень охотно ломала шапку перед ними целина. Плуги она ломала. Трактора ломала. Ломала характеры и судьбы. А шапку – нет. Особенно перед теми, которые являлись на целину сразу Цезарями.
Краевы, Иван-да-Марья, до Петухов, то есть до станции Петухово добрались на попутке, а до новоявленного совхоза и вовсе гужом валила всякая техника, все эти плуги, бороны, сеялки, веялки, инвентарь, инструмент, оборудование, щитовые дома, вагончики и строительные материалы, и сгружаемые с лесовозов широченные плахи, шлепаясь плашмя, стреляли, как пушки. Столько колес крутилось, гусениц лязгало, железа ворочалось, столько моторов кряхтело, столько сил лошадиных тянуло, везло и толкало, столько сердец колотилось людских. Меряли, копали, несли, пилили, тесали, укладывали, бегали с накладными, с ведомостями, со сводками, с чертежами, с путевками. В штатском, в армейском, при погонах еще и без погон уже, в комбинезонах, в тельняшках, голые по пояс. И все это показалось до того величественным и огромным, что Иван-да-Марья так и остались сидеть в кабине со своими тюками на коленях, как белозобые турманы, загнанные ястребом под чужую кровлю, и с опаской поглядывали на весь этот столпотворительный круговорот.
Директор узнал Краева сразу.
– Это не вы доставляли нашу первую партию сюда?
– Мы. Я то есть, – поправился Иван, непривычный к городскому обращению.
– И сами решили стать целинниками?
– Совершенно буквально, товарищ директор, такое мы приняли решение, не знаю, верное или нет.
– Ну, разумеется, верное. Давайте ваши комсомольские путевки.
– Да нет, нету у нас никаких ни путевок, ни сопроводиловок, мы надеялись, что вы и так нас примете. Ну, как бы по знакомству, что ли.
– Приму, конечно, приму. Давайте паспорта, давайте трудовые книжки.
– И их не имеем при себе, они у председателя нашего в столе под замком остались, на принцип пошел, не отдал.
– Так у вас что… Вообще никаких документов?
– Совершенно буквально.
– Ну-у-у, милые мои… Вы поймите меня правильно, товарищи, но я не желаю влипать в историю вместо того, чтобы попасть в нее… В смысле войти. Есть у кого из вас хоть какое-нибудь удостоверение личности? С фотокарточкой, без фотокарточки… Какое-нибудь! – начал терять власть над собой целинный директор.
Иван молчал, немилосердно мял и тискал в крупных руках картуз, забыв о том, что он «совершенно буквально» новый, а Мария назойливо щекотила его локтем под ребра и шептала:
– Есть же у тебя… Слышишь?
– Отстань. Этим документом зазря не трясут.
– Да партийный он, товарищ директор, – надломилась голосом Мария.
– Партийный? Так чего ж ты битый час уши мне тут шоркаешь, – вгорячах тыкнул директор. – А ну, предъявляйте!
Иван расправил на кулаках измятый картуз, закинул его на макушку, расстегнул пиджак, свесив левое плечо, поставил парусом полу пиджака, открыв доступ к внутреннему карману, застегнутому на пуговицу и на две английские булавки. С пуговицей справился сравнительно скоро, с булавками – ну никак! Подклад саржевый, пальцы дубовые, булавки малюсенькие, и все такое скользкое…
– Вот теперь совсем другой разговор пойдет, – вернул директор партийный билет, – эта основа понадежней. Специальности имеете еще какие-нибудь?
На тракториста, шофера и комбайнера Краев истратил всего один большой палец, но и при таком экономном расходовании их на руке не хватило: плотник, столяр, кузнец, каменщик, слесарь, жестянщик, гончар, печник…
– Печник? И русские печи класть умеете? Вот это вот совсем то, что нужно.
Казалось бы, освоение целинных и залежных земель – самый подходящий момент для стирания граней между городом и деревней, основная масса целинников – горожане, плохо представляющие зачастую, что такое сельская жизнь, и чего бы проще построить многоэтажные коробки, подвести к ним холодную и горячую воду, положить кое-какой и кое-где асфальт, поставить посреди дворов столы для игры в домино – и даешь агрогород!
Ни у кого ни скотинки, ни животинки. Газеты перечитал – смотри телевизор. Красота! Но как раз поэтому-то, что сочли тогда за анахронизм личные подсобные хозяйства, и поворачивали оглобли назад даже самые завзятые энтузиасты.
И когда начали не досчитываться вечерами в палатках и вагончиках и здесь кого-нибудь, пришли к директору Иван-да-Марья, которых, им самим на удивление, и на новом месте звали так же вкупе, как в Железном, хотя ни оттуда никого больше не было, ни отсюда туда не ездил никто.
– Срочно давайте грузовик перевозиться нам.
– А что случилось?
– Деревней у нас тут не пахнет, вот что. Лагерь какой-то переселенческий. Обратная тяга намечается, совершенно буквально. Заместо убегших, конечно, новых добровольцев пришлют, да земле, как порядочной вдове, постоянный мужик нужен, не поночевщики, сегодня – один, завтра – другой.
– Будет вам к вечеру машина, – согласился директор с таким доводом.
Протрубил серебристый зубр на капоте мотора, укатилась в степь усталая машина, укатилось за край земли усталое старое солнце, и кончился день.
Толкошилась над дорогой мошкара. С желтых круговин измельченного в труху конского навоза в панике разбрызгивалась на коротких слюдяных крылышках саранча. Падала. Кувыркалась. Карабкалась. Изворачивалась торопливо и неуклюже. Остроугольно ставила голенастые задние лапки для очередного прыжка, но, ослепленная фарами, цепенела и пропадала из виду между колес.
– Да хоть бы уж он наладился, дождичек этот, смягчил землю, а то ведь, разговор идет, посуху собираются эпопею начинать. Плуги только изнахратят да сцепления сожгут, а достигнуть ничего не достигнут, – начал было Иван, но животрепещущую тему эту не поддержала даже Мария, занятая своими думами.
Километров за десять до Железного Краев запросил у водителя руля, и тот, наслышанный о нем как о маракующем по жести и делающем для мерзнущих по ночам буржуйки, долго и косо смотрел на жестянщика, не принял ли он ходовую мзду за очередное изделие.
– Четырнадцатый уж ведь час ты за баранкой. Да есть, есть у меня пра… Маша! У меня ж шоферские права при себе тогда были…
– Из ума обоих нас вышибло, вот и полезли.
Права шофера первого класса, выданные 22 июня 1941 года, не удивили ничуть, но технический талон образца 1930-го и притом без единой дырки паренек вертел в руках долго.
– Так, выходит, вы за рулем уж больше лет, чем я вообще живу?
Въехали в Железное, и дорога едва ползла по узенькой улочке деревушечки. Иван то выжимал, то отпускал педаль сцепления и не переставая мучил баранку. МАЗ нервничал, злился на тесноту, на рытвины, на черепаший ход, дергался, чихал мотором от куч золы, дико сверкал фарами, просвечивая насквозь домишки под камышовыми крышами то левого порядка, то правого, то упирался рогами буфера в какой-нибудь хлев и тут уж вовсе готов был разнести его по жердочкам. В окнах колыхались, ползли на ниточках и щекотливо морщились ситцевые задергушки, из-под воротен высовывались заспанные морды собак.
– Дом не проскочи, водитель…
Иван вылез на подножку. Их пятистенок, каждое бревнышко в котором было, как родное дите, вынянчено, выпестовано и пристроено к жизни, незряче пучился мимо него горничными окнами в бельмах коленкоровых занавесок.
– А что это наша домовница нас не встречает? Устиновна!
В кухонной половине вспыхнула спичка, заоранжевел фитиль жирника, прошаркали на крыльцо подшитые ремнем валяные обутки.
– Ихто там?
– Мы, мы, бабушка, отворяйся.
– А я уж, грешница, думала, сгинули вы, ни слуху ни духу. Вон ее скоко, амнистии, сказывают, распустили с этой целиной. Живеньки, значит. Совсем назадь возвернулись?
– За скарбом, за скарбом, переезжаем.
– А-а-а, гляди-ка ты. Притулились-таки к какой-то широкой спине.
– Ну к какой… К земле. Притулились. Устиновна… Ты бы это… Пока мы таскаемся, не пожарила рыбки? В подполе в ямке. Пожарь.
– А рыбка вся, Ваня.
– Ну и жарь всю, мы с обеда не евши… То есть как вся?
– А вот так, попользовалась окаянная душа. Думала, уж и не явитесь вы. Ладно, слетаю тогда в свою конуру за яичками.
Перекусив на скорую руку, погрузку решили начать с коровы, но шофер запротестовал:
– Да ну, что вы! Втроем нам ее в кузов не засадить. Или соседей на помощь зовите, или пусть кто-нибудь из вас остается и своим ходом гонит.
А коровка, узнав по голосам хозяев, уже помыкивала в деннике, шатала жидкие колышки загородки, норовила поддеть рогом заворину, и, когда выпустила ее Мария, доенка и вправду сама «взошла» за ней в кузов по снятым с петель дощатым воротам пригона.
– Вот умница. Ваня! Тащи свой верстак, отгородим.
Грузились долго: темень, машина высокая. Пока подашь, пока примешь, барахла всякого набралось много, и чего бы не коснулся, всего жалко, все трудом нажитое, все в хозяйстве пригодится. Особенно там, на новом жительстве, до того голом и гладком – хоть шаром покати. И все уместилось. Вся мебель и обстановка, кухонная утварь и живая домашняя тварь, все эти чугуны, тазы, корыта, сковородки, кадки, клетка с курами, точило, гончарный круг, кросна, воробы, шаражистый «козел» для пилки дров и еще с кубометр прошлогоднего кизяку. Кухонный стол, скамейка, нож и коробок спичек по неписаному закону оставлялись при доме.
– Ну… в добрый час, путешефственники. Ладно – одни, а дети были бы, что бы они из вашего шатанья извлекли? Ересь. Да мыслимое ли дело родину покидать. Ой, ой, ой, стойте! Документы ведь вам Храмцов возвернул.
Устиновна ринулась от кабины на крыльцо, без запинки сосчитала все ступеньки и тем же числом их спустилась обратно, неся перед собой паспорта и трудовые книжки, как крестное целование.
– И пусть, говорит, извинят меня Иван-да-Марья и не злопамятствуют, как-никак по одной борозде, говорит, ходили.
– Да-да, мы с плугом, он с кнутиком. У тебя листика чистой бумажки и карандашика не найдется? Спишь, что ли? – тронул Иван шофера за плечо.
– Зачем вам? – смахнул сладкую слюнку с подбородка и потянулся сморенный сном товарищ водитель. Достал из бардачка блокнот с авторучкой, подает.
– Знаешь, Маша, что я придумал? Чем нам возиться с ним перетаскивать, давай отпишем колхозу дом.
– Отписывай. Тебе не жалко – мне вовсе.
Как не жалко – жалко. Обоим жалко: свое.
– Маш! А председатель с которой буквой был, не помнишь? Храм-цов или – Хром-цов?
– Храм – это храм, а чем колхоз при нем стал?
– О! Совершенно буквально, Хромцов, значит. Маша! А завещание… «е» или «и»?
– Ну, что за мужик у меня… Целых три класса ликбеза – и собственный дом в дар родному колхозу грамотно преподнести не может. Да через «е»! Вещь, весть, завёсть. А с зависти пусть он сохнет.
Против председательского особняка Иван попросил притормозить, вывалился в дверку и проскрипел крышкой старого умывальника, приспособленного под почтовый ящик.
И все. Прощай, Железное!
И запел поутру среди древней дремучей степи голосистый петух. Всходило солнце, синело небо, белели палатки, паслась корова и пел петух. Пел, как на хлеб зарабатывал: чисто и честно. Пел, не зная настоящей цены себе. Он был и живым лозунгом, и живым плакатом. И люди, выбираясь из палаток, искали его жаждущими жизни глазами и, отыскав, улыбались. И осторожно, чтобы не спугнуть его и его песню, подходили ближе к машине с опустевшим курятником в кузове, но петух и не думал пугаться, он считал крышу кабины своей крышей и пел свою песню.
Слушай, степь. Слушай и оживай.








