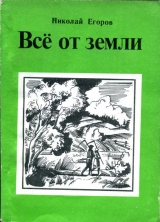
Текст книги "Всё от земли"
Автор книги: Николай Егоров
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Лошади рыбу не едят
Четвертую весну затаенно, из последних сил ждали конца войны, но когда он наступит, не дано было знать никому, и неумолимый лозунг «Все для фронта, все для победы!» до салютных залпов сурово и обыденно висел над каждым станком, над каждым крестьянским возом, над каждой головой. Аховое время – война.
И, отчаявшись перемочь это время и выжить, пришел и Ваня Потапов к директору рыбзавода с заявлением.
– Да миленький ты мой, да напринимала уж я вас, больше некуда, – не читая, положила перед собой бумажку женщина-директор. – И рыбак – работа взрослая, невод – не удочка. Годков-то хоть сколько нам?
– …надцать, – проглотил парнишка первый слог, и соврать не смея, и не решаясь сказать правду несовершенных лет своих.
– Надцать, надцать… Ну что мне с тобой делать? – И повернула к себе заявление. – «Прошу принять в какую-нибудь артель, так как чтобы… не умереть с голоду».
Состонала по-бабьи, задохнулась и прикрыла хрустким листком дрогнувшие губы, сдерживая непосильную жалость.
– Ладно, беги к дедушке Максиму, пусть к себе в бригаду коноводом зачислит. И дополучит на тебя, что по норме положено. Понял? Так и передай: я велела. Беги, а то не застанешь.
На календарях исходил на нет апрель. Солнышко ленилось вставать, и мозглый морозец глумливо защипывал носы, выдавливая из них светлые капли. Несло поземку. Перепадал снежок. К ночи стужа, ветер и снегопад усиливались, и метель с бураном до утра крутили холодную любовь. Ни в сети, ни в невод даже хозяйскому коту полакомиться не попадало ни рыбешки, и артельные квартиранты, спосылав вниз по матушке по Волге туды такой промысел и всю небесную и земную канцелярию, повально долускивали вместо семечек конскую пайку овса, разбавляя пожиже тягучую скуку побывальщинами.
– Но-ка, давайте спать, растрепались, – на самом смаке перебил бригадир очередного рассказчика.
– А ты мне рот не загораживай, командир выискался. Тут не армия тебе, распоряжаться «подъем», «отбой».
– Спать, сказал. Завтра, чуть свет, на Алабугу двинем. Ни процента плана еще не дали – и похохатывают, нигде у них не свербит.
– Ты зато в коросту весь изодрался, загонял уж по этим озерам.
– Ну, повякай, повякай, заводь один будешь рубить.
Это считалось страшней войны, и в притихшей избенке мигом потух свет.
Тонкий и серый и твердый, как мрамор, наст на голых равнинках свободно держал подтощавших лошадей. Кованные полосовым железом полозья оставляли едва заметный чиркающий след, и рыбацкий обоз, короб к коробу, с посвистом и гиком лавинно катился широким фронтом, срезая окольный путь.
– Партизаны. Ох, и партизаны. Совсем облесели, язви их, – ворчал Максим, грозя кому кулаком, кому пальцем. – Агафон! Я тебе дам, Хоттабыч. Кому сказал, положи кнут! Ишь, развоевался участник Куликовской битвы.
Мертвенно синюшное озерко с мелкую тарелку еще и щетинилось жухлым камышком вдоль кочковатого берега и поэтому вовсе казалось болотиной, промерзшей до дна, но дед-бригадир уверенно вышагнул из персональной кошевки, сунул кирку за опояску, выпростал и кинул на плечо пешню.
– Все. Приехали. Ваня! Распрягай, сынок, начинай помаленьку. Распрягай, корми, готовь стан. Остальные – за мной. С инструментом.
– Так что… это и есть Алабуга? Ну и лужа…
– Да кобыла больше напрудит. А ты не ошибся, товарищ рыбный нарком? Похоже, тут вовсе никакой путины ждать нечего.
– Вам, может, и нечего, а у меня отсюда их две, этих самых путины: либо – на плаху, либо – на икону.
– Тогда уж просись на малую: за большой иконой больше грешат.
А лед не давался. Набухший и вязкий, он только белел вокруг острия пешни. От тупых и бесполезных ударов сушило суставы, подкашивались ноги, немела душа и безвольно опускались дрожащие руки. И провались он, этот план, которого не дано пока ни процента.
– Досидитесь, ой, кажется, досидитесь, наставлю всем по прогулу, – пробовал уж и стращать их бригадир.
– Да ставь хоть по два!
Высокая сознательность у бригады проявилась вдруг и без всякой политподготовки, когда счерпали крошево с проруби и из воды лупоглазо уставилась на них скуластая морда килограммового окуня-горбача с раскрытой от удивления розовой пастью.
– Живем. Есть рыба.
Да, невод шел с большой рыбой. И каким-то удивительным чутьем чуя это, из еле видимой деревушки пробирались к рыбакам ребятишки, кто с котелком, кто с миской. Подходили. Столбенели, как вкопанные, и не мигаючи зарились на треугольник выводной проруби, из которой тянулись, тянулись и тянулись крылья невода с застрявшей в ячейках мелочью, а суматошный дед в шапке набекрень бухал, как заводной, надтреснутым ботом, пока не закипела вода от кишащей рыбы.
– Агафон! Тащи сюда уши.
– По секрету, что ли? – неторопко подошел к бригадиру Агафон, важничая как самый старший по возрасту.
– Да секрета особого нет, но говорящий – сеет, слушающий – жнет, а жнецов тут вон сколько, – кивнул на ребятишек. – Навыбирай, какая покрупнее, полный мешок – и на моей кошеве езжай в деревню. Понял?
– А как же: доразу. Провианту баш на баш выменять.
– Да, борода у тебя – хоть в патриархи всея Руси, а ум – псаломщика. Провианту у нас теперь вон сколько, да лошади ж рыбу не едят, их сеном или овсом кормить надо. Теперь понял?
Проездил Агафон до вечера, но вернулся ни с чем.
– Сами соломой с пригонов тянут, пропади она пропадом и весна такая! Решай, Максим. Ой, решай, ты бригадир.
– Решение одно: ехать. Лошади запряжены, рыба в коробах. Обратно в озеро не выпустишь. И на лед вывалить – голову снимут, если дознаются. Так ничего и не добыл?
– Да… С ведро картошки и отрубей вот мешок у председателя колхоза ихнего. А сена так и не дал, холера.
– Деда Максим, деда Максим! Да скорее сюда, дедушка-а-а, – по-детски взахлеб заплакал на своем возу коновод Ваня Потапов.
– Чего ты? Чего там еще?!
– Лысуха жеребится. Прямо в оглоблях…
– Тьфу, пропасть, приспичило ей. Распрягай! Все распрягайте. Все!
Жеребеночек родился весь в мать. И мастью, и коленкорово-белым рисунком во всю мордочку от лба до ноздрей.
– Это ж надо было так лить и капать природе! – дивился присутствующий при факте Максим, обнаруживая новое сходство.
Дождался, когда мать обиходит сына, помог подняться на слабенькие ножки, подтолкнул к вымени. Но оно было пустое. Жеребеночек сунулся к соску, сунулся к другому, сердито крутнул хвостиком, поддал вымя мордочкой и, не устояв, ткнулся передними коленочками в подталый снег и обреченно лег плашмя, судорожно вздрагивая всем тельцем.
– Да чтоб ему ни дна, ни покрышки, этому Гитлеру! И животные от него по всей России страдают.
К костру Максим вернулся, не глядя ни на кого.
– Вот что, мужики… Слушать сюда всем! Выдраить с песком казаны из-под ухи, чтобы рыбьим духом и не пахло. Это раз. Два: у кого есть ножи – резать, у кого нет – руками рвать камыш и траву по кустам, мельчить и запаривать с отрубями. Сам сдохну, а ни плану, ни коням, ни жеребеночку новорожденному погинуть не дам. Невод и прочую прихиметрию отвезти и сдать на хранение под расписку председателю колхоза – три. И собрание считаю закрытым.
Обоз тронулся за полночь. Битым стеклом неровно поблескивали звезды. Зависла в зените сплюснутая луна. Похрустывал наст. Дорога перевалила через угор и вызмеилась на равнину. Почуяв обратный путь, воспрянули духом и ходко заперебирали ногами накормленные кони. Подремывали рыбаки на рыбе, прикрытой пологами. Наканифоленно поскрипывали полозья. Слюденисто лоснился след.
– Максим! А, Максим…
– Ну.
– Лысая отстала.
– Сосунка кормит…
– А-а-а, ага. А вдруг – волки. А там один мальчонка. Послал бы кого-то еще к нему.
– Вот ты и ступай.
Агафон покряхтел и кособоко, по-рачьи, пополз с воза, но одеревеневшие в тяжелых пимах с бахилами ноги никак не обретали точку опоры и безвольно волочились за санями, рискуя оказаться босыми.
– Максим, разуваюсь! Ой, слезть не могу… Ой!
– Ну, чучело огородное! Ладно, заскребайся обратно, сам пойду.
Обоз они настигли на голом, как бычий череп, увале. Нещадно жарило солнце, и окованные железом полозья до земли прорезали раскисший наст. От коробов валил пар. Дымились, вздрагивали, оседали задами и обреченно стонали под ударами лошади, и на мокрых крупах их жутко темнели саднящие полосы. И чтобы избавиться от этой нестерпимой нечеловеческой кары, они взбугривали хребтистые спины, подгибали передние ноги, втыкая копыта, обрамленные серебром стертых подков, и всей тушей валились вперед, силясь стронуть с места прикипевший воз, но только падали на колени и часто моргали ресницами, будто сдерживая копящуюся слезу.
– Не сме-е-еть, сволочи, изуверы!!! – метался от подводы к подводе Максим, вырывая из рук и хряпая о что подвернется кнутовища и прутья. – Не сметь бить животную! Не сметь! Не сметь! Не сметь!!! – остервенело хлестал он самого возницу, мерин которого уже хрипел и еле стоял, готовый вот-вот завалиться. – Ты за что его лупишь? Ты за что, паразит, его лупишь? За что? За то, что он возил тебя, гада? За то, что с этой войной он вкус овса забыл, его овес ты жрал? У-у, скотина! Хуже скотины!..
Дед Максим закашлялся и полез за кисетом в тесный карман ватника, но рука не слушалась и тыкалась куда-то не туда, и старик опомнился только после того, как залез в ширинку.
– Тот табак не курят, нюхают, – хохотнул кто-то.
– С вами нюхнешь, пожалуй…
И бригадирский гнев схлынул.
– Ну, и до нас дошло, развоевались Аники. А ведь как-то не так живой мир устроен, не ладно. Что по природе в звере должно быть, того, наоборот, в человеке больше. Изведет он когда-нибудь и бессловесную тварь, и сам себя.
– Это почему?
– Шибко разумен потому что. Ну-ка скажи им, Агафон, ты воочию видел, каким оружием при Александре Невском воевали, и сравните, каким теперь воюют.
Агафон тут с его девятым десятком лет на исходе был примазан как шуточная аллегория, но иносказания не получилось, и артель, понурясь, только вздыхала и дакала.
– А теперь за дело, мужички, – бросил Максим окурок в лужицу. – Будем соображать пристяжь, выберем пару коней помогутней и по очереди все возы вон в тот ельничек. В засенку. Солнопек переждем и с потемками по приморозку двинем дальше.
В ельнике веяло холодком, но бригадир, по-собачьи дотошно обнюхав каждый короб, немилосердно расталкивал спящих, кого где сморило после янтарно густой ухи.
– Ну что ты за изверг, Макся? А? Ну дай вздремнуть хоть часок.
– В гробу надремлешься. Люди, может, и простят нам – мы себе не простим, если столько еды загубим. Лучше лечь костьми, чем кануть в Лету. Из пепла встать, а короба засыпать снегом. И с боков и с верхов. Рыбой припахивать начинает.
– А чем она, мясом, что ли, должна припахивать?
– Тюрьмой, туды вашу в корень!..
Засыпанные снегом короба походили на могильные курганы с нелепо торчащими из них оглоблями.
– Всяких погостов повидал на веку, а чтобы такой – впервые. Господи, прости ты мою душу грешную, – снял шапку и перекрестился дед Агафон. – Хороним, дабы сохранить. Доездились.
Кони доедали последние отруби в казанах.
Начались леса, и между ними санная дорога еще держалась, но на рассвете, когда над горизонтом заотсвечивали победно маковки каслинских церквей и дед Максим водрузил над передним возом поблекшее за долгий волок алое полотнище с буквами, писанными зубным порошком на молоке, – «Тыл – фронту», – лег позади саней, вконец обессилев, буланый жеребенок с белой мордочкой. И кобылица-мать, призывно и тревожно проржав и не дождавшись ответа, остановилась. Широко расставила ноги. Опустила скуластую голову. И из-под длинных черных ресниц, казалось, вот-вот покатятся крупные лошадиные слезы.
– Да матушка ты моя, дитенок твой там… Дитенок. – Гладил ей мокрую холодную шею дед Максим. – Не можешь ты бросить его, не можешь. Ах, животная ты, животная. Ой, ну что делать?
– Дедушка Максим! А давайте на руках жеребеночка понесем, он легкий.
– Бегу, бегу, Ваня. Эй! Впереди там. Ну-ка еще кто-нибудь сюда.
Максим вылупился из полушубка, продел полу под жеребеночка, ее тут же подхватили с той стороны, другую – с этой, мягко подняли и понесли следом за тронувшимся обозом. Кобылица вскинула голову, потянула воздух ноздрями и замоталась из стороны в сторону, сшевеливая кованные железом полозья.
– Да, – рассуждал Максим, шагая обочь с лошадью, – у всякой другой силы есть предел, сила материнская лишь, видимо, неизмерима, как мир.
Жеребенка поочередно несли перед матерью, и кобыла везла. Везла под гору, везла в гору. Везла по насту и по земле. Везла по стекольчатой от стылых лужиц улочке городка, на той окраине которого был конец всего пути. И не поэтому ли все углы и крыши домов красны от флагов, поют, смеются и плачут люди и пляшут под гармошки?
– Это какой же они праздник справляют в третье число мая? – недоумевали обозники.
– Можете убирать, – подсела под головную подводу разнаряженная молодица и выдернула из уключин древки полотнища «Тыл – фронту». – Да вы что? С того свету, что ли? Наши Берлин взяли!
И, повалив на спину всхлипнувшего бригадира, принялась целовать его в обветренные губы.
Ефим Губерния
У сельских на всякое диво не долгие ахи. Примелькался красный флаг над колокольней, колхоз, коровьи упряжки, трудодни, тракторы. И только к земле да к мужику этому от роду своему деревенскому не пропадал интерес до веку.
– Э… Э! Гляньте-кось, кто идет…
– О-о, Ефим Губерния.
Прозвище дали еще тогда, когда сельские Советы назывались волостями, район – уездом, область – губернией, и Тобольская о ту пору занимала чуть ли не всю Западную Сибирь, и Ефим с его аршином в плечах и тремя с четвертью в росте, что соответствовало семидесяти одному и двумстам тридцати одному сантиметру, иначе и не мог быть потитулован, как тоже самый большой в России по убеждению односельчан.
– И как же его мать рожала? – задрав головы, гадали мимоезжие из дальних.
Родился Ефим с пестик, со ступку не в кого было. Весь их род плодился густо и поэтому, наверно, до того мелкий, что прозывался Копылятами, а этот отпрыск лет с двенадцати вдруг прорезался и попер ввысь, за год перерос тятьку и не успел еще приучить себя нагибаться под палатным брусом, как подпер уже потолок. Да три лета кряду и пластался Гриша Копыленок, осаживая пол. И напоследок до того подслеповато прищурились оконца где-то там под, под, под потолком, что тленом пахнуло.
– И туды ж его мать и в дите такое. Ладил терем, вышел склеп.
Но этот предел и в аршинах, и в сантиметрах когда-никогда наступил, не будет, казалось, предела силе его ни в старых, ни в новых мерах.
Приподнимал угол амбара и засовывал между бревен чью-нибудь шапку – «вынай». На спор с проезжим подлезал под брюхо и отрывал от земли его лошадь, все четыре копыта болтались. Под мышками по жернову, о девяти пудов каждый, без роздыху влезал по шаткой лесенке на мельницу-ветрянку. В колчаковщину подрядился обществу обоз с зерном до станции Голышманово сопроводить, пошаливали с кистенями по дорогам, попутно трех красноармейцев от верной смерти спас, белые за их дрезиной гнались, а какая-то сволочь перевела стрелку на путь с вагонными, с паровозными ли колесными парами, недосуг было разглядывать и сличать, скорей-скорей переставил их на рельсы – удрали ребята.
Ни в бабки, ни в городки играть его, конечно, не принимали: кон разметал – не соберешь, от городков – от тех вовсе одни занозы оставались. Зато в лапту, когда край на край, Ефима чуть ли не на божницу садили, приберегая бить только на выручках: раз махнет, промажет, два, но если зацепит в третий – мяч улетал насовсем. Да что – мяч. Учебную осоавиахимовскую гранату на пробу метнул в тысяча девятьсот двадцать седьмом году – до сорок первого найти не могли.
Но в самую силу Губерния вошел и не знал, как пособиться с ней, в тридцать первом и, когда обрекли церковь под склад, один повыдирал кресты из маковок и колокольни, заарканивая связкой ременных вожжей, конфискованных у кулаков.
– Ну что, поп? – похлопал его по вздрагивающей спине уполномоченный из района. – Кончилась ваша служба?!
– Зато ваша только начинается. Излишество сие, а всякое излишество – во вред.
То же самое, но гораздо раньше и куда более к месту, высказал Гриша Копыленок после того, как сынок «управился» с картошкой на огороде: сколько выкопал, столько ж и обратно зарыл, выворачивая гнезда до глины.
– Фимка, Фимка… Никакого проку от тебя, окромя изъяну. Немощь от мощи. Помру – и петух на моем подворье не пропоет.
И с тех пор на дух не допускал к земле: земля – не каменоломня.
Умер Копыленок где-то перед коллективизацией, успев сфотографироваться на память всей семьей. И так уж ему не хотелось выглядеть потом шибко маленьким по сравнению с отпрыском, что и себя, и Лукерью замаял, и залетного фотографа. Если сын сидя, родители стоя – неуважительно, наоборот – вовсе мелкие они.
– А ты… Слышь, мужик… Ты посади их обоих себе на колени.
– Не скалься, умный больно. Ишо, може, скажешь, по ложке нам в руки взять.
Ломали, ломали позу – выломили: все стоя, но родители на табуретках. Мать – ладно, она женщина, а отец и в чапаевской папахе все равно сыночку только до плеча.
– Во по сех, по сех сымай, – шаркал себя Григорий по ребрам, напоминая фотографу условие.
– Да, да, конечно, – а сам заснял всю панораму, наштамповал чемодан и курсировал в поездах, предлагая пассажирам по рублю за копию.
И ведь что придумал, стервец: подпись «Гибрид». Брали нарасхват.
Осиротел Ефим на посевную и, едва предав родителя его земле, выехал на свою со всем инвентарем и семенами.
– Ну, давай помогай, – осенился он крестом во все небо, начиная первую в жизни борозду.
И последнюю. Поневоле налегая многопудовой тушей на чапиги, лаженные под отца, так всаживал плуг, что лошадешки выдыхались на каждом шагу и подолгу водили боками в ошметьях пены. Перепряг в соху – хрупнула, как лучинка.
К вечеру, мать еще коровку не подоила, хлебороб заявился обратно и насовсем. С дегтярным туесом, с казаном, с мешками, с плугом, с боронами и поверх всего с останками сохи на растопку.
– Скорехонько ты отсеялся, сынок. – И часто-часто затенькал подойник от капающих в него слез.
– Не реви. Я, да кусок хлеба не заработаю…
Но в работники Губернию не брали.
– Не-е, не туда комлем твоя сила лежит. Твой же отец-покойничек, бывало, говаривал: крестьянский двор – не каменоломня.
Промотал тягло, забросил пашню – и отпел петух на его ограде. Всё от земли. Записался в колхоз – колхозную лошадь кончал, выплачивал потом за нее по суду. И не так, чтобы очень и пожурил за норов кулаком промежду ушей – убил. Гусеничные тракторы в МТС пригнали – сел на плуг и напахал, до сих пор на том поле урожаю нема.
Женился Ефим бородатым уже. Местные и на порог сватов от него не пускали, у невест из округи тоже охотка замуж пропадала после первых же смотрин, у женишка колотушки по горшку. И вдруг соседская Морька-недомерок сама запросилась за него. И личиком как базарная кукла, и подержаться было за что, но… не Ефиму.
– Не дури, – отговаривали сородичи. – Тебе ж и спать с ним придется, а в орясине этой полтора центнера весу.
– Ну и что? Мышь копной не задавишь.
Только поженились – война. Война кончилась – праздники пошли. И чем дальше, тем больше. Ко всеобщим по красным числам присовокуплялись дни родов войск, дни работников, крещение, рождество, масленица, благовещение, пасха, дни святых апостолов и великомучениц, дни получки, не говоря уж о свадьбах, поминках, юбилеях и просто о днях рождения и крестинах. Спичкой чиркнуть опасно было, все синим пламенем возьмется. А в троицу и подавно массовое гуляние по деревням, приуроченное к окончанию весенне-полевых работ.
И являются к Ефиму накануне Еранька Григоров с Васей Долиным. Еранька – ветер, а Вася ох ушлый мужик был. В гражданскую так подстроил, что дьякона, выдавшего белым сельсоветчиков, белые ж и застрелили. Раздобыл самогонку, напоил доносчика в усмерть, намалевал вареной свеклой звезду на лысине и домой. И вот они, беляки, снова нагрянули. Залетают к дьякону – красный спит за столом. Шлеп по звезде из маузера – и даже не дрыгнулся.
Что он тут замыслил – трудно сказать, но слово по слову и Ефиму залез под шкуру: силач, дескать, ты средненький, а вот мой прадед – тот да, тот из могилы вылезал.
– Так и я вылезу. Ставите по бутылке?
– Ставим. А не вылезешь?
– Я вам.
– А на том свете не продают, так что давайте купим четыре и разопьем потом на троих.
– Илибо на двоих, – подвел черту под спором Еранька.
Копали без роздыха: июньская ночь коротка, а до свидетелей желательно управиться. Копал, собственно, один Ефим Губерния, те двое руководили.
– Идет дело, – разогнувшись, смерял он собой глубину.
– Ага, совсем к концу идет. Вот кино токо некому снимать, как русский мужик сам себе могилу роет с этим зельем.
– Да ну-у… Если уж немец нас не одолел – бутылка не одолеет. Ладно, вы тут подчищайте, я за домовиной пошел.
Для домовины присмотрели на конном дворе кормушку из вершковых досок, сколоченную четвертными гвоздями. Распилили пополам – в аккурат. Одну половину скинули, другую, спрыгнув, Снял с края живой покойник и:
– Все! Накрылся. Можете засыпать!
– Ефим! А ведь ты первый, кто командует собственными похоронами. Про прадеда я наврал, при нем до такого не допива…
– Первый, говоришь? Тогда вовсе засыпай. – Полежал там, подумал, кто же из них в дураках оказался, и решил, что Васька. – Долин! А ведь дурак-то ты!! Нет, не дурак – завистник.
– А вот завистники только и хоронят заживо умных.
Но этого Губерния уже не расслышал. Он вдруг вспомнил, что никакого сигнала не предусмотрено, когда начинать, полезь раньше времени – скажут, проспорил.
– Ладно, подожду, пока дышится.
А наверху там вставало солнце, на конотопистой дорожке к кладбищу появлялись люди, торопились Григоров и Долин зарыть могилу хотя бы вровень с краями.
– Васька, бежим, старух вон леший несет. Не вылезет Губерния – тюрьма нам: задохнется – и откопать не успеем.
Похватали инструмент, кошелку с водкой – и как тетерева по кустам, а старушки с кузовками и котомками в руках божьими коровками вползали вереницей в кладбищенскую калитку, замечали свежую землю и, переглядываясь, грудились у незавершенной могилы.
– Это чья ж такая брошенная, вчера не было ее.
– Была, не ночью ж хоронили, ночью только ведьмы чертей в колодах хоронят.
И вспучилась и разверзлась земля, обнажив эту самую чертову колоду, дружно ухнули и окрепли ногами бабульки, бросая костыльки и перемахивая через барьер ограды. И нигде никого.
И отдыхая после сиюминутного того света, Ефим Губерния по-детски улыбчиво радовался вечному этому, воспринимая и само кладбище не как мертвое царство, а как царство живое.
– Эх, надо было со всей деревней поспорить…
О чем?








