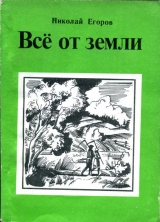
Текст книги "Всё от земли"
Автор книги: Николай Егоров
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Какого Федьку? Федор Яковлевич есть, у нас, так он не временно, он давно у нас работает.
– Та мы ж договаривались! Вспомни. По первому требо…
– Забыл, Спиридон Федорович, – бесстыдно улыбался Андрей Петрович. – А нужен тебе шофер – посылай на курсы своего человека за наш счет. Можешь даже двоих.
Перехитрил директор председателя, заполучив так вот легко и просто механизатора широкого профиля. Одного из первых, если не самого первого в Варненском районе. И необходимость на таких специалистов росла с каждым днем. И когда перевели Андрея Петровича Ковалева председателем райисполкома в Чесму, попробовал он сагитировать и Чеколовца поехать с ним:
– Подумай, Федор Яковлевич. Хорошенько подумай. Не обижу.
– Да при чем тут «обижу, не обижу». Председатели исполкомов сегодня один, завтра другой, а земля, она и послезавтра землей останется. Я на ней вырос. Тут семья у меня, родители. Нет, не поеду я с вами.
Приходили и уходили директора совхоза, а шофер, тракторист, комбайнер, слесарь-электрик Чеколовец оставался.
– О городских не скажу, а сельские мы и умирать должны на той земле, на какой родились и выросли. Тогда еще, может быть, и получится от нас какая-то польза, – отказался он и от заманчивой перспективы стать жителем областного центра.
Переводят сельских специалистов, переводят. Будто конторой районного масштаба заведовать труднее и важнее, чем пахать и сеять. Да поймут ли когда-нибудь, что человек – не дерево, оно и то трудно приживается на другой почве. И это при бережной пересадке. А главных специалистов сельского хозяйства рвут с корнями.
Дольше всех, пожалуй, упирался в директорском кресле Василий Калинович Овсяницкий. Лет пятнадцать. Но вытащили и его из этого кресла и пересадили по заведенному шаблону в кресло председателя РИКа. Продвинули вперед и вверх. Как самолеты взлетают. Но взлетом это не называют, называют повышением. И, чувствуя, что теряет он квалификацию как специалист, повозвышался с год Василий Калинович и спланировал оттуда из Варны обратно в свой Варненский совхоз.
– Что, Василий Калинович? Народу не услужили или…
– А, ну их, и с такой должностью, и с работой такой! – радуясь возвращению, разулыбался Овсяницкий. – Здесь я поднялся на ноги в пять часов утра – и уже на людях, а там придешь к девяти ноль-ноль – и поздороваться не с кем.
Недомогал и прихварывал бывший флотский наводчик носового орудия на крейсере «Аврора»: сказывались войны и возраст.
Ныли к непогоде кости и ломило в суставах у его сыновей Федора, Михаила и Петра, испрострелянных, испростуженных, наголодавшихся.
Федор с Петром не писали заявлений с просьбой направить их по комсомольской путевке на целину. Не потому, что вышли они из комсомольского возраста (тридцать, тридцать четыре года – не возраст, пятидесятилетние приходили в райкомы и горкомы). Федор с Петром просто не покидали этих целинных и залежных, приехав на них со своими родителями по спецвербовке еще в 1929 году.
Шло время, ширились поля в погоне за теми урожаями, девятый вал которых вспенивался реже, чем через восемь лет, в остальные годы – легкая зыбь, от которой у одних рябило в глазах, других укачивало и усыпляло, третьих обескураживало и пугало, потому что с каждым годом все острее и острее ощущался дефицит зерноуборочной техники, и с юга на Урал и в Сибирь шли эшелоны с комбайнами и автомобилями. И в Казахстан, на его 24 миллиона гектаров поднятых целинных и залежных земель. Чтобы не уходил под снег хлеб, цена которому – золото. Если прикупать за границей. А эшелоны свои, конечно, но тоже не даровые. Шли эшелоны с зерноуборочной техникой из южных районов в авральном порядке с поля – на платформу, с платформы – на поле, да на заезженном коне много не увезешь. Изрядно потрепанные на полях Кубани и Ставрополья комбайны больше «бюллетенили», чем работали. Срочно требовалась идея.
Работая зимами в ремонтной мастерской (работая, не отмечаясь, была бы восьмерка в табеле, зарплату найдут) и от зари до зари не вылезая с полей веснами, летами и осенями, каждую «железку» изучил Федор Чеколовец за почти полвека, и почему она ломается, знал. Как свои пять пальцев знал. Но определить на слух, в каком цилиндре стучит палец, и не попасть пальцем в небо, – для него было проще, чем решиться высказать идею, не дающую давно ему ни сна, ни покою. А вдруг и ухом не пошевелят… И останется она только в его блокноте со всеми расчетами, и там и заглохнет и умрет как фикция, высосанная из пальца. Но и рожденных в муках фантазий умирало не меньше, если не больше.
Идею механизатора широкого профиля Федора Чеколовца поддержал сначала партком совхоза. И на этом начале чуть все и не кончилось.
Выступил на совещании механизаторов:
– Предлагаю организоваться в звенья из трех комбайнов. Три комбайнера и освобожденный звеньевой. Значит, четверо, – сжал он четыре пальца, а большой остался как оценка предлагаемого метода.
– Ну, это еще надо будет проверить! Дальше?
– Обязанности звеньевого – заниматься только транспортом, заправкой, питанием, учетом и ремонтом. И попутно возить зерно от комбайнов своего звена. А для этого в его руках должна быть оборудованная бортовая машина. Я тут кое-что прикинул, – отлистнул тетрадную корочку.
– На бумаге оно всегда получается! – опять выкрикнули.
Выслушали расчетную экономию горючесмазочных материалов и времени, экономический эффект, предполагаемые заработки, выслушали с усмешкой и перешептыванием, и когда закончил выступление и покидал трибуну инициатор, бурных аплодисментов не последовало. Но предложение приняли и занесли в протокол единогласно, а организоваться в звенья отказались.
– Все это водевиль, Федор Яковлевич…
– Какой водевиль?
– Какой по воде вилами писаный. Из общего котла потом жди, что достанется, а в персональном все мое. Нет, я не пойду в это ваше механизированное звено.
Опытные, пропыленные, исколесившие поля вдоль и поперек и еще раз вдоль не соглашались – ладно, в них укоренился этот индивидуализм – Юрка Михайлов, который не знал, с какого конца и валок должен подбираться, и тот туда же:
– Не-е, дядя Федя, агитируйте кого-нибудь другого.
Вот уж воистину новое дело, как новая дверь: со скрипом приживается. Но если ты сказал – ты и сделай. И докажи.
Их имена, как имена первых, должны вписать в историю Варненского совхоза. А может, и в историю СССР. Историю ведь обыкновенные люди делают. Первое в стране механизированное звено Чеколовца – история хлебопашества. А значит – и человечества. Всё от земли. И голландский живописец 2-й половины XIX века очень верно выразил эту связь: «Я склонен историю человечества отождествлять с историей хлеба: если не посеять в землю, то что же тогда молотить?»
А Чеколовцу нужно было еще и веру посеять. Но не шли в затеянное им звено опытные комбайнеры. Проводить же эксперимент с юнцами – рискованно. Ну, согласились Коля Лихолюб и Слава Новиков. Так ребятишки ведь совсем. По восьмому классу неполной средней школы только-только закончили. Ну и что, что посещали кружок по изучению комбайна, организованный при совхозе? Ну, сдали теорию и практику по вождению и получили удостоверения механизаторов, но какие из них комбайнеры? Из троих один Ваня Пащенко, отец семейства, и заинтересован заработком, но тоже всего лишь учащийся Троицкого заочного сельскохозяйственного техникума, хотя и сам пришел к Федору Яковлевичу:
– Возьмете в звено?
– Я не против, но… права надо иметь и матчасть знать. Хотя, обожди-ка… А что, если тебя пристроить на ремонт комбайнов? Тут и теория, и практика. Лучше всякого института.
И все лето не вылезали из мастерской «чеколовецкие звенышки», прихватывая и выходные дни, и сверхурочные часы: для себя делаешь.
И завтра уже на полосу выезжать, а сегодня Иван Пащенко сдавал экзамен. Прямо у комбайна. У комбайна же заполнил и вручил ему председатель комиссии удостоверение механизатора. Человек все может, если захочет. А то ведь как, бывает, отвечают на экзаменах студенты, поступившие абы в какой, лишь бы в институт, куда пролезут?
– Конский навоз – это микроэлементы, пропущенные через лошадь, – бывает, отвечают они.
То-то уж не агроном ли из такого. И распахиваются потом сверхплановые участки земли, чтобы получать плановые урожаи.
Комбайн – машина особая. Не потому, что самоходный, а потому, что капризный при регулировке режима подборки.
– Это не балалайку настроить, – терпеливо урезонивал новичка звеньевой, когда новичок, изнемогая от нетерпения, начинал ойкать и хвататься за поручень, чтобы подняться по стремянке за штурвал.
Кто он еще? Мальчишка.
– Ой, да пойдет, дядя Федя.
– Не пойдет. Исполу сеем да исполу убирать начнем, так что получим?
Вот это вот «что получим» и тревожило: а ну как надумают копейки делить… Пока существуют деньги, существует и вред. И рознь. И распри. И классы. И еще неизвестно, чем они, деньги эти, были больше в развитии цивилизации: двигателем или тормозом.
– В общем, так, хлопцы, давайте договоримся на берегу. Или, точнее, на меже. Работать – кто как сможет, но чтобы на совесть. Вал – общий, заработок – единица, деленная на три.
– А почему не на четыре? А вам?
– Мне? Мне – остаток. Единица ж на три не делится, – отшутился звеньевой. – Это не ваша печаль, ваша печаль – хлеб убирать.
Сказал этакое на самой меже Федор Яковлевич и побаивается: согласятся ли? Ребята согласятся, для них еще заработок – не главное. Согласится ли Пащенко: у него своя семья и свои дети. Да к тому же он и мужчина как мужчина, с восьмиклассниками не сравнишь.
– Поровну – это как при коммунизме? – переспросил Иван Михайлович.
– Почти что.
– Я не против. Что молодежь скажет?
– А мы вовсе, – сказала молодежь.
А хлеба в тот год уродились – старикам не в память.
Человек не может без дороги, но не каждый прокладывает свою, чаще по готовым идут. Дорогами отцов. И ничего зазорного нет в этом. И все-таки одинаковых дорог, как одинаковых судеб, не было ни у кого. Схожих – много.
Схожими дорогами шли по войне братья Петр и Федор и по мирной жизни тоже схожими: между полей. И ни того, ни другого не соблазнили свернуть с нее. Федору «теплую» должность в военкомате предлагали, когда из госпиталя прибыл, – отказался, и Петр, когда партизанские отряды С. А. Ковпака соединились с частями Советской Армии, на предложение пойти учиться на офицера в высшее танковое училище тоже сказал:
– Нет!
– Но вы же все трактора и машины знаете…
– И комбайн, а танк – не хочу. Мое дело – земля.
Любят землю братья Петр и Федор. Дед их был пахарем, отец – мужик, и мать – крестьянка. И поэтому, живя на одной улочке, месяцами не видятся братья, с весны до осени днюя и ночуя на полях. Так иногда, если сбегутся случайно, то парой слов обмолвятся – и все: некогда беседу вести.
Молотили механизаторы не помаленьку. Но цыплят по осени считают.
– Ладно, поглядим, какие бункера эти малолетки намолотят, – криво усмехались матерые бирюки, краем уха слушая вести от привозивших обеды поварих.
И не могли «дотолковать», какая же выгода этому Чеколовцу от того, что мотается он с поля на поле и обратно, надоедая начальству просьбами и требованиями обеспечить его звено горючим, смазкой, транспортом, завтраками, обедами, ужинами вовремя. Ну, пацаны, может быть, сколько-нисколько, а заработают, а он что иметь будет? Тариф? И где тут преимущества?
А преимущества были. И до сих пор еще Иван Михайлович Пащенко смеется над собой, вспомнив, а тогда не до смеху было.
Есть у СК-4 сбоку маленький, с четверть длиной, консольный промежуточный валик. И вот возьми и ослабни гайка крепления этого валика. Слышит комбайнер – что-то не то, по-другому задышал механизм. Глянул – и за голову схватился: валик сломался, болтается. А про то забыл с перепугу, что он не сквозной вал и лопнуть посередине не мог. И гнать в мастерские сваривать его не нужно. Остановил агрегат, поджидает едущего уже к нему звеньевого.
– Федор Яковлевич! Промежуточный полетел.
– Далеко не улетит, сейчас поймаем.
Откинул сиденье, погремел под ним, перебирая ключи, откопал, какой нужно, подтянул гайку, законтрил. Все, езжай!
Таскались одиночки с поля в мастерские за десяток километров из-за пустячков посмешнее. Всякое случалось с молодыми по неопытности. Тот же Юра Михайлов, который вежливо и наотрез отказался от предложения Ф. Я. Чеколовца пойти в звено к нему, убрал всего 60 гектаров за сезон. А Ваня, Коля и Слава – 1150. И намолотили 22 500 центнеров зерна. 1150! Это почти по 400 при сезонной норме выработки 270 гектаров на комбайн.
– Вот вам и чем занимался Чеколовец, – подтрунивали над скептиками.
Гайки вовремя подкручивал. Горючее, смазку, транспорт, обеды выколачивал и дыхнуть не давал ни хлопцам, ни на хлопцев: пусть работают да радуются.
А радости было: о них заговорили на летучках и на скамеечках возле оград.
– Чудо-то какое, кума… Слыхала? Колька Лихолюбовых со Славкой Новиковым по четыреста рублей с гаком заработали на уборке. Вот тебе и школьники-ученики. А мой оболтус еще и должен остался.
Механизированные комбайновые звенья стали системой.
В 1969 году в звене Федора Яковлевича уже шесть человек, трое из них – учащиеся старших классов школы. И снова выработка невероятная: по 440 гектаров на комбайн.
А в семидесятом в партком совхоза пришли девочки: восьмиклассница Павлючкова Оля и десятиклассница Имамутдинова Галя.
– Чем мы хуже мальчишек?
Ничем. Взрослых ничем не хуже. Школьники Оля, Галя и Саша Коннов подобрали хлеба с 1673 гектаров. Больше двойной нормы выработки!
Весть о необычных делах обычных людей дошла до Москвы, и в далекую, но не затерянную меж высоких хлебов Покровку приехал заместитель министра сельского хозяйства Кардапольцев.
– Я хочу видеть этого человека.
– Чеколовец в поле. Вызвать?
– Меня везите к нему.
Издали самоходные комбайны с брезентовыми рукавами на концах шнеков были похожи на верблюдов, и копны желтой соломы, как песчаные дюны, дополняли это сходство: спокойно и размеренно двигался маленький караван.
И каково же было удивление замминистра, когда он вместо солидных мужей с отросшей щетиной бород и усов увидел за штурвалами двоих девочек и мальчишку.
– Так это они и выполняют по две нормы?!
– Они.
– Нет, это невероятно! Выходит, дело не столько в опыте, сколько в организации труда? Внедрять. Немедленно внедрять. И повсюду.
Целый день пробыл Кардапольцев в звене Чеколовца. Агроном по образованию и много лет жизни отдавший полям Зауралья, он готов был сам сесть за штурвал комбайна. Физический труд – потребность наследственная и ничем не истребимая.
И уже в совхозной конторе, поздно вечером, изрядно утомив расспросами стеснительного звеньевого и сам устав донельзя, – метод стоящий и важен до мелочей, – замминистра поинтересовался чисто по-крестьянски:
– Вы как-нибудь собираетесь поощрить Федора Яковлевича, товарищи руководители?
– Собираемся. Готовим ходатайство на присвоение звания «Заслуженный механизатор».
– Это само собой. Расщедрились.
Указ о присвоении звания Героя Социалистического Труда Чеколовцу Федору Яковлевичу, механизатору совхоза «Варненский» Челябинской области, вышел весной 1971 года, но получать награду, которая хранилась в обкоме КПСС, он поехал только после посевной.
Прошли годы. Прошли, но не забылись и не потускнели, как не тускнеет золото на его медали «Серп и Молот», к которой давно привыкли. И однажды спросили:
– А вот скажи, Федор, кто тебя в Герои возвел?
– Ну кто… Земля, если вдуматься.
– Правильно. В человеке всё от нее.
Рассказы
Лежачий Камень
И в самой деревеньке ни скалистого, ни глыбистого не было ничего, и люди в ней жили тоже, как люди, не лодыри и не лежебоки, а вот когда и почему спрозывалась она Камнем да еще и Лежачим – самые замшелые старики только руками разводили:
– А кто ж его знает… Камень и Камень. Мало их, камушков таких вот, в Лету брошено, а эта река никогда не пересохнет.
– Оно, конечно, все имеет смысл, да не во все ума хватает вникнуть, но тут с сотворения мира и ломаного кирпича сроду не валялось.
– Кирпича… Кирпич у нас в Лежачем только на валюту. Глину для оконной промазки и то, слышь, возим чуть ли не из-за границы, до своей не можем докопаться, хоть докуда рой – все чернозем.
– Да-а-а, землица здесь – с вечера в квашню насыпь, к утру тесто поднимется.
– А хлеба какие родит! А?
Вера в то, что урожайней здешней земли нет и не может быть, передавалась от поколения к поколению, и навсегда отлучались из деревни лишь убитые на войне. В этом, пожалуй, и крылась суть, почему Лежачий Камень – лежачий камень. Поэтому же и все население его состояло в основном из четырех фамилий, до того схожих и связанных между собой родством, что Наум Широкоступов, направленный сюда председателем колхоза еще в тридцатом году, до самой пенсии путал при начислении по трудодням Галагановых с Балабановыми и Балагановых с Шатровыми.
И даже потом, когда вышпалилась неподалеку железная дорога и зааукали сытые паровозы по весенним ночам, темным и до того тихим, что слышно было, как шипит и потрескивает, сгорая, чья-то падающая звезда, Лежачий Камень остался лежачим камнем.
Поговорки эти, – да и паровозы тоже, – тамошних жителей не касались и не трогали, все они от мала до велика испокон веку холили свою землю, считали лучшим удобрением соль на рубахах, никакой другой работы не знали и так облагораживали ее, что действительно хоть в квашню.
Но Лежачий Камень рос, а гектары оставались те же, и на них давно уже отсеивались в сжатые сроки и отжинались тоже, и сколько бы не пытался кроить райземотдел что-нибудь прирезать к пахотному клину лежачинцев – ну ни лоскута не выкраивалось.
И вот оно, письмо с целины. Писал брат сестре и не то, чтобы звал или сманивал, этого Сашка и в уме не держал, понимая прекрасно, что Шуре с ее Семеном и в Лежачем Камне живется не кисло: он – заведующий складом горючего, она – комбайнер, это во-первых, а во-вторых – свой дом-крестовик, огород соток на пятьдесят, своя баня и хозяйство – одного крупного скота – того и гляди пригон унесут на рогах, а в-третьих – шестеро теперь уж парней у них, старшему – восемь, младшему – два, и поэтому Сашка просто писал, как пишут только вчера демобилизованные солдаты:
«…а земли и простору здесь, дорогая сестричка, от неба до неба, глянешь – и душа с телом расстается».
Александра сперва сама перечитала письмо на несколько рядов, потом подала мужу. У Семена тоже пересохло во рту, но Семен виду не показал.
– Это куда это его занесло, космополита?
– На Северный Кавказ. Вот гляди, – повернула она конверт лицом к мужу. – Вот: Сев. Каз. обл.
– Сама ты Кавказ, – улыбнулся Семен. – Северо-Казахстанская область это пишется так.
– А где она? Разве не на Кавказе? Ох, там и тепло, говорят. Это бы ведь ни пимов, ни дров не надо.
Семен опять усмехнулся. Повертел листок, собирая с полей письма приветы и поклоны чуть ли не всему Лежачему Камню и качая головой.
– Ладно же он стосковался, энтузиаст.
– А может… и мы махнем туда?
– Сиди, прижми седало. Махнем… Было бы у нас по хвосту, а то ведь по три.
На том их семейный совет и кончился.
И назавтра утром, будто вчера и не было никакого намека на поездку куда-то, она нарочито громко шуршала комбинезоном, влезая в него, как ящерица обратно в линьку, сброшенную до срока, назначенного природой. Влезает и посматривает, когда привычно дрогнут длиннющие не по-мужски Сенькины ресницы и сголубеют глаза, но у Семена сегодня первый выходной за все лето, и шорохом его не проймешь.
– Симеон-праведник, проснись. Да слышишь или нет – опаздываю!
– А ты п… поспешай.
– И так уж спотыкаюсь, аж отсырело везде. Баню не истопишь тут?
– К-к скоки?
– Да к послеобеду где-то. Так что шибко не залеживайся.
– А-а… А встаю.
Баню во все времена в Лежачем Камне топили жены, но Семену такая ли подруга жизни досталась – к сердцу нельзя было прижать, а прижал – ей уж приспичивало рожать. Рожала Александра исключительно сыновей, и если не двойню, то одного обязательно, и четыре года подряд. В благодарность за это и не позволял он жене не то ли что полведра воды принести – спички горелой с полу поднять ни до, ни после родов, ни между ними.
Мало-помалу приучился бывший командир танковой роты топить и русскую печь, и русскую баню, и уже не доверял потом эту работу никому и только посмеивался, когда лежачинские кержи пытались раззудить его, называя то ли в шутку, то ли взаболь истопником двора Ее Величества Александры.
И не успела зевнуть за ней избяная дверь, сбросил на пол Семен отерпшие от долгого спанья на одном боку икристые ноги, зачехлил их, еле натянув офицерские галифе, которые донашивал он по хозяйству с самой войны и никак износить не мог.
Передохнул, пролез в гимнастерку, постоял на горничной порожке, любуясь потомством. Его колодка. И работа его.
Ребятишки, все шестеро, спали вповалку поперек широченной кровати, изготовленной по спецзаказу лежачинским краснодеревщиком еще деду Семенова деда и переходящей по семейной традиции к старшему сыну при разделе с родителями. И посыпает теперь на ней Семеново семя, доброе в него, русое в него, курносое в него, в него с длиннющими не по-мужски ресницами.
– Экипаж, подъем! Боевая тревога. А ну, танкисты, кто с батькой баню топить?
Что? Баню топить? Все, конечно. Ссыпались с кровати и, как утиный выводок к луже, – к тазику с водой.
– Умылись? Порядочек в танковых войсках. И задача ясна? Ой, молодцы. Тогда – за мной!
Топка бани начиналась с выбора дров под сараем.
– Ну-ка, мужики, пошевелите мозгами, почему мы их не под открытым небом складываем?
Молчат.
– О-о, а еще крестьяне. Всему сельскому хозяйству надежная крыша нужна. Под ней и люди, и дрова дольше сохраняют свои особенности. Жар, дух, породу. А это от земли с ее соками приобретается и передается, как по крови. О, кстати. Наша фамилия откуда идет? Из болгар! – тряхнул отец кулаком над головой. – Когда мы их освобождали от немцев, так они нам на память старинные денежки дарили. Монетки. Да вот с баней управимся, найду, покажу я вам. Где-то в коробке с орденами должна быть. По-русски – гривенник… Ну, десятикопеечный, – уточнил Семен, заметив, что ребятишки хоть и украдкой, но переглянулись. – Теперь поняли? О! По-русски, значит, гривенник, по-болгарски – галаган. А болгары – самые древние славяне. Так что, товарищи Галагановы, вникайте. Нам в городах не жить, не той, сыны, мы династии. Я, когда меня комиссовали, мог какой угодно адрес выбрать, даже Москву. Как офицер, и как защищал ее, и боевых наград у отца вашего, сами знаете, сколько, а я нет, говорю, выписывайте проездные документы до Лежачего Камня и можете смело заносить его в архивные данные как постоянное место жительства.
Семен боком двигался вдоль высокой поленницы, высматривая березу позакомелистей – для накала – и попутно осинку на потом, для очистки от сажи каменки и для легкости банной атмосферы, объясняя сыновьям все эти «что», «почему» и «зачем», хотя все эти «что», «почему» и «зачем» они на себе каждую субботу испытывали, парясь в первом жару вместе с отцом, который где-где, а на банном полке ни их, ни себя не щадил, ни веник. Летом ребятня сама расползалась из бани, зимой отец рассовывал их себе под тулуп, приносил в дом и, как красный товар, доставал по одному из-под полы и бережно раскладывал по лавкам.
– Обалдел, что ли, наварил их, как раков, – падала мать в подпол за квасом, который не переводился у нее никогда.
– Отойдут, не клохчи, – успокаивал Семен, принимая запотевший кувшин. – Зато уж никакая хвороба не доспеется. По эффективности профилактики, если хочешь знать, так вот такая баня, как наша полуземлянка, выше десятиэтажного министерства здравоохранения.
И поэтому никогда не жалел Семен для чистоты телесной ни дров, ни воды, ни труда своего. А сегодня уж и подавно сам бог велел: у него первый выходной за всю посевную, сенокос и уборочную, у Александры остался последний гектар обмолотить, и старшему сыну в понедельник первый раз в первый класс.
Загрузил помощников соответственно их возрастам, сгреб в беремя остальное топливо и замкнул шествие. Да такое ли чинное и важное – заглядишься. Будто вовсе и не поленья несли, а какую-то семейную реликвию, исполняя родовой обряд, от каких и пошла вся святость труда по земле.
А баня ждала их уже и млела на августовском солнцепеке там, в дальнем конце огорода. На пологой пластяной крыше замшевел живой еще мох, желтела на чердачке береста для разжиги, чернел под застрехой танковый шлем и топырились пятернями ссохшиеся краги, поблескивали луженой жестью жерла самодельных ведер и ведерок разного калибра.
Воду носили из речки, в которой и воды той было старому воробью по колено, но совсем она никогда не пересыхала, поэтому и звали ее уважительно – Рекой. Так и писалась с заглавной буквы в школьных сочинениях на вольную тему: Река. И учителя не считали это за грамматическую ошибку, хотя под таким названием и не проходила она по географическим картам. И вообще топонимикой не предусматривалась. Ну, разве что промелькнет на районном масштабе голубенькой вилюшкой – и все. Но безымянная и не принимаемая топографами за маломальский хотя бы водоем, у своих людей она была на почете, имела глубокий смысл, потому что во все времена, сколько помнила речка себя, поила, купала, кормила рыбой, обмывала и обстирывала, растила огурцы, капусту и помидоры, белила холсты, вымачивала кадушки, льны и коноплю. Во все времена текла она бок о бок с Лежачим Камнем.
Речку и воду в ней берегли, как на рождество в церквах раньше свяченую, и не допускали, чтобы химия какая-нито сносилась с вешними паводками. И не то ли что битую бутылку – бутылочную пробку не бросит в нее никто. Ни взрослый, ни ребенок. И не дай господь, если заезжий шофер или тракторист залезет в их Реку с колесами машину мыть – на кулаках вынесут вместе с машиной и с водителем: думай, что делаешь.
Меньшому водоносу приспичило прямо на мостках. Бросил ведерко, запустил обе ручонки под коротенькие штанинки и ловит там петушка, стиснув зубешки и вздрагивая.
– Э! Э! Ну-ка не здесь!
Отец на четвертой скорости отбуксировал сына подальше на берег, помог добыть и открыть краник – и обоим полегчало.
Зачерпнули воды, несут.
– Вот видишь, как славно. А сикать в речку, сынок, – все равно, что родной мамке в лицо плевать. Запомнил? И никогда не будешь больше? Ну и порядок в танковых войсках.
Миром управились с дровами, миром – с водой, затопили каменку и разбрелись, каждый в своих интересах: ребятишки – по огороду, Семен – искать чернобыл. Обыкновенная полынь и трава как трава, а вот, поди ж ты, ни одна рачительная хозяюшка ни огурцов, ни груздочков не засолит впрок, не запарив предварительно чернобылу в кадке. И стоять будет такое соленье в погребке вплоть до нового урожая как заговоренное от кислоты и плесени.
А Семен еще и щелок заваривал с чернобылом, с лета насушивая этой диковины, чтобы и в зимние ночи пахло после бани от Шуркиных волос сладкой горчинкой, южным ветром и радостной чистотой.
Баня поспела из минуты в минуту, как заказано было. Семен уже подбирал детям бельишко, стоя на коленях перед бегемотистым широкоротым сундуком в затруднительном положении, которое чье, и вот она, Ее Величество Александра, вкатывает на своей самоходке прямо в ограду. Ребятишки – на комбайн, мать – с комбайна. Уткнулась горячим лбом в прохладное оконное стекло, соорудила из ладоней шоры, чтобы не отсвечивало, ищет глазами милого муженька.
– Сеня, Сенек! Захвати и мою сменку. В левом углу. Не там! От меня в левом. Эта, эта. Бери и пойдем.
– А парни с кем? – растерялся Семен: он уж забыл, когда они вместе мылись.
– Сперва меня отскоблишь, потом парней пришлю.
И мимо дома – в баню, выбираясь на ходу из рукавов комбинезона. Выбралась, завязала на бедрах, стянула кофту. Вбежала в предбанник, стряхнула сапог, стряхнула в другой угол другой, вышагнула из спецодежды, скрестив руки, защипнула подол сорочки и, стаскивая ее через голову, сразу почувствовала голыми лопатками баню. Выстоявшаяся, с выскобленными до желтизны, до отчетливости каждого сучочка половицами, с обданным кипяточком полком, она жарко и нетерпеливо дышала ей в спину, дразня тонкими запахами чернобыла, березовых листьев, раскаленного кирпича и золы.
Хлопнула дверь, потухла заткнутая тряпкой отдушина, прошипела каменка – и не стало Шурки: разлеглась, разбросалась, растворилась на чистом и теплом полке, подложив под голову пахучий веник.
Семен раздевался намного дольше, собрав и развесив сначала женушкину амуницию, потом чистое ребятишкино, потом уж свою. Надел шлем, размял заскорузлые краги, готовясь потешить тело и душу, слышит оттуда:
– Веник себе прихвати, этот мне, я тоже париться буду.
Прихватить веник – значит одеться снова: нагишом, хотя и по собственному огороду, не пойдешь, а на вышку, на чердак то есть, где они висят, по лестнице, голый тем более, не полезешь, тут уж наверняка весь Лежачий Камень сбежится, как на сельхозвыставку. Поморщился, поморщился, оделся, пошел.
Зато уж нахлестывались в четыре руки. Семен, спрятав под шлем рубцеватые после фронтовых ожогов уши, все еще чувствительные к жаре, и запястья – в краги, понемногу, но часто поплескивал на каменку, сыспотиха нагоняя температуру, и выжидал, когда Александра запросит пощады, а она вместо этого нашарила ковшик, зачерпнула полный и ж-жахнула сразу весь, как из царь-пушки выпалила.
Семен на Курской дуге из горящего танка так не спешил, а тут, как ртуть, скатился с полка на пол, прикрыл промежность веником да эдак верхом на нем и ускакал в предбанничек. Следом точно на таком же транспорте – Шурка.
– Ошалела, что ли? Н-ненормальная!
– А я подумала, ты мерзнешь, военную шапку свою с перчатками надел.
– Грамотная шибко! Кавказ от Казахстана не отличает и туда же: а я подумала… То ты не знаешь, почему мне в доспехи эти приходится рядиться.
– Да капитан ты мой бронетанковый, да, конечно, придуряюсь. Ну, прости.
Семен, галантно потупясь, сидел на кукорках и слушал, как ворошит Шурка вымытую до скрипа гриву черных волос.
– Сень! Ты угорел или так дремлешь? Или решаешься дунуть на целину? – опустилась рядом. – Самое то место с нашими резервами. Ше-е-есть пахарей растет. – Ше-есть. А я, по-твоему, зря бочку керосина сожгла, комбайн этот учила…
Трудно теперь судить, что повлияло на нее тогда в феврале. То ли постановление об освоении целинных и залежных, то ли встреча с председателем колхоза.
Шура шла с «нефтебазы», Широкоступов – туда.
– Ага, попался…
– Не зна-аю, кто из нас попался, – хохотнул председатель.
– Ты, конечно. Ты, я слышала, говорят, опять не занес меня в свою красную книгу?








