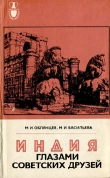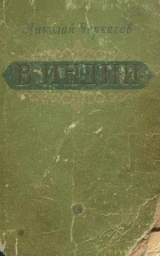
Текст книги "В Индии"
Автор книги: Николай Черкасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Возвращаемся домой узенькими улочками. Вдоль домов с правой и с левой стороны стоят и сидят продавцы, торгующие самыми различными товарами. Слышны звуки народных инструментов – флейты и барабана. По мостовой бегут рикши, проносятся автомобили.
Идут бородатые жрецы. Их полуголые тела вымазаны глиной. У них разрисованы лбы и руки, волосы пучками завязаны тесьмой, в руках – длинные палки.
Продавцы зазывают покупателей. К вечеру они сидят с электрическими лампочками, а торговцы победней перед собой держат фонари.
Вечером мы приглашены в Общество друзей Советского Союза. Поднимаемся на четвертый этаж по лестнице с большими пролетами. На последнем лестничном марше пришлось шагать буквально по грудам сандалий. Ступеней не было видно. Обычно все входящие в дом снимают обувь.
В зале на ковре сидит более двухсот человек. Нас встречают дружескими приветственными возгласами и тотчас надевают на шеи гирлянды из роз.
Рады присутствию здесь композитора Салил Чоудхури с его замечательным хором. Участники хора, узнав, что нам понравились их песни, решили доставить удовольствие своим советским друзьям и сами пришли на эту встречу. Раздаются звуки уже знакомой и любимой мною песни, посвященной объединению и миру. Когда хор подхватил припев, я не выдержал и стал подпевать полным голосом. Это вызвало восторг присутствующих. По нашей просьбе эту песню повторили, и все мы пели ее хором.
На стенах зала висят большие картины. На одной из них изображен В. И. Ленин в кругу революционных петроградских матросов. Рядом – большой портрет И. В. Сталина. На многочисленных стендах приведены цитаты из речей И. В. Сталина и В. М. Молотова. Висит цветной плакат, посвященный борьбе за мир. Белый голубь на нем нарисован в индийском стиле. И сюда, в далекую Индию, долетел этот крылатый посланец мира. На другом плакате – война с ее ужасами, бомбы, падающие на окровавленные головы индийцев.
На стенах зала развешаны фотографии виднейших деятелей искусства Советского Союза: К. Станиславского, И. Москвина, многих других. Приятно было видеть такие знакомые лица здесь, в Индии, и в столь необычной аудитории.
Индийские друзья просят почитать что-нибудь. Я читал стихи прогрессивного австралийского поэта Врепонта, посвященные борьбе за мир. Затем, посоветовавшись с товарищами, решил прочесть басни Крылова. Но перед этим нужно было рассказать содержание басен. Многие слушатели говорили потом: «Мы прекрасно все поняли. Мимика, жест, музыка русского языка, язык вашего доброго сердца очаровали нас, донесли до нас содержание басни».
Из зала – мы это ощущали – шла волна симпатии, любви к представителям советского народа. С чувством большого удовлетворения от этой сердечной встречи возвращались мы домой.
На следующее утро к нам пришли двое крестьян, членов Общества, с которыми мы виделись накануне. Один из них сказал:
– Мы очень бедные люди. Но нам хотелось бы что-нибудь подарить вам. Мы посоветовались в деревне со стариками и решили, что вы не обидитесь и на такой вот простой подарок.
Бенгальские крестьяне развернули газетную бумагу и достали маленькую корзиночку. В ней находились бананы, помидоры, огурцы, мандарины, апельсины. Это были муляжи, искусно сделанные из глины и раскрашенные народными мастерами – бенгальскими кустарями.
– А вот это, – сказали они, – это благородный плод манго. Его нам дарит земля Индии. Плод манго просим вас передать товарищу Сталину, великому вождю человечества.
В трогательных словах крестьян чувствовалась огромная любовь индийского народа к И. В. Сталину.
– Обязательно передайте, пожалуйста не забудьте передать. Для нас это очень важно, – повторяли они.
Я обещал выполнить их просьбу и рассказал крестьянам о всенародном чествовании товарища Сталина в Москве, в Большом театре, в день семидесятилетия вождя, о многочисленных подарках, которые были присланы Иосифу Виссарионовичу из разных стран мира. Я сказал, что все эти подарки не разместились бы на самой большой площади Калькутты и что часть их выставлена в двух больших музеях Москвы.
Мы тепло попрощались с индийскими крестьянами, попросив передать наш привет и благодарность их односельчанам.
В одной из студий для нас устроили просмотр фильма «Обездоленные» талантливого прогрессивного режиссера Нимай Гхоша. Когда фильм был готов, режиссеру пришлось сильно сократить его, и несмотря на это, картина все же не вышла на экран.
Фильм «Обездоленные» – настоящее реалистическое, волнующее произведение. Правдиво и страстно режиссер рассказывает в нем о дружбе между мусульманами и индусами, живущими в одной из деревень Пакистана. В поте лица своего крестьяне обрабатывают землю, трудятся там, где веками трудились их деды. Но вот Индию делят на Индостан и Пакистан. Индийские крестьяне вынуждены покинуть свою родину. Какие-то подозрительные личности сулят им «златые горы» в Калькутте, жилье, работу. И бедняки соглашаются покинуть свои хижины. Семья героя фильма уже готовится к переселению, как вдруг отца арестовывают по доносу. Несчастная мать, ожидающая ребенка, вынуждена тронуться в путь без мужа, так как уезжают все ее односельчане-индийцы.
Крестьяне впервые в своей жизни садятся в поезд, все кажется им диковинным и необычным. Но вот и Калькутта. Они выходят из вагонов и, чтобы не затеряться в толпе, крепко держатся друг за друга, образуя своеобразную ленту. Их глазам предстают ужасные картины: на вокзале всюду лежат полуголые несчастные люди, такие же обманутые бедняки, как и они, согнанные с насиженных мест. Они не знают, что политику раздора сеют англичане, заинтересованные в подавлении, в обнищании народа.
Женщина влачит жалкое существование. Она не может найти работу, жилье. Наконец ей удается пристроиться в пролете какой-то лестницы. Она начинает плести корзины из прутьев, чтобы заработать гроши на пропитание. Но ее прогоняют с лестницы. И снова женщина под открытым небом. Крестьянка должна стать матерью, она попадает в родильный дом. Бездомная и голодная жизнь отражается на родах. Они проходят очень тяжело, и врачи сомневаются, можно ли спасти жизнь матери. В это время героя фильма выпускают из тюрьмы. Он едет в Калькутту, ищет свою жену. Наконец он находит ее. Она при смерти. Умирая, она передает своему мужу новорожденного младенца…
Так завершается трагедия простой крестьянской семьи, разоренной невыносимым укладом, который создали английские колонизаторы, подстрекающие на вражду индийцев и мусульман.
На нас фильм произвел огромное впечатление. Ведь мы сами видели в Бомбее и Калькутте тысячи таких семей, живущих на улицах, под пролетами мостов, в наспех сложенных из прессованных листьев хижинах.
Разорение, нищету, несчастье принесла народу Индии эта проклятая политика английских империалистов. Сколько горьких слов о ней, сколько справедливых и гневных укоров мы слышали и от представителей индийской интеллигенции и от простых людей, с которыми нам приходилось встречаться во время нашего сорокадневного пребывания в Индии!..
В фильме «Обездоленные» играют не только профессиональные актеры, но и настоящие беженцы-крестьяне, с которыми работал режиссер Гхош.
Режиссер рассказал нам о том, как он снимал одну старуху вдову. Крестьянку пригласили исполнить небольшую эпизодическую роль. Гхош репетировал с ней около двух недель. Старуха внимательно слушала режиссера и выполняла все его задания. Но когда он стал объяснять ей, как сказать горькие слова о своей родине, которую ее заставили покинуть в результате политических махинаций, она ответила:
– Я люблю тебя, как сына, и со вниманием выслушиваю все твои указания о том, как я должна вести себя перед этим аппаратом. Но не учи меня тому, что должна переживать женщина, оставшаяся без родины, без своей священной земли. Это я знаю и без тебя… Слишком много горя пережили и я и миллионы таких же простых людей, согнанных со своей земли!..
– И эта старая крестьянка, – сказал режиссер, – своими собственными словами, лучше, чем было в сценарии, с такой естественностью и убедительностью произнесла перед киноаппаратом свой монолог, что все мы, профессиональные работники, были потрясены.
И действительно, с экрана раздаются простые слова исстрадавшегося человека. Это не слова сценария, это вопль женщины, голос измученного, гневного сердца.
Фильму и работе режиссера Гхоша мы дали самую высокую оценку.
Калькутта – единственный город в Индии, в котором имеется пять драматических театров, работающих круглый год. Пять театров на огромную страну, насчитывающую более 325 миллионов населения! Не горькая ли это ирония? Вот плоды многолетнего империалистического господства Англии в этой стране: пять театров, не имея никакой поддержки, влачат самое жалкое, почти нищенское существование, несмотря на подлинный энтузиазм режиссеров, актеров, художников.
Мы едем в театр, руководимый актером и режиссером Бхадури. Большой, мрачный зал со скамьями. На потолках вентиляторы. Зал наполовину пуст. И это один из лучших драматических театров Калькутты! Как не похож он на роскошные, из белого мрамора, дворцы кинотеатров, в которых идут американские и английские фильмы.
Сегодня здесь играют пьесу «Сароши». Иногда нам трудно следить за спектаклем при тройном переводе с хинду на английский и с английского на русский язык. Но превосходная игра помогает понять все происходящее на сцене. На раздвигающихся декорациях нарисован пейзаж индийской деревни. В следующей картине декорация раздвигается и изображает уже комнату помещичьего дома. В пьесе рассказывается о помещике, ведущем разгульный образ жизни, притесняющем крестьян, требующем с них непосильный налог. Помещик безжалостно передает полицейским голодных крестьян, не выполнивших кабальных обязательств.
Главную роль разгульного помещика играет сам Бхадури. Он играет превосходно, свободно чувствует себя на сцене и своим исполнением буквально захватывает весь зрительный зал. С большим напряжением зрители следят за развитием действия, за поведением героя, за его жестами, великолепной мимикой. Актер точно и выразительно доносит до зрителей идею произведения, играет в предельно реалистической манере, подкупающей простого зрителя, понятной ему.
Остальные исполнители, ученики Бхадури, тоже играют с большим профессиональным блеском. В диалогах и монологах чувствуется умение актеров общаться друг с другом. Можно проследить четкую, ясную мысль, которой подчинена общая идея этой пьесы.
Спектакль перемежается интермедиями. Они проходят на авансцене и изображают то нищих, идущих в храм бога Шивы, то его служителей – браминов. Молящиеся исполняют песнь, посвященную богу, немного критикуют его, а он, размалеванный, приплясывая, слушает верующих.
В антрактах выходим во двор покурить. Нам рассказывают, что Бхадури был преподавателем английского языка, но увлекшись драматическим искусством, бросил свою профессию и целиком посвятил себя индийскому театру. Эту пьесу его труппа играет с 1927 года. Пьеса имеет успех у зрителей. Она прошла уже более двухсот пятидесяти раз.
Антракт заканчивается. Действие пьесы происходит теперь в храме. Зрительный зал живо реагирует на высказывания героя, отвечающего брамину. Народ не очень-то долюбливает их и весело откликается на остроумные реплики героя, спорящего со священнослужителем.
В финале спектакля герой умирает в мучительных страданиях. Почему-то он напомнил мне великого Бориса Щукина, с такой потрясающей силой передавшего в своей игре кончину Егора Булычева. Индийский актер Бхадури – безусловно большой мастер, владеющий огромным искусством воздействия на зрителей.
После спектакля за кулисами нас уже ожидали все работники театра. Искренне мы поделились с ними своими впечатлениями. Но Бхадури боялся, что это только вежливые комплименты, ибо ему редко приходится выслушивать похвалу. Мы сделали и некоторые критические замечания. Выяснилось, что артисты играют свои спектакли всего два-три раза в неделю. Зрителей в театре бывает не очень много. Во всем чувствуется неприкрытая бедность – и на сцене и в других помещениях. Театр Бхадури давал полное представление о том, в каком бедственном положении находится в Индии драматическое искусство. Талантливейшие индийские артисты, не получая никакой помощи, все же понимают свое высокое культурное призвание и работают, иногда не получая никакого вознаграждения А ведь при поддержке они, благодаря своим дарованиям и исключительному мастерству, могли бы умножить славу талантливого народа и в области искусства. Но английские колонизаторы и здесь приложили свою лапу, тормозя развитие замечательных народных дарований.
И как завидовали нам индийские артисты, когда мы рассказывали, что, наравне с десятками тысяч кинематографов, в Советском Союзе имеется около восьмисот театров! Они сосуществуют с кинематографией и взаимно обогащают друг друга. И кино и театры в СССР находятся на государственном бюджете, получая всестороннюю поддержку и помощь государства.
Нас одолевают корреспонденты калькуттских газет. То и дело происходят пресс-конференции. У журналистов множество вопросов, они держатся с видом заговорщиков, стремясь нас «подловить» на чем-то. Они задают, по их мнению, «каверзные» вопросы (об этом сами же пишут!).
Наши ответы, казалось, вполне удовлетворили корреспондентов. Но вдруг раздается вопрос:
– Зачем вы приехали в Индию?
– Нас пригласили Комитеты по проведению кинофестивалей советского фильма в Калькутте и Бомбее. Мы приехали по их приглашению.
– А смогут ли приехать в Советский Союз представители индийских киноработников, другие деятели искусства?
– Безусловно. Мы будем счастливы приветствовать у себя в Москве, в Ленинграде и других городах лучших представителей вашего прогрессивного искусства.
Вопросы исчерпаны. Корреспонденты благодарят нас за всесторонние, обстоятельные и искренние ответы…
Едва закончив беседу, торопимся на прием в Индиан-фильминститут. Здесь собрались актеры-«кинозвезды», ведущие режиссеры, владельцы крупнейших студий. Эта организация хотела бы по нашему образцу открыть у себя в Индии большой институт кинематографии для подготовки режиссеров, актеров, операторов. Сидим за столом, пьем чай с молоком. Актеры и актрисы ухаживают за нами, угощают национальными сладостями. Нам рассказывают о тяжелом положении большинства индийских киностудий. В словах актеров и режиссеров – тревога за свою национальную кинематографию, горечь и обида за свое бессилие что-либо изменить.
– Киноискусство Индии, – говорит мне мой сосед, один из виднейших режиссеров, – находится в тупике, переживает большой производственный кризис. Многие индийские владельцы студий терпят крах, разоряются, к большому удовольствию иностранных фирм, заполнивших наши экраны своей продукцией. Низкое качество большинства индийских фильмов обусловлено невероятной спешкой. Постановка картин осуществляется людьми, не обладающими ни художественным вкусом, ни талантом, но зато располагающими большой мошной. Кинодельцы-финансисты, приглашая режиссеров для постановки того или иного фильма, присматриваются к их работе в студии и потом решают, что создать картину не так – уж трудно, и сами начинают ставить фильмы! Легко догадаться, что из этого получается.
В киностудиях существует масса ненормальных явлений, с которыми все же мирятся и «продюсеры» и творческие работники. Так, например, нередко ведущий киноартист или актриса получает свою роль от режиссера и впервые знакомится с ней в день съемки фильма, часа за два-три до того, как актер должен появиться в студии перед киноаппаратом.
Мы не поверили, когда нам об этом рассказывали. Тогда нам показали «Фри Пресс Джорнэл» от 22 мая 1950 года, в котором мы прочли, что известнейшая индийская киноактриса-звезда» Налини Джейвант на страницах журнала протестовала против таких «порядков», сетуя, что в подобных условиях трудно создать художественный образ. Она же писала, что то или иное решение творческой задачи – мизансцены или трактовки образа – режиссер чаще всего принимает непосредственно на съемках, в студии…
«При таких условиях, – пишет Налини Джейвант, – актер или актриса лишаются возможности отдать свои силы и умение для создания того образа, который задуман автором сценария».
Очень часто, по словам Налини Джейвант, для исполнения песенок в фильме приглашают певицу, чей голос и манера пения совершенно не соответствуют облику героини, и «образ непоправимо раздваивается».
Бичом индийского кинопроизводства является нехватка квалифицированных киноартистов. Художественных институтов, готовящих артистов для кино, в Индии не существует, крупных актеров переманивают, за ними гоняются. Поэтому «кинозвезды» зачастую одновременно снимаются в четырех-пяти фильмах!
Несмотря на нехватку артистов, существует колоссальная, ни с чем несравнимая разница в оплате«кинозвезд» и рядовых актеров, с которыми, кстати сказать, никто не работает, – некогда! «Звезды» получают огромные оклады, а рядовые актеры зарабатывают гроши. Эти люди снимаются не более десяти дней в месяц, получая три рупии за съемку, – сумма, которой не хватает даже на дневное пропитание…
Жизненно необходимой для индийской кинопромышленности является и проблема снабжения пленкой. Ее приходится привозить из Англии и США, и иностранные фирмы тем самым имеют возможность «регулировать» и самое производство и прокат индийских фильмов, всячески тормозя их. Развитие цветного кино также задерживается из-за того, что нет цветной пленки. Цветные фильмы поэтому снимаются в очень небольшом количестве, по американскому методу, на американском негативе. А пленку для проявления и печатания копий индийские студии посылают в… Голливуд! Американцы не хотят продать «секрет» обработки цветной пленки.
Все эти обстоятельства вместе взятые порождают беспокойство в среде индийских кинематографистов за дальнейшее существование отечественного кино.
Нас расспрашивали о принципах планирования советского кинопроизводства, об организации работы студий, подготовке молодых творческих кадров, о связях с писателями и сценаристами, о том, как заказываются сценарии, сколько времени ставятся фильмы, о том, каковы взаимоотношения театра и кино.
Индийские режиссеры и актеры были поражены, когда узнали, что у нас нет «кинозвезд» в их понимании, что артистов для исполнения ведущих, да и не только ведущих ролей режиссеры могут пригласить из Театра киноактера (они были весьма удивлены существованием такой организации!) и любого театра. Мы рассказывали, что перед началом постановки фильма у нас снимаются пробы артистов в больших эпизодах, чтобы проверить, насколько исполнитель данной роли понимает творческую задачу в раскрытии образа в целом. Наш рассказ о том, что на одну и ту же роль иногда пробуется несколько артистов, ошеломил индийских кинодеятелей!
Только огромная природная талантливость индийского народа, многих его деятелей кинематографии, не имеющих специального художественного образования, позволяет им все же создавать иногда настоящие, большие произведения реалистического киноискусства. Но, увы, не всякие из этих фильмов появляются на экранах самой Индии. Например, фильм «Дети Индии», который наши зрители видели года три тому назад на экранах страны социализма, в Индии был запрещен.
Беседа подходит к концу. Начинается новый просмотр. Смотрим на экран и с болью думаем о том, как убийственно сказывается на творчестве некоторых талантливых индийских кинохудожников тлетворное влияние Голливуда.
«Исторический» фильм о борьбе индийцев с англичанами, происходившей около ста лет тому назад, подан как цепь веселых приключений. Англичане едут на пароходике и на палубе поют песенку под аккомпанемент джазовой музыки; при этом режиссер крупным планом показывает аккордеон.
На экране фрагменты какого-то мистического фильма. Герой картины человек с безумными глазами, методически бьет по голове свою жену, истязает ее, потом убивает. Он заколачивает труп в ящик и увозит куда-то в автомобиле. В квартире сумасшедшего по ночам внезапно распахиваются окна и двери, завывает ветер, перед убийцей появляется скелет покойной жены, и ее костлявые руки начинают душить преступника… Черт знает, что такое! Форменный бред! Вот до чего доводит подражание американской кинопродукции. С трудом смотрим эти фильмы. Только вежливость удерживает нас в зрительном зале.
Просмотр закончился, нас обступают актеры, участники этих фильмов. Каждому из них нам хотелось бы сказать теплые, добрые слова и выразить свое соболезнование, что им, талантливым людям, приходится сниматься в такой дребедени.
Смущенно улыбаясь, ко мне подошел актер, игравший садиста-убийцу, и сказал, словно оправдываясь:
– А жизни я совсем не страшный и ни злой, как на экране; просто приходится играть все, что поручает директор студии…
Отвечая на вопросы индийских артистов, говорим, что подобные мистические, садистские и прочие фильмы наш народ просто не стал бы смотреть. Советские люди – люди здоровые, жизнерадостные и любят реалистические произведения искусства, отражающие подлинную жизнь.
Покидаем зал, спускаемся по лестнице в вестибюль кинотеатра, сияющий зазывными огнями. На стенах вестибюля огромные рекламные щиты. На одном – гигантская горилла, несущая на руках красавицу-героиню, на другом – бандиты в масках совершают нападение не то на банк, не то на какую-то контору…
Трудно творить в атмосфере такой духовной отравы, разлагающей и развращающей народ. Но зная многих деятелей индийского кино, мы верим, что они еще покажут себя и создадут произведения, достойные своей великой страны…
Хотим познакомиться с жизнью бенгальских крестьян и едем за шестьдесят-семьдесят миль от Калькутты. Машина поворачивает с шоссе, делает несколько сот метров по проселочной дороге, и мы у первой индийской деревни. Неподалеку протекает арык. Через него перекинут узкий бамбуковый мостик. Длинные толстые палки бамбука образуют настил и перила. По мосту, прогибающемуся под тяжестью человека, проходят женщины. Идут они уверенно, спокойно, не шелохнутся, на головах у них сосуды с водой. Ступаю на мост и я. Но чувствую, что он прогибается от моего веса, и цепляюсь за перила, боясь упасть в воду. Мальчики и девочки, собравшиеся на берегу, смеются, глядя на меня…
У индийских девочек, как и у взрослых женщин, в ноздре дырочка, и в нее продета запонка, у богатых – золотая с бриллиантом, у бедных – медяшка. Дети облепили нас, с любопытством разглядывают иностранцев. Тут же маленькая девочка лет шести держит у себя на бедре ребенка, так же как и взрослые женщины.
Го тут, то там оригинально сложенные стога соломы, напоминающие хижины. Вокруг высокие кокосовые пальмы. В канавках, похожих на наши среднеазиатские арыки, мелькает рыбешка. На стогах соломы сидят большие птицы, вроде аистов, отличаются они только разными оттенками и окраской. Пролетают и шумят на деревьях крошечные колибри – синие, голубые, зеленые, красные.
Наше внимание привлекает полуголый индиец-рыбак. В руке он держит сеть, распластывает ее, как большой шатер, и постепенно погружает ее в воду. Он выжидает несколько минут, потом медленно вытягивает сеть. Если попалось две-три рыбки, он счастлив, кидает в горшок, который плавает тут же на воде.
Любуемся красивыми пейзажами с рисовыми полями и пальмовыми рощами, которым поклоняются крестьяне, как божеству.
В деревне среди индийцев живет крестьянин-мусульманин. Старик не захотел покинуть свою родную землю при разделе Индии. Но если англичанами будет спровоцирована новая резня, мусульманин должен будет бежать и скрываться, чтобы спасти себе жизнь.
Жарко, хочется пить. Нам предлагают самый гигиенический напиток – кокосовый орех. Молодой крестьянин, одетый в лохмотья, радушно приносит несколько больших тяжелых орехов. Он точит топорик, чтобы обрубить верхушку каждого из них. Острым топором он отсекает кусок ореха. Я беру орех и из небольшой дырочки пью прохладную кисло-сладкую, несколько вяжущую жидкость.
Влаги в Западной Бенгалии хватает надолго. Земля здесь плодородная. Дожди наполняют канавы и водоемы до предела. Наши друзья говорят, что здесь по вечерам пары́ низким слоем расстилаются по земле, – получается так, что выше пояса ваше тело сухое, а ниже – влажное, словно от дождя.

Деревня в Западной Бенгалии
Крестьяне говорят, что можно было бы снимать не меньше трех хороших урожаев в год. Но обрабатывать землю нечем, нет никаких сельскохозяйственных машин. Да и главное – земли у крестьян нет: они арендуют ничтожно маленькие части полей и большую часть урожая отдают посреднику, который сам снимает землю у помещика и расплачивается с ним тоже натурой, выговаривая себе, разумеется, большой куш за счет крестьян.
Старик крестьянин качает головой и что-то говорит переводчику. Тот смущается и не хочет переводить. Мы настаиваем. Тогда переводчик, едва удерживаясь от смеха, рассказывает, что старик неприличными словами ругает и своих помещиков и англичан с американцами, говоря, что от тех и других идут все беды для индийского народа.
Старик прав. Крестьяне могли бы снимать в здешних краях минимум три урожая в год и жить сыто, без систематических голодовок, уносящих миллионы жизней.
Но агротехника в Индии самая примитивная. Это слово, пожалуй, даже и не подходит к определению того способа обработки земли, который мы видели в Бенгалии.
Английские колонизаторы всеми способами тормозят развитие сельского хозяйства в Индии. Им выгоднее, чтобы крестьяне собирали ничтожные урожаи и находились в постоянной зависимости от помещиков. Кстати сказать, по Индии мы проехали на автомобиле тысячи миль и за все время лишь на одном, разумеется помещичьем, поле видели трактор. Зато мы часто видели даже не соху, а какую-то палку без металлического наконечника, которой крестьяне взрыхляют землю. Неудивительно, что с февраля-марта в Индии обычно начинается страшный голод. И тогда-то американские и английские империалисты начинают диктовать свои условия индийскому правительству. Впрочем, в 1951 году большую поддержку трудящимся Индии оказало советское правительство, бескорыстно направив в эту страну пароходы с хлебом.
Наше пребывание в Кулькутте заканчивалось. Все же мы успеваем побывать в гостях у одного прогрессивного режиссера, с которым мы подружились. Пришли его братья и много других родственников. Собралось и несколько представителей Комитета по проведению фестиваля советских фильмов. Для нас был приготовлен специальный концерт известного классического музыканта-мусульманина.
Мы вошли в дом, поздоровались с хозяином и его родственниками, и нам на память подарили несколько небольших национальных игрушек. Затем всех пригласили во дворик, покрытый сверху большим тентом. У задней стены соседнего дома возвышалась небольшая эстрада. На ней, поджав под себя голые ноги, сидел певец в коричневой барашковой шапочке и черном национальном сюртуке, окруженный тремя музыкантами. Певец подал мне свою пухлую руку. У него были закрученные кверху пышные усы. На рубашке, вместо пуговиц, сверкали бриллиантовые запонки.
Артист настраивал инструмент, напоминающий небольшие гусли. Рядом с ним сидел темнолицый, в белой одежде барабанщик, а по другую руку с маленькой фисгармонией расположился еще один артист.
Когда приготовления были закончены, мусульманин-певец ударил по струнам «гуслей» и сипловатым голосом начал выводить минорную мелодию. Музыкант, сидевший позади у басового инструмента, тихонько ударял по струнам. Раздавался звук, похожий на жужжание пчелы. Правой рукой он перебирал струны, изящно и мягко жестикулируя левой, словно дополняя музыкальный замысел пластикой. Когда голос певца повышался до верхних нот, сидящий по соседству с ним музыкант сразу же начинал его имитировать, играя на маленькой фисгармонии.
Я обратил внимание, что певец импровизирует, так как аккомпанирующий ему инструмент попадает в эту тональность на несколько секунд позже, а иной раз и не попадает совсем, а торопится подхватить мелодию.
Потом певец перешел на другой ритм – более четкий. И барабанщик, смотря ему в глаза, ударял по барабану то пальцами, то ладонью, то снизу, то сверху, ставил барабан на пол, поднимал его. Певец был безусловно одаренный человек. Несмотря на свою странную для нас манеру исполнения, он доставил нам огромное наслаждение.
Начался прощальный ужин. Звучат трогательные речи представителей Комитета фестиваля. Мы благодарим за радушие и гостеприимство, которыми нас окружили в Калькутте деятели искусства Индии и представители прогрессивных организаций.
Рано утром на аэродроме нас провожает множество новых друзей. Начинается посадка в самолет. Последние рукопожатия.
Нам машут руками. Последний привет… Мм летим в Бомбей.
Вдали вырисовывается цепь гор Вихнея, где веками поработали ветер и дождь, создавшие то высокие остро-конечные башни, то подобие стен. А вот на вершине как будто высечено какое-то здание. Эти причудливые, волшебные горы прикрывают Бомбей с востока.
Самолет идет на посадку. Среди встречающих представители четырнадцати прогрессивных индийских организаций. Опять венки из роз. Обряд заканчивается, когда все четырнадцать «ожерелий» надеты на нас. Они закрыли нам рты, и когда мы отвечали на приветствия – казалось, наши голоса идут откуда-то из глубины, сквозь необычайный фильтр из роз. Было душно в этот январский день, и аромат чудесных, свежих цветов кружил головы. Сказывалась и усталость от сравнительно продолжительного полета.
Бомбей более европеизирован и фешенебелен, чем Калькутта. В европейской части Бомбея огромные, многоэтажные дома, гостиницы с искусственным климатом, большие магазины с зеркальными витринами и зазывающей рекламой, здания правительственных учреждений, фирм, банков, университетов и школ. В зелени садов утопают особняки индийских богачей и английских колонизаторов.
В Бомбее живет много выходцев из Ирана. В большинстве своем они занимаются крупной торговлей и ростовщичеством. Основное же население Бомбейской провинции – марихи. В Бомбее сосредоточены многие десятки крупных текстильных и кожевенных предприятий, подавляющее большинство которых принадлежит англичанам, а другие, маскируясь индийскими названиями, по существу тоже принадлежат английским пред-нанимателям с какой-то долей участия национального капитала.
К сожалению, из-за ограниченности времени и главным образом занятости делами фестиваля нам не удалось познакомиться ни с фабриками этого «индийского Манчестера», как называют Бомбей, ни с бытом и положением индийских рабочих. Впрочем, резкий контраст между европейской частью Бомбея и его рабочими окраинами, занимающими более половины города, достаточно красноречиво и убедительно говорит о том, как живут здесь рабочие…