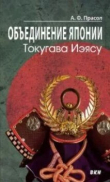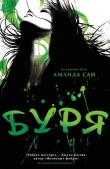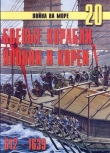Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (28)
Кодзики и Нихонги, как правило, персонифицируют исторический процесс, ими обрисованный: если они говорят о борьбе, то это всегда бывает борьба вождей. Поэтому и надлежит борьбу томобэ отыскивать за борьбой этих вождей. Совершенно естественно отыскивать вождей движения томобэ среди ближайшего окружения царей. С другой стороны, естественно искать наиболее активных участников этого движения среди таких томобэ, которые почему-либо имели больше возможностей для этой борьбы. С этими предпосылками попробуем обратиться теперь к материалам Кодзики и Нихонги.
Выступления отдельных вождей, их борьба с царским домом, их взаимная борьба в V веке принимает особенно ожесточенный характер. В царствование Ритю (400-405), Хансё (406-411), Инкё (412-453) с царским домом соперничал во власти дом Кацураги, глава которого Цубура сумел, в конце концов, занять первенствующее положение в союзе родов Ямато. После смерти Инкё вокруг его наследия разгорелась распря двух его сыновей – Анахо и Кару. Старший – Кару был убит, и Анахо сделался царем (вошел в историю под именем Анко, 453-456). В следующем году был убит и второй возможный соперник – дядя Анко – принц Окусака, причем Анко взял себе в жены супругу последнего – принцессу Накаси. У той был сын от первого мужа – принц Маюва, которому грозила также опасность убийства со стороны царя. Однако, Маюва предупредил события и сам убил (456) Анко, чем отомстил за своего отца. В этом «перевороте принца Маюва», как именуется это событие в обычных изложениях японской истории, принимал, по-видимому, руководящее участие Кацураги Цубура. Однако у Маюва и Цубура нашелся сильный соперник – 5-ый сын царя Инкё, – которому удалось убить и того, и другого (456). После ожесточенной борьбы с другими соперниками он захватил в свои руки власть в формирующемся государстве и вошел в историю под именем Юряку. Таким образом, власть дома Кацураги пала. Однако ему на смену выступил другой дом – Хэгури, помогавший Юряку в борьбе против Кацураги. Глава этого дома – Матори в качестве «о-оми» в течение двух царствований – Юряку (456-479) и Сэйнэй (480-484) не уступал царям по своему значению в общеплеменном союзе, а после смерти Сэйнэй – в течение царствования Кэнсо (485-487) и Нинкэн (488-498) фактически стоял во главе этого союза. Однако в 498 г. он вместе со своим сыном Сиби был убит главой другого сильного дома – Отомо Канамура, к которому – со званием «о-мурадзи» – и перешло на некоторое время руководство в общеплеменном союзе. Насколько полным было это руководство усматривается из того, что Канамура всецело руководил даже корейской политикой. При нем в 512 г. княжеству Пякчэ были «уступлены» четыре округа японской Мимана, что явилось началом упадка японского влияния на полуострове. Потеря части Мимана ослабила и положение Канамура, принужденного вести борьбу с соперниками, среди которых наиболее сильным был Мононобэ Аракаи, тоже имевший звание «о-мурадзи». С воцарением Киммэй (539-571) могущество Канамура, а с ним и всего дома Отомо было окончательно подорвано и место Отомо занял дом Мононобэ.
Однако и Мононобэ имели сильных соперников в лице дома Сога. Усиление могущества Сога обнаруживается еще в царствование Ритю (400-405), когда глава этого рода – Сога Мати занимал место в союзе родов Ямато почти рядом с наиболее могущественным тогда – Хэгури Цуку. При Юряку (456-479) в руки дома Сога попало управление упомянутыми выше «тремя сокровищницами», что свидетельствует о чрезвычайном усилении их могущества. В связи с этим во 2-ой половине VI в. наиболее могущественными в общеплеменном союзе оказались эти два дома – Мононгбэ и Сога.
В обстановке того времени столкновение этих двух домов было неизбежно. Поводом к нему обычная японская история выставляет спор из-за буддизма: Сога будто бы были за буддизм, Мононобэ – против. На этой почве между ними вспыхнула борьба, закончившаяся истреблением Мононобэ и полной победой Сога.
Проникновение буддизма из Индии в Китай началось очень давно: уже в период 2-ой Ханьской империи при императоре Мин-ди (58-76) проповедь буддизма была официально допущена. С этого времени из Индии и Тибета в Китай стали переходить буддийские монахи, занимавшиеся проповедью своего вероучения и переводом на китайский язык книг буддийского канона. Очень большое распространение буддизма в Китае отмечается в т. наз. «период пяти варваров» (последние годы Ханьской империи и начало «троецарствия», т.е. III в.) В это время он переходит и в Корею. В период Северного и Южного царства в Китае (IV-VI в.) правители обеих сторон были ревностными последователями буддизма и при их покровительстве это учение получило еще большее распространение. Одновременно идет укрепление буддизма и в Корее, с которой Китай в это время поддерживал самые оживленные сношения. В это же время буддизм попадет и в Японию, куда он проникает из Кореи, бывшей тогда в самых тесных связях с Японией. Официальным годом появления буддизма в Японии считается 552-ой, когда к царю Киммэй были присланы от имени князя Пякчэ в дар буддийские изображения и сутры с убеждением принять новую веру. Однако фактически буддизм стал проникать гораздо раньше: он появился в Японии вместе с китайскими и корейскими переселенцами. Даже японские хроники это отмечают. В них рассказывается о прибытии в 522 году из Южного Лянского царства в Китай рода некоего китайца по имени Сиба Датто, который будто бы построил первый в Японии буддийский храм (в пров. Ямато, где этот род расселился). Впрочем, те же хроники отмечают, что новое учение тогда успехом еще не пользовалось: народ будто бы назвал новых богов «чужестранными богами» и оставался при своих прежних верованиях.
Если продолжать изложение событий так, как они рисуются в хрониках, дальнейший процесс распространения буддизма будто бы развернулся таким образом:
Царь Киммэй, получив послание от князя Пякчэ, собрал на совет наиболее могущественных вождей племенного союза и задал им, согласно изложению Нихонги, следующий вопрос: «Все страны на западе почитают эту веру, неужели одна страна Тоё-Аки-цу-Ямато будет идти против нее?» В ответ на это Мононобэ Окоси, носивший тогда звание «о-мурадзи», будто бы ответил: «Цари нашей страны до сих пор всегда чтили 180 богов неба и земли и весною, летом, осенью и зимой приносили им моления. Если отныне изменить это и начать поклоняться чужеземным богам, боюсь, что это навлечет на нас гнев богов нашей страны». К мнению Мононобэ Окоси присоединился и глава другого сильного дома – Накатоми Камако. В противоположность им вождь Сога Инамэ, бывший в то время «о-оми» склонялся к принятию новой религии. В результате Киммэй отверг мнение сторонников старой религии, решил принять буддизм, отдал Сога Инамэ полученные изображения и сутры и велел ему построить храм и распространять буддизм, что тот и стал делать. Вслед за этим, как повествует Нихонги, в стране начался мор, масса людей умирала. Мононобэ Окоси и Накатоми Камако объявили, что это и есть тот гнев богов, о котором они предупреждали в свое время. Тогда устрашенный царь будто бы повелел им бросить в реку буддийские изображения и сжечь построенные храмы.
Однако все последующие сведения отнюдь не говорят об уничтожении буддизма. Наоборот, несомненно буддизм завоевывает все большие и большие позиции в стране. Сам Киммэй остается ревностным буддистом; в его царствование из Пякчэ приезжают целых девять буддийских монахов; Отомо Садэкико, возвращаясь из похода на Корейский полуостров, привозит с собой буддийские изображения. В царствование Бидацу (572-585) из Пякчэ приезжают буддийские проповедники, скульпторы, архитекторы. Поступают буддийские изображения и из Силла. Словом, все признаки говорят о дальнейшем распространении буддизма.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (29)
Покровителями нового учения по-прежнему выступают главы дома Сога. Сын Инамэ – Умако, действуя вместе с родом Сиба Датто, снова строит храмы, привозит монахов, устраивает богослужения. Нихонги повествует, что вскоре после этого в стране опять начался мор, и это дало повод сыну Мононобэ Окоси – Мория вместе с сыном Накатоми Камако – Кацуми снова приписать это гневу родных богов. В результате Мория и Кацуми сожгли построенные Умако храмы, побросали в реку статуи, избили и разогнали монахов и вынудили Бидацу запретить буддизм.
Борьба домов Мононобэ и Сога, ведшаяся до сих пор из-за буддизма, вскоре возгорелась снова уже по другой причине: вокруг вопроса о престолонаследии. После смерти Бидацу (585) Сога Умако стремился поставить царем принца Оэ, сына своей сестры, бывшей супругой Бидацу. Мононобэ Мория противопоставил этому принца Анахобэ, сына Бидацу от другой жены. Победа оказалась на стороне Сога, и Оэ занял престол под именем царя Иомэй (585-587). Вслед за этим сейчас же был отменен запрет на буддизм, при дворе снова появились монахи. Однако Мононобэ не складывали оружия и после смерти Иомэй (587) снова вместе с Накатоми выступили со своим кандидатом. Борьба окончилась на этот раз полной победой Сога: Сога собрали большие отряды, напали на Мононобэ и в битве у горы Сиги (587) перебили весь род во главе с самим Мория. После этой победы, естественно, на царский престол был поставлен снова ставленник Сога – Сусюн, сын сестры Умако.
Победа над Мононобэ поставила Сога только перед одним соперником – царским домом. В связи с этим борьба переносится в дальнейшем в эту сферу. Нихонги повествует, что царь Сусюн всячески стремился освободиться от опеки Умако и уговаривал другого члена царского рода – принца Умаядо совместно выступить против Сога. Принца Умаядо считал однако такое выступление преждевременным и дал совет: «некоторое время подождать».
Ненависть Сусюна к Сога была настолько сильна, что однажды при поднесении ему в дар кабана у него даже вырвалось восклицание: «Когда же я смогу отрезать голову ненавистному мне человеку, так, как я отрезаю голову этому кабану!» Прослышавший про эти слова Умако решил предупредить события и послал во дворец группу китайцев из рода Адзума-но Ая-но Кома, якобы с данью. Эти китайцы и напали на дворец и убили Сусюна (592). После этого на престол под именем Суйко была поставлена (592-629) жена Бидацу, происходившая по материнской линии из рода Сога. Наследным принцем был объявлен принц Умаядо, вошедший в историю под именем Сётоку-тайси. Таким образом, Сога фактически подчинили себе и царский род и с титулом «о-оми» стали во главе общеплеменного союза. В конце концов, они стали присваивать себе и внешние прерогативы царского дома. После смерти Умако его сын Эмиси поставил царем Дзёмэй (629-641), потом после его смерти (641) – его жену – Когёку (642-645). Сын Эмиси – Ирука, подавил попытку одного из принцев царского дома – Ямасиро-оэ поднять мятеж против Сога, убив его в 643 г., и с этого времени Сога даже присваивают себе название «микадо», бывшее тогда по своему значению равным понятию и «царский дворец» и «царь», членам своего дома присваивают титул «мико», равный тогда понятию «принц». Иначе говоря, с 587 года, после битвы у горы Сиги и уничтожения Мононобэ, власть в общеплеменном союзе прочно переходит в руки Сога, занимающих сначала главенствующее положение под титулом «о-оми», а затем, с 643 года – и под титулом «микадо».
Такова картина событий, разыгравшихся в V-VI веке, представленных в изложении Нихонги. Попытаемся рассмотреть весь ход их при свете тех предпосылок, которые были установлены выше.
Первое, что с несомненностью явствует из изложения, это факт междоусобной войны отдельных японских домов, сменивших друг друга на арене истории. Нихонги их перечисляет в такой последовательности: Кацураги (до 456 г.), Хэгури (до 498 г.), Отомо (до 539 г.), Мононобэ (до 587 г.) и Сога (до 645 г.). Главы этих домов выступают при этом то как «о-оми», то как «о-мурадзи». Необходимо поэтому несколько остановиться на значении этих названий.
«О-мурадзи» – буквально – «Великий Мурадзи», является главою всех «мурадзи»; совершенно также «О-оми», «Великий Оми», был главою всех «оми». Кто такие эти мурадзи и оми?
Согласно обычной версии это – две группы родов, занимавших еще в глубокой древности главенствующее положение среди японского племени. Мурадзи восходят по этой версии частично к тем родам, которые еще до этого обитали в Ямато, а также к тем, которые издавна жили в Идзумо. Они считаются восходящими родами, восходящими к тому же родоначальнику, что и царский род, т.е. к богине Аматэрасу.
В связи с численным увеличением японских родов и их распадом на «малые роды», образовалось понятие «большого рода», иначе говоря, старшей ветви. Главы этой старшей ветви, занимавшие положение глав всего рода в целом, и стали называться «Великими Мурадзи» или «Великими Оми». В дальнейшем, в связи с объединением родов в один общеплеменной союз, естественно получилось, что главы этих могущественных родов или даже группы родов заняли первые места в этом союзе и те наименования, которые они носили как главы своих родов, получили теперь общеплеменное значение, т.е. превратились в обозначение носителей каких-то общеплеменных функций, иначе говоря – в некое подобие должностных обозначений. Вместе с тем в связи с развитием системы «кабанэ», т.е. сословных обозначений, эти звания приобрели оттенок близкий к понятию титула. Как видно из хроник, звание «О-оми» было в руках дома Хэгури, затем Сога; звание «о-мурадзи» – в руках Отомо и Мононобэ. Благодаря этому период V-VI в., когда происходила борьба этих домов, часто даже и называют «периодом о-оми и о-мурадзи».
Присмотримся теперь ко всем этим «домам» несколько ближе. Очень часто японские историки говорят о том, что роды Отомо и Мононобэ «ведали военным делом» в «государстве царей Ямато»; род же Сога будто бы «ведал гражданским управлением». В самом деле, нет никаких сомнений, что роды Отомо и Мононобэ имели какое-то отношение к военному делу. Что это значит? Это значит, что этими именами назывались дружины, находившиеся в распоряжении царей Ямато. Еще в сказании о Дзимму упоминается, что этот царь, организуя после завоевания Ямато основанное им «государство», поручил трем родам из пришедших вместе с ним – роду Мити-но оми и О-кумэ «охранять ворота своего дворца», а роду Умаси-модэ – нести внутреннюю стражу. Род Отомо по традиционной генеалогии – восходит именно к Мити-но оми, причем с ним вместе слился и род О-кумэ; род же Мононобэ восходит к Умаси-мадэ. Таким образом, два главнейших дома из числа тех, кто действовал в изложенной «борьбе домов», оказываются просто дружинами царей. Из кого состояли эти дружины? Один из авторитетных историков Японии и при этом из числа самых лояльных к официальной исторической традиции – проф. Кита доказывает, что «Отомо, Мононобэ, Саэги и им подобные дружинники брались из числа презираемых инородческих племен. Так, например, общеизвестно, что Саэги-бэ составлялись из Эбису, Кумэ-бэ из Хаято, Отомо-бэ, управлявшие Кумэ-бэ, в своей большей части, подобно Кумэ-бэ, происходили из Хаято. И в дальнейшем в большинстве случаев дружины формировались из Эбису…» (см. статью проф. Кита в журнале «Рэкиси тири», за март 15 г. Тайсё).
Итак, эти «дома» – не более чем дружины, сформированные царями Ямато, да при этом еще из инородцев – Эбису и Хаято. Чем это объясняется? По мнению Кита, тем, что «варвары, живущие на окраинах, по своей природе храбры как леопарды, и очень подходящи для того, чтобы быть военными». Может быть, древние Эбису и Хаято и действительно были «храбры как леопарды», но важнее то, что существование таких дружин знаменует появление отрядов, составленных из рабов. Иного положения в союзе родов Ямато инородцы никогда не занимали. Кроме того, на то, что это были рабы – и притом обычного для того времени типа – указывает и само их обозначение: они все обозначались словом «бэ» – Кумэ-бэ, Саэги-бэ, Отомо-бэ, Моно-но-бэ. Иначе говоря, все это были разные группы томобэ, а их вожди, игравшие столь большую роль в событиях V-VI в., присвоившие себе звания «великих оми», «великих мурадзи» – томо-но мияцуко, предводители рабов.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (30)
Кто такие были Сога? По обычной генеалогии они составляют одну из ветвей рода «канцлера царицы Дзинго» – Такэноути-но сукунэ. Вместе с тем, как это явствует из хроник и как это единогласно подчеркивают все современные историки, своим возвышением Сога обязаны тому, что при Юряку они стали заведывать «тремя царскими сокровищницами» и сохранили это свое положением и в дальнейшем – до самого своего падения (в 645 г.).
Каким образом появились эти «царские сокровищницы» и чем они наполнены? Ответ на этот вопрос уже дан в предыдущем изложении. Из Кореи и из Китая с давних пор, а в особенности – в V-VI в., в Японию переходили группы – иногда очень многочисленные – переселенцев. Они приносили на свою новую родину новые земледельческие орудия – железную мотыгу и лопату, знание устройства более совершенных оросительных сооружений, т.е. знание более высокой земледельческой техники; они принесли с собой шелководство, высоко развитое ткацкое искусство, гончарное, оружие и вместе с ним искусство его изготовлять. Эти иноземцы, как было описано выше, в большинстве случаев становились на положение томобэ и какибэ, т.е. рабов, находящихся в распоряжении родовой знати, прежде всего – царского дома. Благодаря им в распоряжение царей стала поступать обильная и всевозможная дань. Из Нихонги мы узнаем, что род Хата, собранный Юряку в одном месте, поставлял вместе с родом Вани такое количество предметов, что для хранения их при Ритю пришлось построить целую «внутреннюю сокровищницу». Далее, корейские походы давали также иногда довольно большую добычу; вообще обмен, который велся с корейскими княжествами под видом «дани», также давал немало имущества. О размерах этой дани можно судить по описанию похода Дзинго, когда с Кореи будто бы было взято «восемьдесят кораблей с данью»; при Нинтоку же из Силла будто бы поступило однажды 1464 штуки одной шелковой ткани. Увеличение числа томобэ, а, следовательно, и поступлений от них, а также начавшееся поступление налогов и податей от свободного населения, заставили при Юряку выстроить в дополнение к «священной сокровищнице» и «внутренней сокровищнице» выстроить еще «большую сокровищницу».
Сога заведывали этими тремя сокровищницами. Кем же были эти Сога?
Ито Дзохэй в своей работе «Процесс образования японского государства» пишет: «то, что Сога смогли победить Мононобэ и высоко вознести свое могущество, обуславливается тем, что они тесно слились с заведующими т. наз. „тремя сокровищницами“ – „священной“, „внутренней“ и „большой“, в особенности же – с потомками Ати-но оми и Вани, в чьих руках находилось заведывание „внутренней сокровищницей“, где хранилась дань, поступающая из Кореи, и родом Хата, заведывавшим „большой сокровищницей“, и смогли привлечь их под свои знамена», (Ито Дзохэй, Ниппон кокка-но сэйрицу катэй, стр. 153-154). В этих словах Ито важно полное признание факта «тесного слияния» дома Сога с родами Ати-но оми, Вани и Хата, т.е. с главнейшими группами переселенцев китайского происхождения. Присоединим к этому наблюдению Ито еще два дополняющих: вспомним указание Нихонги, что Сога Умако в насаждении буддизма действовал совместно с родом Сиба Датто, т.е. также группой переселенцев китайского происхождения; вспомним также сообщение той же Нихонги о том, что царь Сусюн был убит по наущению Умако ни кем иным, как отрядом потомков переселенца из Китая – Адзума-но Ая-но Кома. Соединяя все эти факты вместе, не проще ли сказать, что т. наз. дом Сога был мощной группой потомков китайских переселенцев или их возглавлял? А если так, каково было их место в общественном строе V-VII в.? Совершенно очевидно, что они не могли быть ничем иным, как томобэ, т.е. рабами. На это указывает и их название – Сога-бэ. Если же так, то основными действующими лицами в V-VII в. были группы рабов со своими вождями. Иными словами, основное движение этих веков – движение томобэ и какибэ. При этом совершенно не важна личная генеалогия тех, кто стоял во главе этого движения. Пусть все эти Мононобэ Мория, Сога Уиако, Сога Эмиси и Сога Ирука сами лично не были рабами, а наоборот, принадлежали к родовой знати, важно то, чье движение они возглавляли.
Движение томобэ и какибэ, согласно изложенном выше, в течение этого времени велось пока с одной целью: захвата власти в общеплеменном союзе. Эта цель предопределялась в известной мере личностью их вождей, для которых захват власти означал и богатство и силу. С другой стороны, это движение на первых порах тесно переплеталось с междоусобной борьбой японской родовой знати, бывших старейшин, теперь ставших владельцами и своих полей, и своих рабов. Иначе говоря, самостоятельная и основная цель движения – освобождение рабов – пока не выступала на первый план.
Чем объясняется появление на арене именно этих домов, а не других? Из изложенного явствует, что выступали те дома, которые либо обладали большой воинской силой, либо богатством. Воинская сила составляла могущество Отомо, а затем Мононобэ; богатство составляло силу Сога. Кто же должен был победить из них? Тот, на чьей стороне была еще культура. Дружины Мононобэ состояли из Эбису и Хаято, хотя и «храбрых как леопарды», но все же (особенно Эбису) «варваров» в сравнении с потомками Ати-но оми, Хата, Сиба Датто, из которых слагался лагерь Сога. На стороне Сога были и представители «просвещения» того времени – потомки Вани, царские «писцы» и «историографы». Кроме того, первые были представителями старинной примитивной религии синто, культа стихий природы и культа предков, соединенного с древним родовым строем: вторые были представителями нового учения – буддизма, сопряженного в Китае и Корее с более высоким общественным строем – феодализмом. Всем этим вполне объясняется, что Сога оказались победителями. Победа Сога, захват ими власти в складывающемся государстве означает то, что движение томобэ достигло своей первой цели: оно окончательно подорвало последние остатки родового строя, нанесло решительный удар политической форме общеплеменного союза, подготовило сформирование государства и поставило во главе этого формирующегося государства наиболее передовые слои тогдашнего общества.