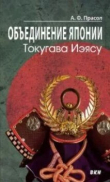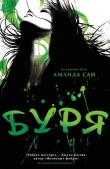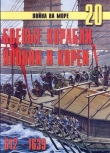Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (17)
Развернувшийся полным ходом распад Цзиньской империи тем временем снова отразился на положении дел на полуострове. На этот раз разгорелась борьба между Когурё и Пякчэ. Когурё при этом опиралось на помощь княжества Цинь, возникшего на севере Китая в 350 г. Пякчэ же стремилось опереться на Вост. Цзиньскую империю. Однако, Вост. Цзинь, находившееся в стадии распада, не могла оказать нужной помощи, и Пякчэ, оказавшееся под ударами Когурё и Силла, вынуждено было искать помощи у Японии. Нихонги представляет это событие как изъявление покорности и представление дани. Так или иначе был предпринят новый поход, в первую очередь против Силла, в котором японцы действовали совместно со своими союзниками – Пякчэ. В результате этого похода некоторые районы Силла отошли к Пякчэ, японцы же расширили сферу своего влияния в Мимана, включив туда еще семь из десяти владений, составлявших этот район.
Однако насколько это покорение было непрочным и сводилось, по-видимому, к более или менее удачным грабежам, показывает дальнейшая история, даже в том виде, как она излагается Нихонги. Все время приводятся сообщения о прекращении поступления дани, что вызывает новые походы. В 382 году был предпринят поход против Силла (поход Кацураги-но Соцухико). В 391-392 гг. была предпринята экспедиция и против Силла, и против Пякчэ, которые также отказались платить дань (поход Ки-но Цуну, Хата-но Ясиро, Согано Исикава, Хэгури-но Дзуку). В 397 году – новая экспедиция – совместно с Пякчэ против Силла, сумевшей привлечь к себе на помощь Когурё. Отдельные походы продолжаются и в дальнейшем, причем соотношение сил обычно слагалось так, что на одной стороне были Силла с Когурё, на другой – Пякчэ и Япония.
Эти сношения с корейскими княжествами имели огромное значение для внутренней истории Японии. Прежде всего они обогащали вождей походов, а также царей Ямато: награбленная добыча или «дань» распределялась в первую очередь между ними. С другой стороны, из Кореи – то в виде пленных, то заложников, то послов – в Японии появились представители народа, у которого было уже сравнительно высоко развито ремесло, хорошее знакомство с китайской грамотой (иероглифическая письменность), знание китайской политической и морально-философской литературы и т.д. Хорошо известно, что целью набегов бывало не только взятие добычи или наложение дани, но захват ремесленников, из которых формировались группы «бэ» – несвободных, призванных обслуживать старейшин и царей. Происходило в довольно значительном количестве и мирное переселение из Кореи и даже Китая, причем эти переселенцы расселялись среди японского населения. Все это ускоряло темп и хозяйственного, и политического, и культурного развития Японии.
Японская история особенно отмечает факт прибытия в 399 г. из Пякчэ посланца Атики, поднесшего японскому царю от своего князя «добрый коней». Этот посланец остался в Японии и был поставлен «заведующим конским двором», а вместе с этим и учителем наследного принца, которому он преподавал китайскую грамоту. По его совету в 400г. из Кореи был выписан более сведущий человек – Вани, которому и было поручено обучение и воспитание царских детей. Вслед за ним появился и третий «ученый» – Синсон-о. Их потомки в дальнейшем получили официального звание «людей грамоты» («фухито») и стали главными распространителями китайского просвещения среди членов царского рода и вообще верхних слоев тогдашнего общества.
Из крупных переселений можно указать на переселение в начале V века из Пякчэ многочисленного китайского рода, названного в японских памятниках родом Хата (в дальнейшем – Уцумаса); глава этого рода – Юдзуки-но кими будто бы привел с собой население целых 127 округов. Другим крупным переселением был переход в Японию тоже китайского рода, возглавляемого Ати-но оми и его сыном Цуга-но оми, которые привели с собой население 17 округов. Японские хроники отмечают, что эти переселения дали сильный толчок развитию в Японии шелководства. Вместе с тем потомки Ати-но оми заняли наряду с потомками Вани положение «царских писцов» и историографов.
Все это приурочивается к царствованию Одзин. В царствование следующего царя – Ритю «люди грамотны» были поставлены будто бы по всем провинциям, причем ими были обычно либо корейцы, либо китайцы. При Кэйтай отмечается прибытие четырех ученых из Китая – толкователей классической конфуцианской политико-философской литературы.
Наряду с этими добровольными переселениями идет принудительное – в форме дани. Так, например, при Одзин князь Пякчэ будто бы поднес в виде дани ткачих и портных; в дальнейшем отмечается присылка кузнецов, корабельных мастеров. Со своей стороны и японские цари стремятся сами выписывать из-за моря нужных им мастеров. Так, например, тому же Одзину приписывается отправление в Китай, в царство У недавно прибывших в Японию Ати-но оми с сыном с поручением им ввывезти оттуда ткачих-портных, так и вошедших в хроники под названием «ткачих из У» (Курэ-Хатори). Из этого же царства У выписывал портных и ткачих и Юряку. ("ткачихи из У – Курэ-Хатори и «ткачихи из Хань» – Ая-Хатори). При нем из Пякчэ прибыло много гончаров, седельных мастеров, живописцев, вышивальщиков, Еще до этого, при Одзин из Кореи прибыли ткачи и винокуры. Есть упоминание и о появлении китайских и корейских лекарей. С именем Юряку связываются особые заботы о развитии шелководства. Рассказ Нихонги позволяет догадываться, с чем это было соединено. Юряку будто бы собрал расселившийся в разных местах род Хата, насчитывавший к тому времени в своем составе 18670 человек, и поселил их вместе, приказав им заниматься шелководством и тканьем шелковой материи и поставлять свои изделия двору. Очевидно, это мероприятие означало то, что эти переселенцы, в первое время – свободные, теперь превратились в несвободных и принуждены были обслуживать царский род.
Насколько этот внешний грабеж и внутренняя дань увеличили богатство царей Ямато, обнаруживается в той «реформе» хозяйственного управления, о которой упоминалось в предшествующем изложении.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (18)
Со времен древности идет существование в царском роде «священной сокровищницы» (Имикура), где хранились «сокровища царского дома» – в том числе и принадлежности культа. Добыча от набегов и поступления дани с Кореи, развитие поступлений с населения заставили царя Ритю организовать особую «внутреннюю сокровищницу» (утикура), причем описью и хранением этого имущества заведывали Ати-но оми и Вани. При Юряку в дополнение к этим двум была устроена «большая сокровищница» (окура), с учреждением которой имущество, составлявшее непосредственную собственность царского рода, было отделено от государственного достояния. Как известно, заведывать этими «тремя сокровищницами» был «поставлен» Сога Мати.
В V в. обстановка в Корее снова несколько меняется. Продолжающееся усиление северного княжества Когурё, угрожающее обоим княжествам Силла и Пякчэ, вынуждает их на время прекратить борьбу между собой и объединиться против Когурё. Это сближение явственно обнаруживается в 433 году. В 454 году Пякчэ подвергается сильнейшему разгрому от Когурё, и если не гибнет окончательно, то только благодаря помощи Силла.
Как китайские, так и японские источники отмечают в эти годы (напр., в 433, 444) очередные экспедиции японцев на полуостров, причем предпринимаются они против Силла. С другой стороны, если верить китайским источникам (Сун-шу – «Истории Сунского царства» в Китае), то в течение всего V-го века японцы ведут самые оживленные сношения с Южным Китаем. Прибытие японцев отмечается в 412, 425, 443, 451, 462, 478 гг., что должно соответствовать правлению царей Ритю, Хансё, Инкё, Анко, Юряку. Сведения о посланцах, направляемых в Китай, встречаются в это время и в японских хрониках; таковы, например, оба посольства Юряку за «ткачихами». Несомненно, V-й век – эпоха самых оживленных сношений не только с Кореей, но и с Китаем.
Однако во второй половине V века положение на полуострове начинает складываться для японцев неблагополучно. Сближение Пякчэ с Силла означает угрозу потери Японией своего влияния в этом княжестве. Правда, в 475 году происходит новое нападение Когурё на Пякчэ, ставящее это княжество снова под угрозу гибели, чем и пользуются японцы, приходящие на «помощь» Пякчэ в 477 году. Однако, это восстановление влияния Японии оказывается непрочным. Дело в том, что к этому времени у Японии оказывается подорванной ее опорная база на полуострове – Мимана. В 463 году японский правитель Мимана – Киби-но Таса поднимает мятеж против царей Ямато, т.е. отказывается пересылать дань. Снаряжается большая экспедиция против него, но она не достигает своей цели. Нихонги упоминают, что Киби-но Таса пользовался поддержкой Силла. Это обстоятельство заставляет предположить, – особенно при свете дальнейших событий, что этот мятеж был скорее делом рук Силла.
С началом VI века начинается уже окончательная ликвидация японской власти на полуострове; в 512 г. Пякчэ присоединяет к себе 4 района Мимана, в 513 – еще два; тогда же к Силла отходят три района. В 527 году японцы делают попытку вернуть утерянное – снаряжается экспедиция под начальством Оми-но Кэну, но в это время развертывается мятеж одного из местных правителей – Иваки на Кюсю. Этот мятеж, правда, в 528 г. подавлен, но Кэну терпит в Мимана полное поражение от войск Пякчэ и Силла. В 562 году под ударом Силла падают последние остатки власти японцев, и японская Мимана на полуострове перестает существовать.
Сношения с Кореей на этом, конечно, не прекращаются. Оттуда продолжают переходить в Японию целые группы переселенцев, среди которых много ремесленников, буддийских монахов, учителей грамоты. Путешествуют и японцы, как в Корею, так и в Китай. Иначе говоря, прежний процесс взаимного общения продолжается. Последующие правители Японии предпринимают даже попытки как-либо восстановить на полуострове прежнее положение. Пускаются в ход различные дипломатические средства, ведутся политические переговоры, предпринимаются даже военные экспедиции. Однако восстановить японскую Мимана не удается.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (19)
РАСПАД РОДОВОГО СТРОЯ.
История японского народа по II-IV стол. характеризуется постепенным образованием и развитием племенного союза в изложенном смысле этого слова. Вместе с тем в эти же века происходил медленный, но неуклонный процесс трансформации ранней формы родового строя.
Прежде всего необходимо отметить численный рост родов. Это усматривается из того, что в эти времена наблюдается разветвление прежде всего единого рода на ряд «дочерних» родов. Так, например, род царей Ямато стал слагаться из более, чем 10 ветвей, выступавших на положении самостоятельных родовых групп. От царского рода пошли роды Отикоти, Овари, Касуга, Киби, Абэ и ряд других. Род Мононобэ был настолько разветвлен, что за ним установилось даже прозвище: Хатаибэ-но Мононобэ, Ясо-Мононобэ, т.е. «25 Мононгбэ, 80 Мононобэ». По многим признакам можно судить, что именно эти «дочерние роды» «малые роды» (коудзи) – как они назывались по отношению к «большому роду» (соудзи) – являлись главными действующими лицами истории. К такому заключению приводят не только общие экономические соображения, но и факты из истории завоеваний. В тех случаях, когда рисуется какое-нибудь завоевание, какой-нибудь поход, этот поход является предприятием именно отдельной ветви какого-нибудь рода. Так, например, оседание рода Имубэ в Исэ рассматривется в «Исэ Фудоки», как покорение этой территории лишь одной частью большого рода Имубэ, с тех пор и получившей свое отличительное наименование – Исэ-Имубэ. Покорение Кюсю, имевшее место уже после «Восточного похода» Дзимму, т.е. после оседания главной массы племени в Ямато, приписывается опять-таки не старшей ветви царского рода, а одному из родов, ответвившихся от него – роду Та. Покореие Северных и Восточных районов осуществлялось непосредственно также одной ветвью царского рода – родом Абэ. Район Тамба был приведен в покорность другой ветвью – родом Тамба и т.д.
Рост родов, ответвление от «материнского» рода «дочерних» родов, появление «малых родов», отколовшихся от «больших родов» находит свое подтверждение и в данных языка. Мацуока Сидзуо в своем «Словаре древнего японоского языка» (Ниппон кого дайдзитэн) говорит следующее: «До того, как появились отдельные семьи, род представлял одну большую семью. Но в силу необходимости с точки зрения своего расселения, он должен был распадаться на некоторое количество небольших групп. Например, члены рода Сога по своему местожительству распадались на Сога из Исикава, Сога из Кавабэ, из Сакураи, из Танака, Кумэ, Охарида. В противоположность „укара“ (большому роду) эти малые роды как будто назывались „якара“. В Палау в Тихом океане такой малый род называют „ира“ или „эра“. Не было ли и у нас в древности подобного же слова? Если толковать „иро“ в словах „иросэ“, „иромо“, „иронэ“, „ирото“ в этом именно смысле, все очень хорошо объясняется». (ук. работа, стр. 235).
"Хотя и нельзя считать это вполне установленным, но все же слово «иро», по-видимому, являлось обозначением группы кровных родственников, занимающей среднее положение между родом и семьей. Для обозначения различия по полу к мужчинам прилагалось слово «иросэ», к женщинам – «иромо»; для обозначения различия по возрасту к старшим прилагалось слово «иронэ», к младшим – «ирото» (ук. работа, стр. 237).
Если Мацуока прав, наличие особого наименования для таких малых родов свидетельствует об их полной эмансипации от главного рода и о их фактически обособленном существовании.
Внутри японского рода за эти столетия также произошли значительные изменения. Прежде всего необходимо отметить закрепление патриархата. Патриархат становится безусловно ведущей формой общественного строя, и матриархат, если и существует еще, то либо в виде остатков прежней системы, либо в виде ее пережитков. Старейшины родов – уже всюду мужчины, причем раньше всего такой порядок установился в родах, заселяющих Ямато, т.е. в наиболее передовой части племени. Однако, порядок перехода старшинства от отца к старшему сыну еще не соблюдался. Один из лучших знатоков древнего общества в Японии Ота Акира в своей работе «Древнейший родовой строй в Японии» (Ниппон кодай сидзоку сейдо) ясно показывает, что за все время – начиная с Ниниги до самого Нинтоку – не было случая, чтобы из двух братьев старшинство переходило обязательно к старшему (стр. 242-246 указанной работы). То же самое усматривается и в родах Мононобэ, Кацураги и ряде других.
Чем это объясняется? Ито Дзохэй в своей работе «Процесс образования японского государства» (Ниппон кокка-но сэйрицу катэй", стр. 118-1196) приводит следующие соображения: "Это означает, во-первых, то, что еще держались предания первоначального родового строя, когда отношения главы рода и членов рода были почти равноправными. Если бы уже зародилось положение, характерное для позднейших времен, когда отношения между главой рода и членами рода напоминали отношение хозяина к рабам, трудно было бы допустить, чтобы старший в роде, старший сын, имевший больший опыт, чем прочие, с такой легкостью отказывался от прав наследования и подчинялся власти своего младшего брата.
Это означает, во-первых, то, что еще не существовало закрепленного частного имущества главы рода. Если бы глава рода таким частным имуществом владел, положение главы рода было бы чрезвычайно выгодным. И старший сын должен был бы тогда для того, чтобы добиться положения главы рода, не устраивать себе новую жизнь на земле, отделенной от места поселения рода, а оставаться на все время на той же земле, что и его отец". Действительно, в те времена было, по-видимому, правилом, что сыновья вообще селились отдельно от рода отца и часто превращались в дальнейшем в основателей своих собственных родов. Так, например, изображается появление рода Хата, Косэ, Сога, Хэгури, Ки, Кацураги – восходящих к шести сыновьям Такэноути-но сукунэ – знаменитого «канцлера» царицы Дзинго. Обратным свидетельством правильности положения Ито об отсутствии в этот период частного имущества, прочно закрепленного за старейшинами, служит факт появления ожесточенных распрей именно на почве наследования тогда, когда частное имущество уже несомненно было. Хорошим примером такой распри может служить междоусобная борьба за «престол», разразившаяся после смерти Тюай и рождения его женой Дзинго сына – будущего царя Одзин. Как известно, Дзинго предпочла сделать наследником Тюай именно своего сына, с чем не могли примириться два сына Тюай от другой жены – принцы Кагосака и Осикума, рашившие защищать свои права оружием. Произошла междоусобная война, закончившаяся, как известно, победой Дзинго, вернее победой Такэноути-но сукунэ, выступившего защитником прав ее сына. Сходная борьба отмечается при воцарении Нинтоку и в особенности при воцарении Юряку.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (20)
Увеличение численного состава родов, распад их на отдельные ветви, иначе говоря – рост населения и освоение им новых территорий сопровождались развитием земледелия. Об этом развитии говорят между прочим хроники Кодзики и Нихонги, излагая события, конечно, своим языком: они неустанно повествуют о мероприятиях по поощрению земледелия, проводимых царями. В изложении этих хроник древние цари Ямато неустанно заботились о развитии земледелия. Они стремились вводить новые, улучшенные способы обработки земли, устраивали всякие оросительные сооружения – проводили оросительные каналы, копали пруды-водохранилища, всячески содействовали разработке новых и т.п. Подобные мероприятия приписываются царям Судзин, Суйнин, Нинтоку, Кэйтай, Юряку и др. Это означает, во-первых, что главной сельскохозяйственной культурой был рис, так как именно он требует особого орошения; во-вторых, что неиспользованных мест, где не нужно было проводить искусственного орошение становилось все меньше; в третьих, что население уже прочно сидело на своих местах и поэтому принуждено было не отыскивать земли с естественным орошением, а стараться обрабатывать те участки, которые были в его распоряжении.
Наряду с земледелием развивалось, по-видимому, и скотоводство. Хронике Кэнсо (V в.) даже содержится фраза: «воды и кони покрывали поля».
В этих условиях увеличившегося численно, прочно осевшего на земле и занятого земледелием населения, завоевательный процесс постепенно стал принимать другую форму и приводить к иным результатам. До сих пор столкновение двух враждующих групп населения приводило обычно к какому-либо одному из трех следствий: покоренный род либо уничтожался, либо оттеснялся в другие места, либо включался в союз родов-победителей. Так, например, завоевание Ямато царем Дзимму сопровождалось истреблением родов Эукаси и Томибико, оказавших сопротивление. Род же Мононобэ был принят в союз победителей. В результате борьбы родов Ямато и Идзумо, род Идзумо слился с победителями. Примером оттеснения может служить судьба Исэ-цу хико – старейшины одного из родов, живших в Исэ; с появление в этих местах одной из ветвей рода Имубэ он принужден был бежать в Хитати.
В изменившихся условиях трудно было уничтожить весь враждебный род или прогнать его с места. Помимо того, это было и нецелесообразно, поскольку каждый такой род обрабатывал землю. Поэтому вместо истребления или оттеснения победители стали взимать дань с покоренных, т.е. грабить их, и делали это, в зависимости от условий, либо единовременно, либо периодически. Таким образом, появились роды-данники. С точки зрения победителей они являлись особыми группами – данников, т.наз. «бэ». Платившие дань царскому роду назывались «томобэ», платившие дань другим родам – «какибэ».
Вопрос о «бэ» представляется исключительно сложным. Его касались очень многие из историков и тем не менее полной ясности в нем еще нет до сих пор, несмотря на обилие работ, посвященных ему. Мне кажется, что путь к правильному решению идет через историю в точном смысле этого слова: при выяснении того, кто такие «бэ» нужно учитывать разные исторические эпохи и учесть, что «бэ» на первых порах не то, что «бэ» в более позднюю, особенно в предтайковскую эпоху.
Первоначальные «бэ» – это «томобэ», т.е. группы (несомненно родовые), платившие дань другому (в данном случае царскому) роду. Кроме этой обязанности представлять дань, они ничем не отличались от рода-завоевателя. Конечно, это положение в дальнейшем сказалось и на их внутренней структуре, но это обнаружилось значительно позже.
Ота Акира в своей работе «Новое изучение древней истории Японии» (Ниппон кодайси синкэнкю) удостоверяет, что даже позднейшие томобэ долго сохраняли своего собственного удзигами, т.е. бога-родоначальника; более того, что даже в позднейшие времена случалось, что назначаемые «управляющие» этими томобэ – т.наз. томо-но мияцуко принимали этого бога-родоначальника, т.е. включались в родовую общину своих управляемых. О том, что на первых порах наложение дани ничего не меняло во внутренней организации рода, свидетельствует и тот факт, что очень много примеров, когда «управляющими» (томо-но мияцуко) этими родами-данниками являлись их собственные старейшины. Это значит, что если весь род-данник был для покорителей «томобэ», глава его был томо-но мияцуко. Только при такой точке становилось понятным, почему название «бэ» прилагалось к родам, весьма сильным и могущественным. Достаточно упомянуть такие роды, как Мононобэ, Имубэ, Тамацукурибэ, Кагами-цукурибэ. Даже род Накатоми часто называется Накатомибэ. Также и род Сога – Согабэ. Это отнюдь не были рабы или крепостные царей, это были совершенно самостоятельные роды, только исторически поставленные в особые отношения к царскому роду. Исторически они либо с давних времен входили в союз родов, озглавляемый родом царей Ямато, либо были включены – на началах покорения – в этот союз впоследствии. Их особое – в известной мере служебное положение по отношению к царскому роду выражалось в том, что они либо несли известные функции по обслуживанию этого рода, либо представляли дань. Так, Мононобэ составляли ближайшую дружину царей, Накатомибэ и Имубэ ведали культом; Тамадзукурибэ и Кагамидзукурибэ представляли украшения и металлические зеркала. Это не значило, что весь род занимался выделкой этих вещей; это означало только то, что среди членов этого рода было развито именно это ремесло и поэтому именно этими изделиями весь род и платил дань. Во всем прочем эти роды были совершенно самостоятельны, нередко – как, например, Мононобэ и Имубэ – очень многочисленны и сами имели своих какибэ – данников.