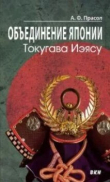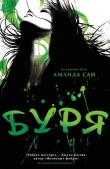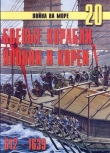Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (25)
Это сближение с илотами требует, конечно, большой проверки, тем более, что слишком много отличий в общественном устройстве древней Спарты и древней Японии. Однако, во всяком случае, как мне кажется, ясно, что если бэ (имея в виду бэ в позднюю эпоху) действительно следует признать рабами, то все же не в том смысле, как мы понимаем античное рабство. Но все это – одна из форм рабства и поскольку этот период – V, VI и начало VII в. ознаменован именно развитием такого рабства, поскольку именно оно составляло то новое, что характерно для этих веков и чего нет ни до – в эпоху родового строя, ни после – в эпоху надельной системы, постольку эти века можно в известном смысле назвать эпохой рабовладельчества, не получившего ни значения единственной формы социально-экономического строя, ни развития в дальнейшем. Феодальные элементы, созревавшие в этом строе, выступили в дальнейшем на первое место и не дали японскому рабовладельчеству развиться до степени особой рабовладельческой формации.
К сказанному необходимо добавить несколько слов о тех, к кому обычно применяется слово «рабы» – о так наз. яцуко, как показывает значение этого слова, яцуко – домашние слуги и служанки. Они составляли собственность своего владельца и находились всецело в его распоряжении. Никакого серьезного значения для производства они не имели. Это явствует между прочим и из правового положения, если о таком можно говорить. Различие в положении яцуко и бэ обычно определяют так: яцуко можно было распоряжаться как вещью, т.е. их можно было продавать, наказывать, дарить, а также убивать; бэ же нельзя было ни убивать, ни даже продавать и наказывать. Такая формулировка, принятая в большинстве работ, должна быть понимаема так: поскольку бэ были неотделимы от земли, их отдельно от земли действительно нельзя было ни продавать, ни наказывать; но вместе с землей их можно было, как я показал выше, передавать другому; то же обстоятельство, что яцуко можно было продавать, свидетельствует как раз о том, что они не имели касательства к земледелию, т.е. к основному производству той эпохи; о том же говорит и право их убивать, при одновременном запрещении убивать бэ; эти последние были слишком ценны, как занимавшиеся основным видом производительной деятельности. Из этого же всего следует, что рабство в эту эпоху надлежит искать не в яцуко, а в бэ.
БОРЬБА РОДОВ в V-VI в.
Как было выяснено в предшествующем изложении, V, VI и начало VII века представляют картину окончательного распада родового строя. Этот распад вызван появлением внутри родового строя рабовладельчества, разложившего родовую общину, но не развившегося до степени самостоятельной социально-экономической формации. Вместе с тем наряду с этим рабовладельческим укладом внутри того же родового строя созревали элементы феодальных производственных отношений. Рабовладельческие тенденции нашли свое выражение в системе томобэ и какибэ, феодальные – в установлении для некоторой части свободного населения – родичей налога и отработочной повинности. Как это известно из дальнейшего, в окончательном итоге возобладали феодальные тенденции, и в середине VII они были утверждены путем политического переворота, известного под именем «переворота Тайка» (645 г.).
Эти столетия представляют таким образом исключительный интерес, так как именно в это время происходит и созревание рабовладельческих и феодальных тенденций, и их борьба, и окончательное оформление антагонистического общественного строя – классов, и сформирование государства, уже не того примитивного «государства», которое сводилось к союзу родов, державшему на положении данников другие роды, но государства в точном смысле этого слова.
Распад родового строя нашел свое выражение прежде всего в разложении родовой общины. Ее сменила соседская община. В основе это было вызвано ростом населения, увеличением потребностей, запашкой новых земель и тем переворотом, который был внесен в хозяйство новой, пришедшей из-за моря техникой: корейские и китайские переселенцы приносили с собой, как это было сказано раньше, более совершенные, чем в Японии земледельческие орудия и новые, более совершенные способы обработки земли. Огромную роль сыграли появившиеся и растущие в своем числе рабы: они окончательно подорвали прежнюю родовую общину как основную экономическую единицу общественного строя.
Об этом изменении характера общины можно судить и по истории японских поселений. Основной формой совместного поселения, идущей с глубокой древности, является «мура» – селение. Первоначально это была группа совместно живущих кровных родственников; иначе говоря, понятие селения совпадало с понятием родовой общины. Первый шаг на пути к разрушению этой общины составляло отделение части родовой общины и поселение ее на новых местах; это имело место в связи с необходимостью расширить количество обрабатываемых земель. В дальнейшем при царских «миякэ» или соответствующих «складах-конторах» вождей крупных родов стали зарождаться поселки нового типа, составленные из землепашцев, работающих на царских полях – «мита» или на землях старейшин – наридокоро или тадокоро.
Отдельными поселками селились пришельцы из-за моря – корейцы и китайцы, отнюдь не обязательно составлявшие каждый раз кровные группы. Наконец, существовали и поселки, образованные группами подневольных мастеров-ремесленников, поставляющих свои изделия царям или другим членам родовой знати. Возможны, наконец, и особые поселки пленников – из числа Кумасо и Эбису.
Насколько можно судить по Кодзики и Нихонги, в этих селениях, превратившихся в соседскую общину, сформировались даже свои органы управления, построенные на началах, отличных от тех, на которых строится управление родовой общиной. В селениях появились свои «старосты» – «мура-но обито» или «инаги»; в селениях, образованных переселенцами, они назывались «сугури». Конечно, во многих случаях эти новые «старосты» происходили из тех же прежних «старейшин», но это было, во-первых, не обязательно, а во-вторых, – это главное, – их функции уже были несколько иные.
Изменение характера общины, появление в ней нового типа самоуправления, повлекло за собою дальнейшие следствия: главы прежних крупных родов, родовые старейшины, стремились подчинить своему влиянию уже не свою родовую общину, фактически распадавшуюся или распавшуюся, а соседскую. Это приводило к тому, что они начали превращаться в своего рода правителей отдельных районов. Мы знаем их под именами «агатануси» и «куни-но мияцуко», которыми выражалось и их новое положение и их отношение к царям: так их называли цари, которым они обязаны были представлять дань. Появление этих местных «правителей» также есть один из показателей изменения родовой общины.
Дальнейшее развитие этого процесса постепенно привело к дифференциации и внутри соседской общины. Увеличение населения, – особенно в связи с включением в состав общины значительного числа рабов, – часто делало невозможным совместную обработку земли и совместное ведение хозяйства. В результате община стала распадаться на семьи, ведущие свое отдельное хозяйство. Конечно, на первых порах эти семьи были очень многочисленны, насчитывая в своем составе до 100 и даже более человек.
Все вышеуказанные причины, в особенности появление «табэ» – земледельческих родов, трансформация родовой общины, и внутренняя дифференциация в ней привели к образованию собственности на землю, на рабов, на имущество вообще. На этой же почве образовались классы: в эти столетия японской истории уже явно существует родовая аристократия, свободное в своей массе, но частично уже эксплуатируемое налогами и повинностями земледельческое население и рабы – как земледельческие и частично ремесленные, так и в виде домашних слуг. Родовая аристократия – недавние родовые старейшины усиленно создавали себе земельные владения (мита, тадокоро); они сформировали кадры подневольных землепашцев (табэ), группы несвободных ремесленников (разные бэ), в последнем случае – почти всегда из иноземцев по происхождению. Используя свое прежнее положение родовых старейшин и основанное на долгих и прочных традициях родового строя влияние, они стремились эксплуатировать там, где могли, и своих прежних родичей, вводя налоги и отработку. Как было только что указано, по отношению к новой соседской общине их прежнее положение старейшин теперь сменилось другим: они превращались в «правителей» данного района. Владея группами какибэ, они становились их «хозяевами». В вязи с этим прежнее их обозначение, указывающее на их положение как родовых старейшин – такие слова, как кими, хико, вакэ, такэру, тобэ, мурадзи, оми, оса, сугури, киси и др. получают смысл сословных обозначений (кабанэ), а в дальнейшем начинает устанавливаться и какой-то порядок их. Нихонги, согласно общему характеру своего повествования, отмечает это в форме сообщения, что при Инкё в 415 году эти «кабанэ» были приведены в систему, т.е. были установлены точно их наименования и утвержден их порядок: кими, оми, мурадзи, мияцуко, атаэ, обито и др.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (26)
Установление классового общества сопровождалось классовой борьбой и порождало ее. Основные противоречия в эту эпоху развивались во взаимоотношениях, с одной стороны, рабов и их хозяев – родовой знати, с другой – свободных родичей, начинающих чувствовать давление своих бывших старейшин, и этой же родовой аристократии. В целом, движение основной массы японского народа имело своей целью: получить возможность беспрепятственно вести свое земельное хозяйство в формах более удобных и не сковывающих инициативу отдельных хозяйствующих семей; прочно закрепить за собой определенные участки земли и орудия производства; обезопасить себя от угрозы обращения либо в подневольных землепашцев – «табэ», либо в облагаемых по произволу местных властителей налогами и повинностями крестьян.
В Кодзики и Нихонги, излагающих весь древний исторический процесс как «деяния богов» или «деяния царей», трудно найти прямое указание на это широкое движение населения. Возможно, что очень внимательный анализ междоусобных распрей различных родовых старейшин, о чем так много говорят хроники, вскрыл бы, что за этой внешней оболочкой во многих случаях таится движение земледельческих масс населения. Но и независимо от этого, об отдельных проявлениях этого движения говорить можно.
Для этого, чтобы понять в этом смысле повествование Кодзики и Нихонги, необходимо учесть, что в этом земледельческом населении были разные слои: некоторые семьи – многочисленные по своему составу, сильные в хозяйственном отношении, могли не без успеха сопротивляться попытками родовой знати наложить руку на их хозяйство и даже на них самих. Я считаю возможным предполагать, что случаи таких сопротивлений, а то и прямых оттеснений старой родовой знати не только были, но временами принимали даже широкий характер.
В какой форме об этом говорится в Кодзики и Нихонги? В этих хрониках неоднократно упоминается о случаях «обманного присвоения» себе тех или иных фамильных названий. Уже тот факт, что присвоение себе кем-нибудь того или иного фамильного названия не был безразличным для правителей того времени, свидетельствует о большом значении этого названия. Если же в тех или иных случаях это присвоение определялось как «обманное», это значит, что такое фамильное название присваивал себе тот, кто не имел на него, – с токи зрения правителей того времени, – права. Напомню, что фамильные названия в те времена были соединены с «кабанэ», т.е. с тем или иным положением в среде родовой знати. Если же это так, то случаи попыток «обманного» присвоения себе фамильных названий являются ни чем иным, как выступлением тех или иных семей из числа рядового земледельческого населения.
Носили ли эти выступления враждебный характер, т.е. шли ли они вразрез с интересами родовой знати? Безусловно. Это явствует уже из того, что подобное присвоение считалось «обманным», т.е. незаконным. Но это как нельзя лучше подтверждается и тем, что с таким присвоением активно боролись. Виновные привлекались к «суду»: они подлежали испытанию, которое должно было удостоверить наличие или отсутствие у них действительных прав на название. Испытание это, носившее название «кугатати», заключалось в том, что обвиняемому предлагалось опустить руку в кипяток или приложить ладонь к раскаленному железному топору. Повреждение руки в этом случае или отказ от испытания рассматривалось как доказательство виновности, и преступник наказывался. Были ли случаи таких присвоений, т.е. выступлений рядового населения единичными или частыми? По-видимому, иногда такие выступления принимали угрожающие размеры. Так, например, по рассказу Нихонги, в царствование Инкё будто бы обнаружилось массовое обманное присвоение фамилий, вследствие чего в 415 году было проведено общее судилище в форме «кугатати», давшее возможность устранить «преступников». Подобные суды производились и в дальнейшем.
В этом широком движении земледельческого населения приняли самое активное участие натурализовавшиеся в Японии корейцы и китайцы.
Как было уже изложено выше, поселенцы из Кореи и Китая появились на японских островах еще в глубокой древности. По историческим источникам их присутствие можно установить уже в III в. н.э. В первое время, когда население было еще редкое, когда связи между отдельными группами были еще слабыми, эти переселенцы жили обособленно и занесенная ими культура оставалась достоянием их одних. Однако в связи с массовым бегством населения из Китая – из тех районов, где разыгрывались очередные междоусобные войны, или где появлялись воинственные кочевники – число этих переселенцев росло. Описанные выше отношения с Кореей повлекли за собой большое переселение и оттуда. Росло и собственно японское население, увеличивалось соприкосновение его с переселенцами, и в результате китайско-корейская культура стала распространяться и среди японцев. Ранее других это имело место на о. Кюсю (Цукуси), о котором так много упоминалось в китайских историографических памятниках; в дальнейшем китайская культура охватила и население Ямато.
Переселенцы из Китая и Кореи, появившиеся в Японии в V-VII в., не только принесли с собой новую, более высокую технику – земледельческую и ремесленную, но и совершенно иное представление обо всем общественном строе. Как было указано выше, в Китае, да и в Корее, родовой общины уже не было. С IV в. в северном Китае начал укрепляться надельный феодализм, в дальнейшем распространившийся по всему Китаю и перешедший в Корею (в частности в Силла). С этим надельным строем был сопряжен и особый политический режим – централизованное государство с абсолютной властью императора. Необходимо помнить, что из Китая и Кореи переселялись не только крестьяне; оттуда шли ремесленники, мастера-художники, лекаря, учителя грамоты, мелкие чиновники, буддийские монахи – иными словами, – культурные кадры населения. Они не только вышли из во многом другого мира, но и были носителями его идей. Выше было указано, что эти пришельцы уже давно жили в Японии; вполне натурализовавшиеся в ней были отнюдь не малочисленны. Пусть цифры, приведенные Нихонги о численности рода Хата в 18670 человек, и преувеличены. Несомненно, что этот род все же был очень многочисленным, а род Ати-но оми, который населял до своего прихода в Японию будто бы целых 17 уездов? Потомки Атики и Вани также в большом количестве встречались во многих местах центрального и западного Хонсю.
Из этих слоев японского населения, безусловно наиболее передовых в культурном отношении, однако лишь в малой степени появлялась родовая знать. Случалось, что они оставались на положении рядового земледельческого населения, чаще же всего именно из них формировались группы несвободных – томобэ и какибэ. Этой участи не могли избежать, по-видимому, и даже сильные роды. Так, например, даже такой многочисленный и сильный род, как Хата, и тот, надо думать, находился на положении «бэ». По крайней мере, согласно Нихонги, царь Юряку (2-ая половина V в.), будто бы собрал весь этот род, до этого живший в различных местностях, в одно место, обязал поставлять шелковые ткани и поставил им для управления своего «управляющего» – Хата-но мияцуко.
По-видимому, близким к рабскому было и положение даже таких потомков пришельцев, которые были учителями китайской грамоты при дворе, или чем-то вроде чиновников, исполняющих разные службы. Таково было, например, положение «грамотеев» (фухито) – дворцовых писцов и историографов из рода Вани: для царей они являлись также «бэ» (Ямато-но фухито-бэ – жившие в Ямато, Кавати-но фухито-бэ – жившие в Кавати).
Ввиду всего этого движения этого слоя японского населения, восходящего по своему происхождению к китайцам и корейцам, следует рассматривать при свете общего движения основной массы японского народа, как «удзибито» – земледельческого населения, так и «томобэ» и «какибэ». При этом более близкое участие они принимают именно в борьбе этих последних, иначе говоря, в движении рабов.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (27)
Движение рабов является, по-видимому, основным фактором исторического процесса в V-VI-VII вв., – до самого переворота 645 г. Японские хроники прямо об этом движении, конечно, не говорят. Однако по целому ряду косвенных указаний, можно составить себе достаточное представление об этой борьбе.
Как Кодзики, так и Нихонги нередко упоминают о гневе господ на своих рабов за их неповиновение или какие-нибудь проступки. Это означает, несомненно, что были случаи сопротивления рабов произволу их хозяев. Однако эти случаи следует, как мне кажется, относить главным образом к волнениям рабов типа «яцуко», т.е. домашних слуг, иначе говоря – рабов не производственных категорий. Ввиду этого крупного значения эти волнения иметь не могли. Гораздо более существенное значение имели волнения среди рабов высшей категории – «бэ», на которых в значительной мере строилось хозяйство родовой знати в этот период: несвободные землепашцы (табэ) обрабатывали их поля (мита, тадокоро), знающие еще в добавление какое-нибудь ремесло, кормили себя обработкой земли, а изделия своего ремесла отдавали хозяину. Таких рабов было больше, среди них было очень много людей, стоящих на высоком культурном уровне, к ним примыкали и наиболее образованные для того времени группы «учителей», «грамотеев», иногда – буддийских монахов. Целью их было одно: освобождение. Они стремились к получению возможности существовать так же, как и прочее население, как «удзибито». Те же слои, которые служили при дворе «писцами» и т.д., иначе говоря своего рода чиновники, стремились выйти из положения «чиновников-рабов» и занять полноправное положение уже в настоящем государственном аппарате. К этому их подталкивало знание положения этих слоев населения в Китае и отчасти – в Корее, где надельный феодализм был сопряжен с многочисленным чиновничеством. Таким образом, движение этого типа рабов, не противоречащее общему движению земледельческого населения, оказалось центральным во всех событиях этих веков и привело в 645 г. к перевороту Тайка, а вместе с ним и к падению системы бэ. Это движение должно было найти себе политическую опору, оно должно было отыскать ту силу, с помощью которой можно было бы осуществить изменение общественного строя. Эта сила была найдена в лице царского дома.
Распад родового строя, естественно, приводил к трансформации прежнего союза родов, возглавляемого одним из наиболее сильных. Родовая община превращалась в соседскую; родовые территории – в ряд административных районов; родовые старейшины – местных правителей; прежние же общеплеменные вожди – в царей, т.е. правителей не только своего рода, но и всего населения. Общее усиление власти вождей племенного союза – несомненно. Однако при рассмотрении того, в каком именно направлении была использована эта власть в интересах широких масс населения – свободного населения и рабов, необходимо учитывать то обстоятельство, что цари Ямато были сами обладателями наиболее многочисленных томобэ, что именно они в первую очередь налагали на свободное населения налог и отработочную повинность. В связи с этим процесс, приведший к ликвидации рабства типа томобэ и какибэ, а также к ликвидации земельных владений типа мита и тадокоро, оказывается очень сложным.
Исходя из общей картины классовых взаимоотношений, мы должны ожидать выступлений рабов против своих владельцев. Поскольку цари Ямато были крупнейшими рабовладельцами (в смысле обладателей томобэ), постольку эти выступления должны были направляться и против них. Кроме того, поскольку Кодзики и Нихонги рассказывают в первую очередь о царском доме, в этих хрониках выступления именно царских бэ и должно занимать первое место. Есть ли в этих хрониках сообщения о выступлениях царских томобэ против царей?
Как мне думается, такие сообщения есть; более того, они занимают основное место в тех частях Кодзики и Нихонги, в которых рассказывается о событиях VI-VII в. Нужно только уметь понимать язык этих хроник и манеру их рассказа.
Движение царских томобэ должно было иметь своих вождей. Кто мог быть этими вождями? Очевидно те, кто стоял во главе их. А кто стоял во главе их? На этот вопрос приходится давать двойной ответ.
Во главе Томобэ стояли т. наз. томо-но мияцуко – царские управляющие. Ими могли быть действительно управляющие, поставленные царями для управления теми или иными группами бэ. Такие управляющие не могли выступать вместе со своими управляемыми против царей; наоборот, движение томобэ могло быть направлено против таких томо-но мияцуко. Но могли быть и такие «управляющие» томобэ, интересы которых – в их отношении к царям – не противоречили интересам управляемого ими населения. Это те «управляющие», которые в свое время были старейшинами своих групп, а затем вместе с членами своей группы в разной мере превратились в томобэ по отношению к царскому роду.
Выше было уже сказано, что некоторые томобэ восходят к древним родам – данниками. Эти роды сначала были во всем самостоятельные, управлялись своими старейшинами и только поставляли время от времени царям Ямато полагающуюся дань. Наложение дани практиковалось обычно в тех случаях, когда в каком-нибудь роде – в основе, конечно, земледельческом – по тем или иным причинам было развито какое-нибудь ремесло или промысел. В дальнейшем положение этих родов-данников стало изменяться: они стали постепенно переходить на положение томобэ, т.е. становились уже в полностью зависимое от царей положение. Но во главе их продолжали оставаться по традиции их прежние старейшины. Конечно, этот процесс превращения данников в рабов соединялся с распадом родовой общины, но и в этом случае, как сказано выше, очень часто функции «старосты» в соседской общине переходили к тем же бывшим старейшинам. Впрочем, это и не так существенно, важно то, что во главе этой общины стояло лицо, выдвинутое самой соседской общиной, а не поставленное извне. В дальнейшем, когда эта соседская община превратилась уже в группу рабов, очень часто «управляющими» этими группами оставались их бывшие «старосты». Все это означало то, что в подобных условиях владельцу бэ – в данном случае царскому роду противостояли все группы бэ целиком, т.е. вместе со своим «управляющим». И именно такие управляющие, в прошлом – «старосты» соседской общины, и может быть даже в еще более отдаленном прошлом – «старейшины» родовой общины, – и становились вождями родов в их борьбе против хозяев, в данном случае вождями томобэ против царей Ямато.
Возможен кроме того и еще один тип таких вождей. Это – не бывшие «старосты» и «старейшины», это – поставленные царями «управляющие», т.е. томо-но мияцуко. Но это те из них, которые, опираясь на подчиненных им томобэ, пытались эмансипироваться от своих властителей и быть со своими управляемыми группами томобэ независимыми. Это бывало в тех случаях, когда такие группы томобэ, отдавались в управление представителям могущественных в прошлом родов. И, наконец, последнее: пользоваться движением рабов в своих интересах могли и владельцы какибэ, недавние главы родов, почему-либо борющиеся с царями Ямато.
Все эти «вожди» движения не принадлежат к подлинным вождям, действующим во имя интересов томобэ и какибэ, как таковых. Но были и такие: таких вождей я вижу в лице наиболее активных членов групп томобэ и какибэ, сформированных из числа иноземцев – корейцев и китайцев.