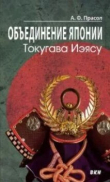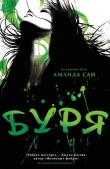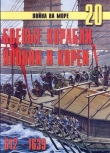Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (часть 6)
По косвенным данным можно судить, что родовая община с общинной собственностью на землю и орудия производства продолжала существовать еще в полной неприкосновенности. По крайней мере, встречаются неоднократные указания на крупную охоту или на какую-либо особо трудную работу, производимую всем родом сообща. Родовая община со всеми ее характерными особенностями должна была существовать еще и потому, что только в гораздо более позднюю эпоху появляются те признаки, которые свидетельствуют о начавшемся ее разложении. Однако, в этой картине общественного устройства, сохраняющего еще все основные черты родового строя в его полном и законченном виде, наблюдаются уже некоторые элементы, которые в своем дальнейшем развитии послужили базой для новых явлений, приведших этот родовой строй к распаду.
К числу таких элементов можно отнести появление родовых союзов, заключаемых либо в случаях похода, либо в случаях каких-либо крупных передвижений, намеки на такие союзы заключены в мифе о «Сошествии Ниниги», который «спустился на землю» во главе «пяти спутников», а также в сказании о Дзимму, предпринявшего свой «Восточный поход» во главе целой группы родов. Затем становятся все более частыми упоминания о царях. По крайней мере, по Хоу-Хань-шу можно заключить, что в I веке и в начале II века в Японии уже в одном из «государств» был какой-то царь; в частности – в «стране Идо», о которой была речь выше. Однако этот царь вряд ли выходил из рамок прежних родовых старейшин, потому что наряду с упоминанием о царях в одинаковой мере встречаются указания на совещания родов, на избрание военачальников, вождей, т.е. указания еще на типичные формы родового строя. К числу элементов, предваряющих в дальнейшем распад родового строя, можно отнести и намечающийся в это время переход к патриархату. Правда, это наблюдалось в довольно ограниченных масштабах, главным образом, в роде царей Ямато, да и то в достаточно неустойчивом виде. Еще в III-м веке, по свидетельству Вэй-чжи, в одном из районов Японии правил не царь, а царица Химико.
Весьма спорным нужно считать указание некоторых японских историков на то, что уже в эту эпоху можно найти какие-то следы формирующейся частной собственности. Эти следы хотят видеть в обычае огораживания водяного поля соломенными веревками – симэнава. Это огораживание толкуется в том смысле, что на устройство водяного поля в те времена нужно было затратить гораздо больше усилий, чем на обработку сухого, и поэтому лица, устраивающие такие поля, склонны были считать его не столько общей собственностью родовой общины, сколько собственностью своей группы, непосредственно это поле устраивающей, в знак чего и огораживали поле соломенными веревками. Возможно, однако, и другое толкование этого огораживания, если оно даже и было в действительности: позднейшее употребление симэнава свидетельствует, что такое огораживание имело магическое значение. Путем огораживания веревкой симэнава можно было предотвратить порчу посевов, нашествие насекомых и т.д. Во всяком случае, вопрос о сущности этого огораживания, если даже считать его фактом установленным, представляется неясным, и считать такое огораживание первым проявлением зарождающейся частной собственности на землю вряд ли возможно.
Со II-го века начинается уже более заметный процесс постепенного формирования общеплеменного союза. В основе этого процесса лежит в первую очередь, несомненно, развитие в Кинай, т.е. в месте основного сосредоточения племени Ямато, бронзовой и железной культуры. Во втором и третьем веке нашей эры эта культура достигает уже сравнительно высокого уровня. На этой почве происходит развитие производительных сил и повышение общего культурного уровня населения. Известную роль в развитии производительных сил начинают играть и домашние животные, к этому времени уже привившиеся на японской почве. В это же время отмечается и значительный численный рост родов. Роды из небольших малочисленных групп превращаются в крупные общины со значительным количеством людей, в связи с чем усиливается и расширяется их хозяйственная и политическая деятельность. На этой почве разыгрывается и взаимная борьба родов. Эта борьба была, конечно, и раньше. И Кодзики, и Нихонги дают достаточно красноречивую картину этой борьбы еще в эпоху родового строя, или по терминологии Кодзики – в «век богов». Однако эта борьба приводит уже к другим результатам, чем в предыдущую эпоху. Раньше борьба заканчивалась либо уничтожением побежденных, либо оттеснением их и занятием их территории родами победителями, либо же принятием в союз, т.е. включением побежденных родов или племени в тот племенной союз, который оказывается победителем. В эту эпоху, т.е. с II-III веков нашей эры обнаруживается иной исход междоусобной борьбы. Помимо предыдущих форм начинается еще новая, а именно: род победитель не уничтожал побежденных, не выгонял их с территории, не включал в свой союз, а ставил побежденные роды в положение данников, т.е. грабил побежденных, либо единовременно – во время походов, либо периодически, устанавливая такое ограбление, как определенный порядок. Эта «дань» была вместе с тем одной из форм обмена в эту раннюю эпоху.
По китайским источникам можно проследить довольно отчетливо процесс образования племенного союза, основанного на таком покорении. Хроника Хоу-Хань-шу, приводящая сведения о Японии, относящиеся ко II-му веку, говорит о многочисленных распрях среди японских родов. Но та же Хоу-Хань-шу упоминает уже о царях, существующих в Японии в I-II веке, вроде царя «страны Идо». К 107 году относится специальное упоминание о «царе Ямато», будто бы принесшем китайскому императору в дар 160 рабов. Вэй-чжи, приводящая сведения о Японии, относящиеся к III веку, говорит о существовании в Японии, вероятно на о. Кюсю, на территории Кумасо сильного государства, управляемого царицей Химико, причем указывается, что это государство покорило все окружающие районы и поставило в этих районах своих правителей, которые и правили, якобы от имени царицы. Сун-шу – китайская история, говорящая о Японии V века, рисует этот процесс покорения очень широко. По словам Сун-шу, во второй половине V века были покорены все главнейшие части Японии: на востоке было будто бы покорено 55 стран, на западе 66, на севере 95. Таким образом, сводка сведений китайских исторических памятников дает приблизительно такую картину: в начале II века, в результате происходящей тогда ожесточенной борьбы отдельных родов друг с другом, по-видимому, происходит первоначальное зарождение племенного союза. Появляются цари, которые начинают объединять под своей властью прилегающие районы. Этот объединительный процесс приводит в III-м веке, по-видимому, уже к довольно крепкому объединению в единый племенной союз целого ряда племенных групп. И, наконец, в V веке процесс покорения заканчивается, и общеплеменной союз уже существует в сложившемся виде.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (07)
Переходя к японским источникам, процесс образования этого племенного союза можно обрисовать в следующих чертах:
Первым шагом на этом пути следует, по-видимому, считать знаменитый «Восточный поход» Дзимму, рисуемый официальной историей, как «образование японской империи». По официальной хронологии это случилось будто бы в 660 г. до н.э. Речь идет о переселении большой группы японского племени, союза родов, живших доселе на о. Кюсю, на о. Хонсю, и закреплении этой группы в районе, впоследствии получившем название Ямато. Это случилось, вероятно, в I в. н.э. О завоевательных целях этого похода говорят слова самого Дзимму: «На Востоке есть зеленые горы, всюду прекрасная земля. Почему же не устроить столицу там?». «С какого места можно покорить себе весь свет?» – обратился Дзимму к своему брату Ицусэ и добавил: «Я пойду на Восток» (см. Кодзики, глава о Дзимму).
Как уже было сказано, не нужно думать, что о. Хонсю, в частности, область Ямато была в те времена пустынной. По Кодзики и Нихонги там жили части того же японского племени, управляемые своими старейшинами, носившими наименование «тобэ», «такэру», «хафури». Наиболее могущественным из известных старейшин был Нагасунэ-хико, владевший местностью Томи. О том, что часть этих родов принадлежала к тому же племени, что и пришельцы, говорит между прочим и рассказ Кодзики о боге Нигихаяби, т.е. о каком-то вожде из племени Тэнсон, поселившимся здесь и женившимся на сестре Нагасунэ-хико.
С другой стороны, здесь несомненно обитали и часть племени Идзумо. Это видно из упоминания Кодзики о проживании здесь части потомков Окунинуси.
Пришельцы-завоеватели наткнулись на сильное сопротивление со стороны местных старейшин, в первую очередь, со стороны Нагасунэ-хико. Дзимму пришлось одно время даже уйти из Ямато. Однако, в конечном результате Нагасунэ-хико был убит и пришельцы остались в покоренной местности. Крайне интересно указание Кодзики, что Дзимму после «восшествия не престол» взял себе новую супругу – из рода родоначальника правителей Идзумо – Окунинуси. Это свидетельствует, вероятно, о том, что обе главные ветви японского племени Идзумо и Ямато – в данном случае или же раньше входили в состав племенного союза или образовали его. О том, что часть побежденных родов превратились в данников, говорит сообщение хроник о появлении первых «куни-но-мияцуко», т.е. подчиненных царям Ямато местных вождях-правителях.
Если считать, что сказание о походе Дзимму отражает закрепление племени Тэнсон на главном острове и связано с окончанием эпохи раннего родового строя в строгом смысле этого слова; если считать, что он открывает собой эпоху постепенного и медленного образования общеплеменного союза, то те части Кодзики и Нихонги, которые рассказывают о правлении последующих царей, как раз и должны передавать картину формирования этого союза.
Из всех повествований об этих царях – преемниках Дзимму наиболее интересными – с точки зрения раскрытия процесса образования общеплеменного союза – являются рассказы, приуроченные к царствованию царей Судзин, Кэйко, Сэйму, Тюай, царицы Дзинго, царей Нинтоку и Юряку.
В рассказе о царствовании Судзин особо отмечается следующий момент. Во-первых, в его царствование произошло отделение «дворца» (жилище царя) от «храма» (жилище бога). В прежние времена «Мия» было одинаково и «дворцом» и "храмом, что означало, что понятия «культа» и «управление» полностью совпадали. Теперь, по-видимому, эти две функции получили самостоятельное значение, т.е. функции правителей отделялись от функций жреца. Это не значило, что произошло персональное разделение. Царь продолжал оставаться и главным жрецом. Но так или иначе прежде единая функция разделилась сейчас на две самостоятельных.
Далее царю Судзин приписывается всяческое поощрение сельского хозяйства. По его приказу были вырыты пруды для орошения полей, проведены каналы. При нем же была произведена и первая перепись населения. Эта перепись была сделана, по-видимому, в тесной связи с введением налогового обложения. Кодзики приписывают Судзин первое в японской истории введение налогов. Были введены налоги двух типов. Мужчины должны были посылать царю добычу своих «луков и стрел», т.е. добычу охоты, а женщины должны были поставлять «изделия своих рук», т.е. ткани. Кстати сказать, и все дальнейшие переписи населения, упоминаемые в японской истории обычно были связаны с проводимыми налоговыми мероприятиями. Судзин поощрял также и постройку кораблей, т.е. как бы стремился к установлению более прочных и оживленных сношений между отдельными частями своего государства. Наконец, в его царствование по всем «четырем дорогам» Японии, т.е. по четырем направлениями от Ямато были посланы военачальники, что свидетельствует о предпринимаемых завоевательных походах.
Согласно Нихонги, эти походы привели к следующим результатам. На север, в район Хокурикудо был послан Охико, приведший к покорности всю "область «Коси», т.е. территорию позднейших Этидзэн, Эттю, Этиго. На восток – в район Токайдо был направлен Такэкунакава-Вакэ, покоривший «двенадцать восточных стран». На запад – в район Санъёдо отправился Киби-цу хико. На юг – в «страну Танива», т.е. район Санъиндо направился Танива-но тинуси. О завоевательных целях этих походов говорят слова приказа Судзин, приводимого в Нихонги: «если найдутся люди, не принимающие наших велений, взять войска и повергнуть этих людей наземь».
Несомненно, что эти «походы» представляют картину передвижения части японского племени и постепенного расширения территории, им занятой. При этом места назначения этих походов очевидно нужно понимать как указания на границы этого расселения. Конечно, это расселение не было всегда мирным и сопровождалось вытеснением других групп населения или их покорением, т.е. превращением в данников.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (08)
Крайне любопытно, что сообщение об установлении подати продуктами «луков и стрел» и продуктами «работы рук», а также о переписи населения дает Нихонги в ближайшей связи с этими завоеваниями. Из этого обстоятельства можно усмотреть и характер этих податей: ни о каком введении налоговой системы и речи не может быть; дело сводится к наложению дани, т.е. к периодическому грабежу, а то и к простому обмену, возникшему благодаря соприкосновению отдельных групп племени.
Как Кодзики, так и Нихонги дают еще одно интересное указание. Они рассказывают, что в правление Судзин одно время свирепствовала моровая язва, масса людей умерла, причем население отдельных районов разбегалось или же восставало. Лишь с большим трудом удалось Судзину снова водворить порядок. По-видимому, это сообщение возможно толковать, как сопротивление, оказываемое населением, подвергающимся грабежу.
Объединительный процесс, приводивший к образованию общеплеменного союза, охватывал понемного все крупные японские роды. Однако, о том, что это происходило при сопротивлении ряда родовых старейшин, не желавших принимать гегемонию вождей союза родов Ямато, свидетельствуют опять хроники. Так, против Судзина поднял «мятеж» Такэхания-цу-хико, согласно хронике – его дядя. Это значит, что борьба происходила даже внутри союза родов Ямато.
К царствованию Судзина обычно приурочивается т. наз. «покорение Мимана» – области на южной оконечности Корейского полуострова. На этом пункте следует несколько остановиться.
Корея упоминается в японских хрониках часто и упорно. С Кореей связан миф о Сусаноо. Постоянны упоминания о приезде из Кореи различных переселенцев, селившихся в Идзумо. В эпоху Окунинуси в Идзумо прибыл «княжич из Силла» Амэ-но Хибоко, потомки которого обнаруживаются впоследствии и в Тамба, и в Цукуси.
В начале первой Ханьской империи, т.е. во II-м веке до н.э. на севере Корейского полуострова было княжество Чаосянь (яп. Тёсэн), на юге – т. наз. "три княжества «Хань» – по-японски Бакан, Синкан, Бэнкан. Из них наиболее близким к Японии было княжество Синкан. При ханьском императоре У-ди (140-87) китайское влияние распространилось и на Корейский полуостров, а через него и на Японию, в частности на о. Кюсю. Китайские источники передают, что до тридцати правителей Кюсю посылали посланцев с дарами к Ханьскому двору. Это положение продолжалось и в период Второй Ханьской империи, т.е. в I-II в. н.э. Как я уже упоминал, к этому периоду относятся рассказы Хоу-Хань-шу о посольстве с подарками, о поднесении «царем Ямато» 160 рабов.
В I в. до н.э. картина на полуострове изменилась. На север образовалось княжество Когурё (яп. Кома), на востоке – Силла (яп. Сираги), на западе – Пякчэ (яп. Кудара). На самом юге располагалось маленькое княжество Мамина (иначе Кара), само состоявшее из десяти владений, из которых наиболее крупное называлось Окара. Самая северная часть полуострова после падения в 220 г. Ханьской империи попала под власть возникшего в 220 г. на севере Китая Вэйского царства, поддерживавшего с Кумасо на Кюсю, по-видимому, довольно оживленные отношения. По крайней мере, Вэй-чжи рассказывает о прибытии в 238 г. посланца от «царицы Ямато», о поездке в 240 г. наместника северо-корейских провинций Вэйского царства в страну Ямато; о прибытии в 243 г. новых послов из Японии. Тут же сообщаются сведения о внутренней жизни японских «государств». Так, например, рассказывается, что в 247 г. велась борьба между царицей Химико (или Химэко) с царем другого государства, в которую как-то вмешались и Вэйские правители. Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что в III в. население Кюсю, вероятно, в первую очередь, племя Кумасо, поддерживало довольно оживленные сношения с Силла и даже с Вэй. Эти сношения были иногда мирными, иногда нет. Так, из корейских источников мы видели, что японцы о. Кюсю (вернее всего Кумасо) неоднократно совершали набеги на Корею.
В III веке н.э. соотношение сил, установившееся на Корейском полуострове, стало меняться. Правители Силла сумели на севере обеспечить себе поддержку Вэйского государства; им удалось установить также дружественные отношения с Кумасо. Весь напор Силла оказался направленным на соседнюю Мимана. Нихонги сообщает, что Мимана запросила помощи у царей Ямато: к Судзину будто бы явился посол и просил о помощи, предложив компенсацию в виде части владений, принадлежавших Мимана. Результатом этого явилась экспедиция принца Сионори в Корею. Так совершилась первая японская «интервенция» в Корею. Указать точные даты этого события нельзя. Мнения на этот счет расходятся. Во всяком случае, это могло иметь место в царствование Судзина, или же еще в конце предыдущего царствования Кэйка. Так или иначе, эта «интервенция» привела к двояким последствиям: с одной стороны, японцы как-то закрепились на южном конце полуострова, скорее всего – наложили дань; с другой стороны, они столкнулись лицом к лицу с Силла, а через нее и с ее союзниками: китайским царством Вэй на севере и племенем Кумасо на Кюсю. Началась эпоха не только оживленных сношений с материком, но и «большой политики». При свете этих внешних событий особый интерес получает сообщение Кодзики и Нихонги о всяческом поощрении Судзином постройки судов для морских переходов.
Эпоха Судзина несомненно имеет особое значение для древней истории Японии. Нужно сказать, что повествование Кодзики и Нихонги, более или менее подробно останавливающееся на «Восточном походе» Дзимму, после этого в сущности прерывается. О царях, следующих за Дзимму – а их насчитывается до Судзина – 8, не сообщается ничего, кроме простых упоминаний о «восшествии на престол» и смерти. И только с Судзин повествование снова начинает сообщать факты и происшествия. Характерно, что обе хроники отмечают значение этого царствования тем, что придают Судзину прозвище «Хацу-Куни-сирасу Сумэра-микото», т.е. «первоправитель страны». Нихонги придает это прозвание еще и Дзимму, Кодзики же только одному Судзину. Толковать это обстоятельство, по-видимому, следует в том смысле, что именно в эту эпоху (III в.) обозначилось укрепление союза родов Ямато, ставшего в дальнейшем основой общеплеменного объединения.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (09)
В царствование Суйнин отмечаются те же самые мероприятия, направленные к развитию земледелия, что и в правление Судзин; только масштабы этих мероприятий достигают уже очень больших размеров: по приказу Суйнин будто бы было вырыто свыше 800 прудов. Одновременно велась и разработка новых земель. Такие сведения о прорытии канав, устройстве прудов и других оросительных сооружений даются и в последующих царствованиях. Так что развитие земледелия в эту эпоху, по-видимому, является совершенно несомненным и приоритет земледелия перед другими видами хозяйственной деятельности точно также вполне очевиден.
Судзину приписываются большие заботы о вооружении. Так, хроники рассказывают, что им подносились храмам, т.е. складывались в запас луки, стрелы, копья; передают, что он повелел изготовить 1000 мечей. Для чего было нужно это оружие, показывает сообщение о восстании против Судзина брата его жены – Сахо-хико. Это сообщение является свидетельством того, что союз родов Ямато, образовавшийся при Судзин, все еще не был достаточно прочен.
Царствование Кэйко ознаменовано не столько подвигами самого царя, сколько деятельностью его сына принца Ямато такэру. Те части Кодзики, которые повествуют об этом принце и его походах, напоминают сказания о героях и богатырях. Ямато-такэра совершил несколько походов против эбису, живших в районе Токайдо. Он же предпринял поход и против Кумасо, живших на территории провинций Сацума, Осума, Хюга на о. Кюсю. Эти походы по изложению Кодзики, конечно, закончились победоносно: поднимавшие мятежи против царей Ямато племена Эбису и Кумасо были приведены к покорности. Завоевательные экспедиции предпринимались и впоследствии и также – либо на северо-восток, либо на юго-запад, т.е. против Эбису или Кумасо. Таким образом, эти повествования свидетельствуют о том же, о чем говорят китайские источники: о постепенном распространении власти той группы японского племени, которая сосредоточилась в Ямато, о приведении к покорности ближайших родов и даже более отдаленных племен инородческого происхождения. Иначе говоря, в эту эпоху японское племя вплотную столкнулось с этими племенами.
К эпохе Кэйко приурочивается мероприятие, начало которого приписывается Дзимму и которое свидетельствует о постепенном расширении власти Ямато над прочими районами Японии. Завоевательные походы, как сказано выше, заканчивались часто удачно, и на побежденные роды накладывалась, очевидно, дань, т.е. эти побежденные превращались в данников Ямато. Видимым признаком такого положения данников являлось некоторое подчиненное положение глав этих родов по отношению к вождям союза родов Ямато – царям. Кодзики и Нихонги, рассматривающие весь завоевательный процесс с точки зрения царского рода и соответствующим образом определяющие отдельные факты этого процесса, представляют установление такой зависимости родовых старейшин от царского рода, т.е. превращение их в данников, как «назначение» этих старейшин «правителями» своих районов. Так, еще Дзимму будто бы назначил несколько таких «правителей» так наз. – куни-но мияцуко. При Кэйко было назначено целых семь «правителей». При этом само слово «мияцуко» показывает, что эти правители были не более, чем данниками царского рода. Во всяком случае никак нельзя понимать назначение куни-но мияцуко как действительно посылку правителей – уполномоченных царской власти в отдаленные районы. Это – не губернаторы, управляющие вновь созданными административными районами. Это те же самые родовые старейшины, главы покоренных родов, которые становились в положение данников по отношению к царскому роду и в этом смысле назывались «мияцуко», т. е. «царские рабы».
О том, что эти куни-но мияцуко были местными старейшинами, покоренными царями Ямато, свидетельствует тот факт, что они постоянно «поднимали мятежи». Иными словами, покорение часто бывало чрезвычайно непрочным и временным. Такое положение отразилось в одном факте, также приурочиваемом к времени Кэйко. Чтобы держать своих данников в покорности, Кэйко будто бы расселил свой род на территориях, смежных с территориями родов данников и даже на их собственных территориях. Таким образом, во всех районах (куни) появились отдельные части царского рода, управляемые «отдельными принцами» куни-но вакэ. У Кэйко – по словам хроник – было 80 сыновей, и все они, за исключением трех, превратились в таких «отдельных принцев». Это отражает, по-видимому, факт действительного расселения частей царского рода, а может быть и отдельных групп союза родов Ямато в разных местах Японии, в частности – на территории покоренных.
При следующем царе – Сэйму «назначение» куно-но мияцуко продолжалось в широком масштабе: эти правители были поставлены будто бы в 63 районах (куни), простирающихся на севере до Ивасиро, на западе до Хиндзэн, на востоке до Хитати, на юге – до Тоса. Эти указания как будто намечают сложившиеся к тому времени границы племенного союза. Вне власти Ямато оставались таким образом, Иваки, Ивасиро, Этиго и все места далее на север, заселенные Эбису, и южная часть Кюсю, заселенная Кумасо.
Таким образом, если толковать появление куни-но мияцуко, как покорение остальных родов, превращение их в данников, и рассматривать все это как отдельные этапы образования общеплеменного союза, то завоевательный процесс в этом направлении следует считать начавшимся с походов Дзимму. Именно в результате его завоеваний и могли появиться первые куни-но мияцуко.
В целом, если сосчитать число всех «поставленных» правителей, подчиненных царям Ямато от Дзимму до Сэйму, мы получим цифру 91, а по другим данным – даже 144, если включить сюда и т. наз. «агатануси», представляющих некоторую разновидность этих правителей. Не нужно забывать, что между этими приведенными к покорности родами располагались и роды победителей – члены союза родов Ямато, а также отдельные части царского рода. Это были роды, управляемые своими «кими» и «вакэ».
О постепенном складывании общеплеменного союза говорит еще одно мероприятие Сэйму: при нем впервые появляется звание «о-ми» – ближайшего помощника царя по управлению государством. Это название было дано в первый раз ближайшему сподвижнику Сэйму – Такэноути-но сукунэ. Последующая история ярко говорит о том могуществе, которое было в руках этого Такэноути-но сукунэ. Это был глава одного из крупнейших родов, входивших в состав племенного союза Ямато и по-видимому играл большую роль в организации первоначального племенного союза.