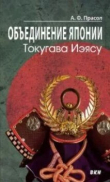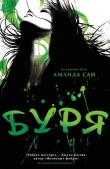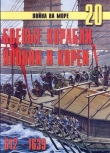Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (21)
Результаты войн между отдельными родами и союзами родов не исчерпывались только одним появлением родов-данников: одновременно появлялись и рабы.
Судя по всем данным, рабами становились пленные, причем в подавляющем числе случаев – из числа инородцев. Так, например, о большом числе пленников, обращенных в рабство, упоминается в рассказах о походах Ямато-такэру: этими пленниками-рабами были эбису. Однако, на этой стадии, в эпоху формирования племенного государства, когда родовой строй составлял еще основу общества, эти рабы не играли заметной роли. Новое, что в это время возникло, сводится к тому, что если раньше пленников не брали, вернее их убивали, то теперь стали пользоваться их трудом. Однако, это делалось в очень ограниченных размерах: устойчивость родового строя мешала широкому развитию рабства.
Эта устойчивость родового строя у покорителей объяснялась многими причинами, но между прочим и тем, что они – эти роды покорителей, должны были во что бы то ни стало сохранять свою компактность, внутреннюю целостность и единство. Это было нужно для успешной борьбы с другими родами, это было лучшим условием самообороны в случае опасности. Поэтому род держался компактно, его члены не расселялись по частям среди других родов, а если и отделялись от основной группы, то опять-таки в виде компактной массы – «дочернего» рода. Это обусловило ограниченность и медленность роста потребностей, а следовательно, и большой надобности в рабском труде не ощущалось. С другой стороны, было опасно и прямо невозможно поселять среди компактной массы членов рода большое количество рабов. Наконец, отсутствовал широко развитый обмен, торговля. Не было больших возможностей получать рабов: главным источником рабов были эбису, а борьба с ними приводили не к превращению в пленников-рабов, а к их оттеснению все далее на север. Столкновения же между отдельными частями племени приводили к тому, что покоренные оставались на своих метах, продолжали заниматься своим делом и только время от времени платили дань. Это все означает, что рабы превращались в сравнительно немногочисленных домашних слуг (яцуко), главную же роль занимали томобэ и какибэ, т.е. роды-данники.
Обрисованная картина, характерная в основном, для Японии II-V века, в дальнейшем сильно изменилась. V-й, VI-й и начало VII-го века в совокупности составляют, по-видимому, новый этап в истории японского народа, чрезвычайно значительный по своему содержанию. Основное, что надлежит отметить для этого времени, это распад родовой общины.
Этот распад коснулся прежде всего экономической стороны общины. Если до сих пор земля находилась во владении и обработке всей родовой общины, то в дальнейшем, наряду с родовой земельной общиной стали возникать особые поля, находившиеся во владении старейшин. В приложении к царскому роду они назывались «мита», в приложении к прочим родам – «тадокоро» или «наридокоро». Процесс создания старейшинами своих собственных полей начался, по-видимому, рано. Первое упоминание о них в хрониках встречается при повествовании о царствовании Суйнин, т.е. еще в период формирования племенного государства. Этому царю приписывается устройство в селении Кумэ, т. наз., «миякэ», конторы-амбара для ссыпки и хранения поступающих с его полей зерна. То же приписывается и Кэйко. Очевидно, этот процесс развивался неуклонно, так что в дальнейшем в рассматриваемую эпоху количество этих миякэ уже очень велико. В правление Анкан (534-535) у царского дома миякэ были в 22 местах; в царствование Суйко (593-628) они были учреждены во всех областях страны. К концу этого периода у принца Наканорэ были, как утверждают Нихонги, эти конторы-склады в 181 пункте страны.
Это свидетельствует, с одной стороны, об интенсивном росте таких частей полей, с другой, о чрезвычайном усилении царского рода.
Эти конторы-склады служили, как я сказал, пунктами приемки, ссыпки и хранения зерна, поступающего с полей, принадлежавших членам царского рода, в первую очередь, царям. Таким владением царей становилась в первую очередь некоторая часть старинных земель царского рода, т. наз. миагата, т.е. часть уже обработанных и возделанных полей. Но гораздо чаще во владение царей отходили новые поля, т.е. заново разрабатываемые; большинство мита именно и были такими новыми полями. Впрочем, названия эти могли иметь разно значение. Мацуока Сидзуо в своей работе «Описание древних нравов Японии» (Ниппон Кодзокуси, стр. 342) свидетельствует: "В связи с ростом силы и власти родовых старейшин естественно родилась необходимость, сбор, получаемый с некоторой части полей, отдавать на общие нужды. Такие поля членами рода назывались «мита», старейшины же называли их «ата» (мои поля). Эти «ата» в царском роде назывались «миагата».
Процесс, развертывающийся в царском роде, повторялся и в прочих родах. «Тадакоро» – владения различных родовых старейшин устраивались иногда на новых землях, иногда на землях, отнятых у других родов, иногда же на землях своего рода. К концу этого периода, в VI-VII в. такие роды, как Мононобэ, Отомо и Сога владели, по-видимому, очень большим количеством этих полей.
Кем обрабатывались эти поля? Хроники дают на этот вопрос ясный ответ: «табэ». Словом «табэ» назывались те из числа «томобэ», которые обрабатывали царские поля – мита. Упоминания об этих «табэ» начинается почти одновременно с упоминаниями о мита и миякэ, точнее – с Кэйко. Однако, одними табэ дело не ограничивалось. Кроме них на полях работали т. наз. кува-ёборо. Появление тех и других представляется событием чрезвычайной важности и свидетельствует о крупных переменах в общественном строе страны.
Несомненно, что родовые старейшины и члены их семей уже не работали сами на полях, а пользовались трудом своих сородичей. Равенство всех членов рода нарушилось, и внутри рода зародилась эксплуатация.
«Собственные поля» неуклонно росли, и в связи с этим их собственники уже не могли удовлетворяться частичным использованием труда своих сородичей. В особенности так получалось, когда приходилось возделывать новь. И на этой именно почве стало меняться положение томобэ и какибэ. На месте прежних бэ-данников появились группы новых бэ-несвободных.
Как создавались такие группы? Несомненно, в новых бэ превращалась часть прежних томобэ, из числа небольших и слабых. Но с другой стороны, ясно, что в новое положение не могли перейти многочисленные и мощные роды, сами имевшие своих какибэ. Поэтому дело сводилось, по всей вероятности, к тому, что цари заставляли старейшин этих родов выделять из числа своих родичей или своих какибэ (что бывало чаще) определенные группы и предоставлять их в свое распоряжение. Мацуока говорит: «В древности земли имелось в избытке, а людей, обрабатывающих ее – не хватало и, кроме того, все они принадлежали разным родам. Поэтому, в связи с разрастанием императорского рода появилась необходимость в распределении бэ, т.е. землепашцев. По этой причине в правление Суйнин были созданы „микосиробэ“: из различных родов были взяты люди и из них образованы новые бэ, находившиеся под властью императорского рода» (Мацуока, "Ниппон кого дайдзитэн, стр. 1203). В этих словах Мацуока содержится упоминание о так наз. «микосиро». На этом явлении необходимо несколько остановиться.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (22)
Слово «микосиро» существует наряду со словом «минасиро». Обычные японские исторические труды представляют это дело в следующем свете:
"Минасиро – это заново организованные группы населения, которым – как и их местности – присвоено то имя, которое желают сохранить на будущие века. Группы, созданные для увековечения имени императоров, императриц или принцев, не имеющих потомства, называются микосиро. Вообще, желание увековечить чье-нибудь имя свойственно человеческому чувству во все времена. В последующие века обычным способом такого увековечения было устройство еще при жизни могильного памятника с записью на нем всех подвигов данного лица. В Японии же, где письменность появилась очень поздно, единственным способом такого увековечения было создание групп микосиро или минасиро. Проф. Хагино, говорящий это в своем университетском курсе Японской империи – «Лекции по японской истории» (Ниппон-си кова, стр. 44) отмечает таким образом факт создания особых групп населения, именовавшихся – именно как группы – микосиробэ или миносиробэ. Вызывалось это, по его словам, желанием сохранить чье-либо имя для потомства (минасиро), что особенно бывало естественным, когда у кого-нибудь из членов царского рода не было наследников, могущих служить живым увековечиванием этого имени. Однако, тот же профессор Хагино тут же рядом должен упомянуть о факте, который является несомненно основной причиной формирования таких групп: «Все налоги и подати с населения данной местности, носящего чье-либо имя, поступали в распоряжение самого владельца этого имени или его потомков» (там же, стр. 44). Таким образом, дело – совершенно ясное, и микосиробэ и минасиробэ следует считать теми же табэ, тем более, что и способ их образования был таким же, как и в других случаях: цари либо формировали эти группы из числа своих же родичей, либо отбирали часть родичей у других старейшин.
В приведенной цитате из словаря Мацуока указывается, что впервые минасиро появляются при Суйнин. Действительно, в той части Кодзики, в которой повествуется об этом царе, говорится: "Итоси-вакэ (имя одного из старейшин), не имея детей, сделал себе «заместителей детей» (косиро) и образовал «тосибэ». Упоминания о подобных же действиях царей встречаются и в дальнейшем. Так, например, в Нихонги, в хронике Кэйко говорится: «император, желая увековечить имя и подвиги (принца Ямато такэру) образовал Такэрубэ». Насколько широко развернулся этот процесс, можно усмотреть из той части Кодзики, где повествуется о Нинтоку:
«В правление этого императора были установлены „заместители имени“ (минасиро) императрицы Иванохимэ и образованы Кацураги-бэ; затем были установлены „заместители имени“ принца Идзахо вакэ и образованы Мибубэ; затем были установлены „заместители имени“ принца Мидзухо-вакэ и образованы Тадзихибэ; затем были установлены „заместители имени“ принца Окусака и образованы Окусакабэ; затем были установлены „заместители имени“ принца Вакакусака и образованы Вакакусакабэ, были установлены „заместители имени“ принцессы Ята-но вакаира-цухимэ и образованы Ятабэ».
Микосиро и минасиро – названия групп несвободных, обслуживавших царский род. Названием таких же групп, бывших во владении старейшин других родов, служило слово какибэ. В указе о реформе Тайка, приведенном в Нихонги, об этой принадлежности какибэ старейшинам говорится прямо: «Какибэ, находящиеся во владении Оми, Мурадзи, Томо-но мияцуко, Куни-но мияцуко и Суруги…» Это не значит, конечно, что какибэ в подобном же смысле не встречаются раньше. О какибэ упоминается, например, в хронике Юряку и Нихонги. Иногда вместо слова «какибэ» с тем же значением (о чем говорят подставленные иероглифы) употребляется слово «каки-но тами» и даже «утияцуко».
Таким образом, в корне изменилось значение понятия бэ. Если раньше «бэ» – «томобэ» были обычными родами, только платящими царскому роду дань, то теперь «бэ» – «томобэ», какибэ, микосиро, минасиро это уже особые группы несвободных, находившиеся во владении членов царского рода и родовых старейшин.
Эти группы несвободных являлись в первую очередь «табэ», т.е. земледельцами. Это – безусловно факт, так как главное, для чего был нужен труд несвободных в то время – это для обработки «мита» и «тадокоро», в большинстве случаев – новых полей. Однако, этим роль «бэ» не исчерпывалась В известной мере они же поставляли и изделия ремесла. Об этом говорят названия многих «бэ»: Ябэ (от "я" – стрелы), Кадзибэ (от «Кадзи» – кузнец, Татибэ (от «тати» – меч), Кагамидзукурибэ («мастера зеркал»), Тамадзукурибэ («мастера украшений») и т.д.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (23)
Некоторые японские историки в связи с этим считают возможным даже говорить об образовании «ремесленных объединений». Так, например, Мацуока полагает, что такие «бэ» уже «не являлись кровными объединениями в древнем обществе, а составляли профессиональные объединения в нем». (Ук. соч., стр. 1119). С этим, однако, согласиться никак нельзя. Признать существование особых «профессиональных» (т.е. ремесленных в данном случае) объединений, это значит допустить существование в те времена чего-то вроде цехов. Но нам хорошо известно время, когда появились цехи (два): это период Камакура; иначе говоря, цехи формировались не раньше конца XII века. И это вполне понятно, так как никаких условий для появления цехов в эту древнюю эпоху не было. Еще не произошло отделение ремесленного труда от земледельческого. Если в Японии VI-VII веков и были кто-либо, похожие на ремесленников, то это – только иноземцы, корейцы и китайцы. Они действительно могли выступать и выступали как ремесленники, так как в Корее и в Китае эти ремесленники уже существовали. О том, что такие группы были, свидетельствуют рассказы Кодзики и Нихонги о тех стараниях, которые прилагали японские правители той эпохи к получению ремесленников из-за границы. Для захвата ремесленников предпринимались набеги на Корею, в виде ремесленников взималась с побежденных «дань». Достаточно вспомнить, как обрисовываются результаты похода Дзинго. Ремесленники привлекались и более мирным путем. Достаточно вспомнить о деятельности Юряку. Но этим дело и ограничивалось. Среди основного населения Японии самостоятельных ремесленников еще не было. Несомненно, наличие китайцев и корейцев способствовало развитию ремесел и среди японцев, но это не приводило еще к отделению ремесленного труда от земледельческого. Но, с другой стороны, совершенно несомненно, что в земледельческих общинах Японии ремесло существовало, причем в одной местности, в одной общине, в силу разных причин, развивалось одно какое-нибудь ремесло, в другой местности, в другой общине – другое. И вполне вероятно, что дань, которую вначале взимали цари со своих данников, состояла не из продуктов земледелия, а из изделий ремесла. В сельскохозяйственных продуктах царский род не нуждался, в ремесленных же изделиях нуждался и старался получить то, что не изготовлялось в его собственном роде. В известной мере этот порядок сохранился и в дальнейшем – в эпоху новых «бэ», «бэ» – несвободных. Вполне возможно, что от некоторых групп брали изделиями ремесла, почему либо развитого в этих группах. Но это не значит, во-первых, что подобные «ремесленные бэ» только ремеслом и занимались: они занимались, в первую очередь, земледелием, которое давало им пропитание. Это не значит, во-первых, что именно такие «бэ» составляли основную массу несвободных: процесс интенсивного роста мита свидетельствует о том, что правящему классу были нужны в еще большой степени «земледельческие бэ» – «табэ», «работники мотыги» – кува-боро. Упомянутый уже мною Ито Дзохэй считает, что "если Тамадзукурибэ представляли дань именно «тама» (украшения из камня), а не чем-нибудь другим, то это потому, что у них было развито выделывание этих «тама». Но это не означает, что данные «бэ» занимались выделыванием «тама» как особой специальной профессией. Также и Имубэ: «они служили при жертвоприношениях, но это не значит, что они не занимались другим производительным трудом. Как раз наоборот. Занятием всех этих „бэ“ было прежде всего земледелие и только в виде добавочного труда они выделывали „тама“ или служили при жертвоприношениях». (Ук. Соч., стр. 130). О том же говорит и Цуда Сокити в своей работе «Изучение древней Истории Японии». (Ниппон дзёдайси Кэнкю): «слово „бэ“ употреблялось, по-видимому, в двух значениях: словом, „бэ“ назывались группы, находящиеся под управлением томо-но мияцуко и исполняющие непосредственно для императорского двора какую-нибудь работу или что-нибудь для него изготовляющие, а также группы, принадлежащие самим томо-но мияцуко, т.е. земледельцы, вносящие им налоги. Пример образования „бэ“ во втором значении, то есть бэ-земледельцев, можно легко усмотреть в подворных налоговых книгах» (Ук. соч., стр. 485). Таким образом, ясно, что основную массу «бэ» составляли табэ-земледепашцы.
Само слово «табэ» впервые встречается в Кодзики в описании царствования Кэйко, но само явление возникло безусловно раньше. Как я уже упомянул, в царствование Суйнин впервые появляется слово «миякэ». Но если в это время появляется «контора-амбар», куда свозится зерно с «царских полей» (мита), то значит эти поля уже существуют, существуют и те, кто на них работает. Правда, это положение может быть принято с некоторыми оговорками, о которых я скажу дальше: но во всяком случае существование «миякэ» прежде всего связано с существованием табэ.
Свидетельства Кодзики и Нихонги дают возможность представить себе положение «бэ» довольно скудно. Что мы можем вычитать о «бэ» в этих древних памятниках. Во-первых, то, что эти «бэ», по-видимому, были неотрывны от земли. В этом духе очевидно нужно понять то место Кодзики, где говорится о «поднесении» царю Юряку старейшиной «миякэ» в пяти местах. Что значило отдать (или быть вынужденным отдать) кому-либо свой амбар? Это значило, несомненно, отдать его вместе теми полями, с которых собиралось зерно, и с теми людьми, которые это зерно добывали. Во-вторых, из хроники Юряку в Нихонги как будто следует, что в «бэ», т.е. в несвободных превращали за провинности: в этой хронике говорится, как Юряку превратил в «бэ» весь род одного из «провинившихся» старейшин. В другом случае Юряку, разгневавшись на то, что собака, принадлежащая чужой родовой группе, загрызла птиц, принадлежащих царю, в наказание обратил весь виновный род в «торикаибэ» («птичников»); и в них же превратил «бэ», принадлежащих куни-но мияцуко областей Синано и Мусаси, причем последние были виноваты только в том, что они возмутились жестокостью этого поступка царя. Кстати сказать, положение торикаибэ было, по-видимому, самым низким среди прочих: им на лицах даже ставились клейма. В третьих, из той же хроники Юряку явствует, что бывали случаи отнятия «бэ» у одних и передача их другим. Так, Юряку, будто бы разгневавшись на одного из старейшин, отнял принадлежавших этому последнему «инабэ» и передал их другому (Мононобэ). Это свидетельство интересно в том отношении, что характеризует положение «бэ» еще с одной стороны: они рассматривались как род имущества и могли, следовательно, быть объектом передачи другому, подарка и т.п. Иначе говоря, с ними можно было совершать те же действия, что и с «миякэ», т.е. дарить, подносить и пр.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (24)
Нечего и говорить, что в таких условиях «бэ» уже переставали быть кровной группой. Эти группы составлялись уже не в силу своего кровного родства, а волею их владельца. Поэтому, даже в том случае, если ими управлял их же бывший старейшина, это управление уже строилось на совершенно других началах, чем в роде.
Кем считать этих «бэ»? Рабами или крепостными. Этим вопросом много занимаются современные японские историки. В общем мнения разделяются. Такэкоси в своей работе "Экономическая история Японии (Ниппон кэйдзаси, т. I, стр. 89) считает, что какибэ, то же, что «сэммин», т.е. рабы. Так же думает Абэ Хирадзо – автор «Истории рабства в Японии» (Ниппон Дорэйси). На такой же точке зрения стоят и некоторые из молодых историков: Иваи, Морисима и др. Один из виднейших исследователей экономической и правовой истории Японии Такигава Масадзиро придерживается взгляда, что какибэ скорее крепостные (см. его работу «Тамамусидзуси-ва дорэй кокэцу-но сётё-ни арадзу» в журнале «Сисо» N 103. Цитированный уже мною Ито Дзохэй также склоняется к аналогичному мнению: «таково было явление, называемое бэ, и поскольку производство в те времена почти ограничивалось одним земледелием, постольку вряд ли можно сомневаться, что почти все бэ имели значение крепостных» (Ук. Соч., стр. 129). С точки зрения исторической точности более заслуживает внимания мнение Такигава и Ито, поскольку они – в особенности последний – стараются понять исследуемое явление во всей полноте и в его истинном значении, стараясь в этом смысле учиться у классиков марксизма. Такэкоси же и Абэ – либерально-буржуазные историки с весьма путаными представлениями о том, что такое рабовладельчество, «рабовладельческое хозяйство», «рабовладельческая формация», «рабовладельческий труд» и т.д.
Тем не менее, нельзя безоговорочно принять и мнение Такигава и Ито. Для лучшего выяснения этого вопроса необходимо обратиться к изучению положения остальной массы японского населения – свободных родичей.
Японский язык сохранил нам слово «мицуги». Это слово, как прекрасно выяснил Утида Гиндзо в своей работе «История земельного обложения в Японии» (Хомбо содзэй-но Энкаку), в старых письменных памятниках употребляется в двух значениях: в широком смысле оно означает дань вообще, в узком смысле дань изделиями ремесла, в первую очередь – тканями (см. Утида Гиндзо, Ниппон кэйдзайси-но кэнкэ, т. I, стр. 284-286). Как мною уже указывалось, первое упоминание о наложении дани встречается при Судзин, который ввел «юхадзуми-но мицуги» – «дань добычей лука и стрел» для мужчин, «танасуэ-но мицуги» – «дань изделиями рук» для женщин. Разумеется, это свидетельство хроник следует понимать только в том смысле, что в нем нашло свое отражение то наложение дани на покоренных, о котором шла речь уже раньше. Поэтому строго говоря, слово «мицуги» имеет один смысл: оно означает в точном смысле этого слова «дань», а так как в эпоху образования племенного государства дань бралась не зерном – в чем не было никакой необходимости, так как сам род-завоеватель прежде всего занимался земледелием, – а добычей охоты или изделиями ремесла, то это слово в дальнейшем, когда появился зерновой налог, стало означать налог тканями или изделиями.
Однако, для нас сейчас важна не дань, а именно налог. И тот же Утида показывает, что еще задолго до Тайка, т.е. до надельной системы в Японии уже существовал зерновой налог, подать изделиями и рабочая повинность. Зерновой налог носил название «татикара». Его происхождение очень древнее. Утида считает, что эмбриональной формой этого налога следует считать те приношения богам в жертву риса нового урожая, которые делались уже в глубокой древности (ук. соч., стр. 292). Первое же упоминание о татикара, как о налоге, встречается в правление Сэйму (царствовал после Кэйко, т.е. после эпохи походов Ямато-такэру). С течением времени этот налог получал все большее распространение, причем собирался он, конечно, в пользу царей и старейшин. Утида, рассматривающий исторический процесс еще во многом в свете официальной истории, все же вынужден сказать: «Представлялся ли этот налог, собираемый со всей страны, императорскому двору, или нет, – неясно… Всюду были местные вожди – куни-но мияцуко, агата-нуси; была аристократия – оми, мурадзи. Все они имели свои земли. Поэтому не подлежит сомнению, что налог, собираемый с земель, принадлежащих непосредственно императорскому двору, представлялся двору; что же касается налога, собираемого с земель, принадлежащих другим лицам, то вряд ли это было так. По всей вероятности, обычно этот налог местные правители брали себе» (ук. соч., стр. 292-293). Кроме зернового налога существовала и подать изделиями ремесла, или добычей местных промыслов. Эта подать обозначалась, как я сказал, словом «мицуги». Те два значения этого слова, о которых говорит Утида, надо понимать в том смысле, что сначала это слово означало «дань», а потом «подать». В качестве подати представляли продукты питания – добычу охоты или рыбной ловли; известен рассказ Кодзики о подношениях рыбаков царю Нинтоку; во многих случаях в качестве подати представляли изделия ремесла – утварь (род Имубэ), зеркала (род Кагамидзукурибэ), украшения (род Тамадзукурибэ) и т.д. С появлением в Японии больших групп корейцев и китайцев с них брали изделиями их ремесла, причем особое значение получили ткани, в частности – шелковые. Эти ткани особенно ценились и составляли главную ценность в «сокровищнице» царей.
Помимо налога и подати практиковалось и привлечение к рабочей повинности. Она называлась «этати». Первое упоминание об этой повинности относится к эпохе Судзин, когда был собран народ для возведения могильного кургана Ямато-тото-химэ. Вполне возможно, что и те работы по проведению оросительных сооружений, о которых упоминают Кодзики и Нихонги, также делались населением, привлекаемым в порядке этой рабочей повинности. Иногда на работу собиралось население даже из отдаленных местностей. Так, например, в правление Бурэцу (498-507) были будто бы собраны люди из Синано; в правление Когёку (642-645) – из Тотоми и Аки.
Таким образом, еще в эпоху складывания общеплеменного союза – наряду с господствующей формой – данью – понемногу появлялись: налог, подать и рабочая повинность. В рассматриваемую же эпоху, т.е. в VI-VII в., это все существовало уже в достаточно оформленном виде.
На кого же распространялись эти налоги и повинности. На томобэ и какибэ. Вряд ли. Понятие налога, подати и рабочей повинности никогда не прилагалось к бэ. Бэ работали на своих хозяев, и их труд – как и они сами – целиком принадлежал этим хозяевам. Поэтому приходится допустить, что налог собирался не с бэ, а с родичей. А это значит, что начиналась эксплуатация и основной массы японского населения. И по своему характеру эта эксплуатация носила все феодальные черты.
Какой же характер носила эксплуатация томобэ и какибэ?
Эксплуатация родичей, т.е. основного населения, происходила путем взимания налога зерном, продуктами, изделиями ремесел и иногда путем привлечения к работе, но не земледельческой, а какой-либо иной: главным образом для устройства могильных курганов и построек «дворцов». Это значит, что такое население сидело на земле, которая составляла владения данной земельной общины, владело орудиями производства и было лично свободно. Кроме того, и эта эксплуатация не носила еще всеобщего и точно установленного характера.
Томобэ и какибэ сидели на земле, считающейся собственностью какого-нибудь старейшины, вождя, члена царского рода; они обрабатывали эту землю для хозяина земли и сами принадлежали владельцам этой земли. Их хозяева брали от них все, оставляя, очевидно, столько, сколько минимально нужно было для их существования. Поэтому томобэ и какибэ гораздо ближе к рабам, чем к крепостным.
Но есть один признак, который вносит некоторый оттенок в это японское рабство. Томобэ и какибэ – во всем рабы – были тесно связаны с землей: вне земли они не существовали. Как это видно из приведенного мною отрывка из Кодзики, земля и люди были в этом случае неотделимы друг друга. Один из современных историков Хаякава Дзиро в предисловии к своей «Книге для чтения по японской истории» (Ниппон рэкиси токухон) высказывает мысль, что японских бэ можно в известной мере сравнивать со спартанскими илотами. «По форме они – крепостные по содержанию – рабы» (ук. соч., стр. 4).