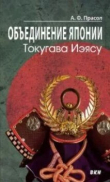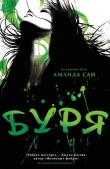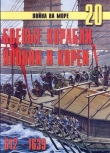Текст книги "Лекции по истории Японии"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (10)
Следующий исторический этап, особо отмеченный японскими хрониками, относится к правлению Тюай и его жены, знаменитой героини официальной истории – царицы Дзинго. Поскольку с ее именем связан поход на Корею, получивший отражение и в корейских хрониках, ее правление можно с некоторой достоверностью датировать: по-видимому, оно относится к середине или 2-й половине IV века.
Как Кодзики, так и Нихонги подробно освещают походы Тюай и Дзинго, предпринятые с начала против Кумасо на Кюсю, а затем, после смерти Тюай – против Силла. Чтобы понять эти походы, необходимо снова вернуться к обстановке, сложившейся в те времена на Корейском полуострове.
Падение Вэйского царства в Китае, установление там новой Цзиньской Империи, возникшие внутри страны междоусобные войны, усилившиеся вторжение кочевников – все это привело к потере Китаем своего влияния в Корее. В связи с этим обозначилось и ослабление Силла, опиравшегося на помощь Вэй, взамен чего начало усиливаться другое корейское княжество Когурё, захватившее в свои руки северные районы, бывшие до этого в китайском владении. Соответственным образом это отразилось и на положении Кумасо, также опиравшихся с однйо стороны на Китай, с другой – на Силла.
В этой изменившейся обстановке и произошли походы Тюай и Дзинго против Кумасо, а затем одной Дзинго – против Силла. Оба похода, как повествует японская хроника, – закончились успешно. Кумасо были приведены к покорности, царь Силла добился мира, поклявшись: «пока солнце не взойдёт с Запада, пока воды реки Ялу не потекут вспять, пока речные камешки не взлетят на небо и не превратятся в звезды, я буду весной и осенью представлять дань».
Вслед за Силла будто бы изъявило покорность и другое царство в Корее – Пякчэ, также уплатившее дань. Эти события приурочиваются к 346 г. Однако, насколько это завоевание было непрочным, показывает тот факт, что и самой Дзинго и ее преемнику Одзину пришлось не раз предпринимать повторные экспедиции: в 382, 385, 399-400 гг. Две экспедиции предпринимались и при следующем царе Нинтоку. Эти новые походы были связаные с продолжавшимися на полуострове распрями, главным образом, с борьбой Силла и Пякчэ. При этом японцы обычно выступали в союзе с Пякчэ. Обращение Пякчэ к помощи японцев в известной мере объяснялось опасностью не только со стороны Силла, но и со стороны еще другого противника – княжества Когурё.
Рассказы о походах на Корею имеют одно основное значение: они свидетельствуют о том же завоевательном процессе, который наблюдался и до сих пор. Набеги на Корею с целью наложения дани, т.е. грабежа, или же представляющие одну из форм обмена, были и до этого; об этом красноречиво говорят корейские хроники. В эпоху Тюай-Дзинго-Судзин эти набеги приняли только по-видимому более крупные масштабы. Результатами же их было только одно – о чем неустанно говорят японские хроники: собирание дани. Характерно, что уже в мифе о Сусаноо есть упоминания о корейском золоте и серебре. Японские хроники с восторгом рассказывают, как Дзинго вывезла дань на 80 кораблях. Возможность же осуществления таких больших заморских походов была подготовлена предшествующим процессом завоеваний внутри страны: по-видимому, к эпохе Сэйму образовавшийся на базе союза родов Ямато общеплеменной союз был уже достаточно сильным.
Нужно сказать, что Дзинго пришлось предпринимать не только внешние походы. Хроники рассказывают, что в отсутствие Дзинго был поднят мятеж принцами Кагосака и Осикума, подавленный вернувшейся Дзинго с помощью Такэноути-но сукунэ. Важно отметить, что этот мятеж ставится в связь с теми большими трудностями для населения, которые вызвал заморский поход: приходилось затрачивать много средств и трудов на постройку кораблей для переезда в Корею, в экспедицию бралось много народу и т.п. Пришлось подавлять восстание рода Ямабэ и Амабэ и преемнику Дзинго – Одзин. Все это указывает на то, что некоторые из родов – данников стремились при удобном случае освободиться от этой дани.
С именем Одзина, сына и преемника Дзинго, связаны главным образом рассказы о внешних сношениях и о прогрессе ремесел внутри страны. Так, рассказывается, что в его царствование прибыл от князя Пякчэ посланец, по имени Атики, поднесший правителю Японии «добрых коней». Этот Атики, как человек грамотный, был поставлен учителем наследного принца Ваки-Ирацуко. Если считать это прибытие фактом, то его следует приурочить к 399 году. В следующем, 400 году из Кореи приехал специально призванный по совету Атики «ученый» Вани, поднесший Одзину две корейских книги: учебник грамоты «Пяньцзывэнь» и «евангелие» раннего конфуцианства – «Рассуждения и беседы» «Лунь-юй». Этот Вани и занял место Атики по обучению царских детей. Затем при Одзине произошло переселение из Кореи в Японию большой группы – будто бы населения целых 127 округов под предводительством Юдзуки-но кими, китайца по происхождению. Отмечается прибытие «родоначальника» корейских кузнецов" в Японию – Такусо, ткача из царства У в Китае – Сайсо, винокура Нихо. Далее рассказывается о втором большом переселении из Кореи: в Японию приходит будто бы население 17 округов под предводительством Ати-но оми с сыном Цуго-но оми, по происхождению тоже китайцев. Эти Ати-но оми и его сын посылаются затем в Китай за ткачихами и портнихами.
С царствованием следующего царя – Нинтоку связывается целый ряд событий. Прежде всего знаменательна та распря, которая разыгралась среди наследников Одзина из-за наследования. Эта распря свидетельствует, во-первых, о том, что в союзе родов Ямато все еще велась внутренняя борьба, во-вторых, о том, что положение главы этого союза было настолько заманчивым, что из-за него велась борьба различных претендентов. Это значит, в частности, что положение главы союза было соединено с владением своих особых имуществ, отдельного от общего имущества рода. Далее, с именем Нинтоку связано установление «минасиро» и «микосиро», т.е. групп подневольного населения, работающего на царя. В его царствовании упоминаются и налог, и повинность, которые он то снимает, видя обнищание народа, то снова вводит, заметив, что благосостояние к населению союза снова вернулось.
Сведения, приурочиваемые к последующему царствованию – царя Ритю, снова подтверждают характер формирующегося племенного объединения как союза родов. Нихонги рассказывает, что при Ритю правили вожди четырех родов: Хэгури Цуку, Сога Мати, Кацураги Цубура и Мононобэ Ирофуку. Необходимо заметить, что роды Хэгури, Сога и Кацураги считаются различными ветвями рода знаменитого «Канцлера» Дзинго – Такэноути-но сукунэ. Это означает, что власть царей, т.е. вождей центрального рода Ямато была условна и временами очень неустойчива.
С царствованием Ритю связывается и еще одно важное указание: при нем была устроена т. наз. «внутренняя сокровищница» (утикура). Этот факт имеет следующее значение: при дворе царей Ямато с древности существовала «священная сокровищница» (имикура), гл. обр. для принадлежностей культа, бывших в распоряжении царей как главных жрецов, т.е. составлявших как бы их личное имущество; теперь появилось имущество, уже не связанное с жреческими функциями, в обусловленное положением царей, как глав союза родов; именно для хранения этого имуществ и была организована «внутренняя сокровищница».
После кратковременного царствования Хансё, не ознаменованного ничем замечательным, во главе племенного союза становится Инке. С его именем связано, во-первых, упорядочение образовавшихся к тому времени фамильных обозначений (кабанэ), во-вторых, «судилище» (кугатати), имевшее целью установить тех, кто именно «обманно» присвоил себе эти фамильные обозначения. Как тот, так и другой факт свидетельствуют о складывающихся классах и о зарождении классовой борьбы и поэтому они будут рассмотрены в другом контексте.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (11)
Краткое, ничем не ознаменовавшееся царствование Анко сменяется царствованием Юряку, «вступающим на престол» также после жестокой борьбы с другим претендентом. При Юряку (456-479) отмечается чрезвычайное развитие ткацкого дела: за ткачихами снаряжаются посольства в «царствование У» – в Южный Китай. Юряку заботится и о шелководстве: он собирает в одно место расселившийся повсюду род Хата и заставляет его заниматься шелководством. В результате шелковые ткани начинают поступать в таком количестве, что Юряку принужден для хранения их устроить «большую сокровищницу» (Окура) – уже третью по счету. Заведующим всеми тремя сокровищницами ставится глава рода Сога – Мати, непосредственным же хранителем «большой сокровищницы» становится глава рода Хата. Это все означает, насколько условна была власть т. наз. Царей Ямато.
С царствованием Нинтоку связано устройство первого японского порта. Нинтоку построил такой порт в бухте Нанива, т.е. на месте нынешней Осака. В этот порт приезжали не только японские суда, но и корейские и даже китайские. Нинтоку перенес в Нанива свою резиденцию и выстроил здесь дворец. Нинтоку приписываются и различные мероприятия по развитию земледелия, а также по проведению дорог.
С именем Юряку связано еще одно крайне важное установление. По вступлении на престол Юряку окончательно определились два звания – о-оми и о-мурадзи. Первое звание было присвоено главе рода Хэгури – Матори, второе – главе рода Мононобэ – Мория. Оба звания выступают в этом акте уже как общеплеменные и появление их является отражением складывающегося аппарата по управлению общеплеменным союзом. Мне кажется, что на этом процесс образования общеплеменного союза может считаться законченным. Базой этого союза являлся союз крупных родов, живших сначала в районе Ямато, а в дальнейшем расселившихся и по другим местам Японии. Опорой этого союза были наиболее крупные роды – род Такэноути-но сукунэ и его ветви Хэгури, Сога, Кацураги и пр. Главой союза был род Сумэраги, вожди которого выступали в роли царей. Прямым свидетельством того, что этот общеплеменной союз был построен на союзе родов, служит указание на то, что власть вместе с царями разделяли старейшины других наиболее сильных родов. Звания о-оми и о-мурадзи составляли прерогативу определенных родов: в качестве о-оми выступали главы родов Хэгури, Сога и Кацураги, в качестве о-мурадзи – Отомо и Мононобэ.
Таким образом, процесс, рисуемый с одной стороны, китайскими источниками, с другой стороны, японскими источниками, в общих чертах совпадает, и факт окончательного образования во второй половине V в. общеплеменного союза, соединенного с завоеванием и превращением покоренных в данников не подлежит сомнению.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (12)
СНОШЕНИЯ ЯПОНИИ С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ.
Ближайшими соседями Японии являются Китай и Корея. Обе эти страны вступили на путь исторического развития в отдаленные времена и занимали в Восточной Азии главенствующее место в культурном и политическом отношениях. История Корейского полуострова тесно переплетается и историей Северного Китая и различные государства, появившиеся на этих территориях, входили в соприкосновение и с Японией. Эти соприкосновения в разные исторические времена носили различный характер: то это были племенные миграции, т.е. передвижения племен, захватывающие отчасти Китай, отчасти Корейский полуостров, отчасти Японию; то это были мирные переселения отдельных групп из одной страны в другую; то это были обоюдные набеги; нередко то и другое соединялось воедино. В позднейшие времена возникли культурно-политические сношения – поездки в Китай и Корею с целью заимствования культурных ценностей и установления политических отношений; с другой стороны, предпринимались и более организованные военные экспедиции, с целью не только грабежа, но и с целью наложить дань на какую-нибудь часть чужой страны на более или менее продолжительный срок. Эти экспедиции имели место против Кореи, с Китаем же велись главным образом сношения культурно-просветительского характера. Иными словами, при изучении древней истории Японии всегда следует помнить, что исторический процесс в Японии развивался не изолированно от всего того, что происходило в те времена в Восточной Азии, и что история Кореи и Китая имеет очень большое значение для истории Японии. Понять очень многое в истории древней Японии можно только познакомившись с историей ее ближайших соседей. Это особенно становится необходимым при изучении следующего этапа древней истории Японии, т.е. событий, имевших место в V-VII в., т.е. в эпоху окончательного распада родового строя и образования после т. наз. переворота Тайка в 645 г. государства, основанного на вполне развитых антагонистических классовых отношениях.
Историческая жизнь китайского народа начинается в очень отдаленные времена, возможно – в начале – 3-го тысячелетия до н.э. (время т. наз. династии Ся). Однако эти отдаленные исторические времена не имеют значения для японской истории, так как первые следы каких-то соприкосновений с Японией обнаруживаются не ранее, чем в I в. до н.э., т.е. в эпоху Ханьской империи, образовавшейся на территории Китая в 206 г. до н.э. и просуществовавшей до 220 г. н.э. История этой империи обычно распадается на две половины: историю 1-ой (или Западной) Ханьской империи – с 206 г. до н.э. по 8 г. н.э. и историю 2-ой (или Восточной) Ханьской империи – 25 г. по 220 г. Это деление вызывается падением в 8 г. одной линии Ханьской династии и переходом на короткое время – до 25 г. – власти в руки одного из вассалов этой династии – Ванмана, после смерти которого в 23 г. Ханьская империя в 25 г. снова восстанавливается под управлением другой ветви прежней династии. Как известно, в историях именно этих Первой Ханьской империи (Цянь-Хань-шу) и Второй Ханьской империи (Хоу-Хань-шу) и содержатся первые упоминания о Японии.
С падением в 220 г. Ханьской империи на территории Китая на некоторое время образовались три отдельных царства: на севере – между Хуанхэ и Янцыцзяном – царство Вэй (220-264), в верховьях Янцыцзяна (на территории провинции Сычуань) – царство Шу (221-263), на юге – к югу от среднего и нижнего течения Янцыцзяна – царство У (222-260). В истории Вэйского царства содержатся уже довольно подробные сведения о Японии; есть сведения о сношениях Японии с царством У.
С распадом Китая на эти три царства начинается длительный период возникновения и падения отдельных государственных образований, появлявшихся в различных районах Китая и сменявших друг друга. Этот процесс вызывался, с одной стороны, неравномерным в различных частях Китая развитием феодализма, сталкивающим одни районы с другими; с другой стороны, некоторые царства и княжества распадались под влиянием крестьянских восстаний; играла не малую роль и междоусобная борьба феодалов между собой; наконец, целый ряд государств падал под ударами кочевников, непрерывно наседавших на Китай и занимавших иногда его отдельные части (гл. образом, Север), иногда же – весь Китай целиком. Таким образом, период «троецарствия» на некоторое время (с 280 г. – год падения последнего из трех царств– царства У) сменяется периодом объединения под властью сначала Западно-Цзиньской (265-316), затем Восточно-Цзиньской империи(317-420). Однако, это объединение в конце IV в. уже было нарушено завоеванием части Северного Китая народом кочевников – сяньбийцами, основавшими в 386 г. на занятой территории свое царство, вошедшее в историю под названием Северо-Вэйского (386-394). С этого времени начинается период разделения Китая на две больших части: север, находившийся под властью кочевых завоевателей, и юг, остававшийся под властью собственно-китайских феодальных домов, причем как в одной части, так и в другой происходит почти непрерывная борьба, приводящая то к простой смене владетельных домов, то к распаду отдельных государств. Так, на севере Северо-Вэйское царство, распавшись сначала на Восточно-Вэйское (535-556), сменилось потом царство Сев. Ци (550-577), в свою очередь смененного в дальнейшем царство Сев. Чжоу (557-580). На юге Восточно-Цзиньское царство сменилось в 420 г. царством Сун (420-479), затем царством Ци (479-501), Лян (502-557), Чэнь (557-589).
В конце VI века Север усиливается настолько, что начинает борьбу за новое объединение всего Китая. В 581 году после падения Сев. Чжоу там возникает царство Суй, которое в 589 г. захватывает весь Китай и образует таким образом всекитайскую империю, просуществовавшую, однако, под властью династии Суй недолго – только до 618 г. и перешедшую затем под власть династии Тан, при которой Китай – Танская империя (618-969) – достиг огромного политического могущества и культурного расцвета. Именно в этот период Суйской и затем Танской империи сношения Японии с Китаем приобретают особое значение, вследствии чего необходимо охарактеризовать социально-экономический строй и затем культуру Китая в эту эпоху.
Суйская, а затем Танская империя являлись государством феодальным. Однако, китайский феодализм в эту эпоху выливался в несколько особую форму. Эта форма – надельный строй.
Сущность надельного строя заключается в следующем: вся земля считается собственностью государства, вернее – императора, олицетворяющего собою государство, и все те, кто обрабатывает эту землю, кто имеет ее, пользуется ею не на правах собственности, а на правах надела, получаемого от государства, отплачивая за это государству налогами и отработкой. Этот порядок впервые получил свое оформление в Северо-Вэйском царстве, неуклонно развивался на всем Северном Китае, с завоеванием Суйской династией и юга Китая был распространен уже по всему Китаю и достиг своего наивысшего расцвета в период Танской империи.
Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ (13)
Танский надельный строй характеризуется следующими чертами.
Государство, являвшееся верховным и единственным собственником земля, распределяло эту землю среди населения в порядке подушного налога. При этом надел получал только тот, кто мог эту землю обработать. Считалось, что полностью обеспечить эту обработку могли лица от 18 до 60 лет. Это приводило к тому, что лица моложе 18 лет наделы вообще не получали, старики же – от 60 лет получали только половину. Естественно, что после смерти владельца надела, его земля поступала обратно в казну. Надел предоставлялся с таким расчетом, чтобы обеспечить все основные потребности населения. Согласно традиционной в Китае формуле эти потребности выражались в потребностях в пище, в одежде и в жилье. В связи с этим и в надел давались пахотные участки, участки для разведения промышленных культур и участки под постройки.
Получая от государства землю, население должно было платить за это. Опять таки согласно традиционной китайской формуле, человек должен был платить со всего, чем он владеет. Это означало: «если есть у тебя земля, – плати зерновой налог; если есть у тебя ремесло или промысел – плати промысловую подать; если есть у тебя тело, плати собственной работой!». Таким путем и сформировалась эта знаменитая для дальневосточного феодализма триада налогов и повинностей.
Однако такие наделы предоставлялись лишь одной, правда, большей части населения – крестьянству. Другая – меньшая часть – получала особые наделы, и размерами, и своим юридическим положением весьма отличавшиеся от крестьянских. Их получали представители правящего класса феодалов, подразделенного на два слоя: титулованную феодальную аристократию – феодальных князей разных степеней и феодального чиновничество. Нечего и говорить, что эти наделы были гораздо больше крестьянских, достигая в руках высшей знати размеров целых огромных латифундий; при этом некоторые из этих наделов были «наделами» только по имени, так как они поступали в полное распоряжение наделяемых и государство предоставляло им делать с землей что угодно – вплоть до продажи. Естественно, что владельцы таких наделов не облагались ни налогами, ни повинностями.
Для осуществления такой надельной системы, т.е. для проведения всех землеустроительных мероприятий, для контроля над землепользованием, для сбора налогов, привлечения населения к отработочной повинности нужен был огромный и при этом точно организованны и централизованный аппарат. Этот аппарат и был создан, при чем отличительное свойство его – именно эта централизация при всей его исключительной разветвленности.
Верховным органом по управлению государством была т. наз. «Главная административная палата». В ней была сосредоточена вся исполнительная власть и ей непосредственно был подчинен весь прочий правительственный аппарат. Этой палате были приданы две другие – палата императорских эдиктов и палата императорских указов, ведавшие разработкой и изданием различного рода указов и распоряжений. Во главе административной палаты стоял ее председатель – великий канцлер, являвшийся таким образом главою всего правительственного аппарата. Ему были приданы два товарища – левый канцлер и правый канцлер, составлявшие вместе с великим канцлером Верховную государственную коллегию.
Вторым звеном центрального аппарата были министерства – приказы. Их было всего пять: приказ чинов, дворовый, церемонный составляли первую группу; приказ военный, наказаний, общественных работ – вторую группу. Во главе каждого приказа стоял свой начальник, – т. ск. Министр, каждая же группа приказов подчинялась одному из канцлеров: первая группа подчинялась левому канцлеру, вторая – правому.
Каждый приказ делился на четыре управления, которые ближайшим образом и распределяли между собой все отрасли государственного управления.
Управления страной было соединено с административным районированием. Вся страна были подразделена на области, провинции, уезды, сельские округа и волости. Каждый из этих районов имел свои органы управления. Волость состояла из 100 крестьянских дворов, причем каждые пять дворов составляли одну общину – «пятидворье», которое и являлось низшей административной и налоговой ячейкой правительственного аппарата. Во главе пятидворья стоял старшина, подчинявшийся волостному старосте, который был в свою очередь подчинен начальнику сельского округа, как тот – начальнику уезда и т.д. Таким образом, правительственный аппарат, начинавшийся внизу в пятидворье, последовательно доходил до Верховной коллегии.
Вторым отличительным признаком этой государственной системы был ее бюрократизм. Все звенья правительственного аппарата обслуживались должностными лицами, в своей совокупности составлявшими чиновничество, организованное согласно особо установленной системе рангов и должностей. Они получали ранговые и должностные земельные наделы, получали от казны жалование натурой – из налоговых поступлений от крестьян. И поскольку все эти лица составляли правящий слой, пользовавшийся и землею и непосредственно доходами государства, идущими от крестьян, постольку класс феодалов принимал в этой системе облик чиновничества – феодальной бюрократии.
Совершенно несомненно, что надельный строй представляет одну из наиболее организованных и планомерных систем феодальной эксплуатации основной массы населения страны – крестьянства. Особенностью этого строя, отличающего именно эту систему эксплуатации от всяких других форм феодальной эксплуатации является то обстоятельство, что присвоение прибавочного продукта – в форме налога – производилось не непосредственно – путем отдачи крестьянином этого налога своему господину-феодалу, а через посредство государства, которое собирало этот продукт и потом передавало его правящему классу в форме жалования. В то же время в руках этого класса продолжала оставаться и значительная часть земли – на положении наделов. Так же и отработка шла не непосредственно на феодалов, а на государство, бывшее в распоряжении феодального чиновничества. Такая система эксплуатации может оказаться необходимой тогда, когда феодалы сами по себе по тем или иным причинам недостаточно сильны, чтобы осуществить эксплуатацию каждый отдельно, на свой собственный риск и страх и должны прибегнуть к системе централизованной эксплуатации. Такая система оказывается полезной и тогда, когда нужно расширить обработку земли и сделать ее планомерной и систематической и поднять, таким образом, налоговые поступления. Эта система оказывается, наконец, очень хорошим оружием для наиболее организованного и широкого закрепощения населения за землею и ее обработкой в пользу правящего класса.
С политической стороны надельный строй характеризуется абсолютизмом верховной государственной власти. Этот абсолютизм вырастает из необходимости для феодалов создать централизованное государство и опираться на него как на основной рычаг по управлению страною и извлечению доходов от крестьянства; он определяется и всей централизованной системой правительственного аппарата. Император в эпоху надельного строя – абсолютный монарх, не только – верховный глава государства, но и источник всякого законодательства.
Религиозной идеологией, сопряженной с этим строем, был буддизм. Некоторые положения этой религии могли быть с успехом применены к религиозно-метафизическому обоснованию общественного порядка, связанного с надельной системой. Дело в том, что правящий класс выставлял надельный строй как осуществление принципа всеобщего равенства: ведь каждый имел равное с другими право на получение подушного земельного надела, причем и размеры этих наделов были одинаковы для всех; недаром, вся эта система носила название «системы уравнительного землепользования» (цзюньтянь). Перед государем все были якобы равны; он же сам не только распоряжался всем, но и был источником всех прав и благ. Такая идеология, усиленно проводимая правящим классом, могла как нельзя лучше подкрепляться учением буддизма о всеобщем равенстве всех перед Буддой, который является источником всего – и жизни, и спасения. Поэтому буддизм, начавший проникать в Китай впервые в IV в. – в конце Западной Цзиньской империи, с установлением надельной системы стал быстро пускать корни и распространяться по стране. Суйские императоры покровительствовали буддизму, поддерживали его и Танские императоры. С другой стороны, не утрачивало свое значение и конфуцианство, в первую очередь со своим учением о «благородном человеке» (цзюньцзы), противопоставляемом «человеку малому» (сяожень). Эти два понятия толковались в моральном смысле и говорили о разных типах моральной личности, но они же могли быть соотнесенными и к различным социальным категориям, а это могло служить лучшим обоснованием и деления общества на управляемых крестьян и управляющих – феодальное чиновничество.