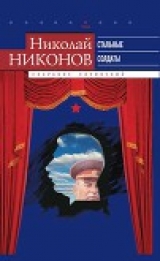
Текст книги "Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. Стальные солдаты. Страницы из жизни Сталина"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
* * *
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
А. Пушкин
Моли Бога, чтоб он уберег тебя от плохих женщин, а от хороших сбереги себя сам.
Еврейская пословица
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. И ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА
Все хотят дожить до старости, а когда доживут, ее же и винят.
Цицерон
Старению подвержено все. Старятся реки, мелеют моря, старятся, понижаясь, горы, и морщинятся, рассыпаясь, скалы, и падают леса. И любой, живущий на земле, подвержен Закону Возраста. И любой живущий не верит в этот закон. И в то, что возраст впрямую связан со словом «старость». Ах, как ненавистна эта старость, как жадно хочется остаться, быть вечно молодым, красивым, здоровым, не поддающимся вопреки всему! Старятся другие, – но разве могу я?
И Сталин, несмотря на все боли-недомогания, долго сопротивлялся старости. Главное лекарство – Валечка тогда постоянно была с ним. Но эликсир молодости не существовал и для нее, и она старилась вместе с ним, и ей уже не по силам было то, что еще несколько лет назад, как живой водой, омолаживало Сталина. Говорят, что только очень молоденькие девушки могут на время быть способными на такое. Их руки и тела несут оживляющие излучения, их груди выделяют неведомые феромоны, их дыхание целебно… – Соломон Мудрый спал в куче молодых наложниц и приказывал им дышать на себя, императоры Древнего Китая пили мочу девственниц… Но никто не обрел бессмертия.
Все это Сталин знал, когда, кряхтя, поднимался с дивана, со стонами начинал обуваться. Все болело: спина, ноги, голова. Спал он по-прежнему на широких кожаных диванах и зимой, когда особенно долило удушье, выбирая место поближе к верандам – в зависимости от того, с какой стороны дул ветер и в комнаты проникала лесная свежесть.
После изгнания Валечки – по-иному не скажешь – постоянной спальни у него не было. Постель теперь он стелил себе сам. Матрена лишь прибирала в комнатах, подавала белье, чистила башмаки, – теперь Сталин не ходил в сапогах, носил только военную форму и вообще изменил свою привычную жизнь во многом после второго удара, от которого он довольно быстро оправился, но уже не поехал на юг и до минимума сократил свое пребывание в Кремле. Утром до завтрака он уходил гулять в парк, кормил синиц и белок, для чего везде были развешаны кормушки, в теплые дни, надев тулуп, подшитые валенки, шапку-ушанку, сидел в оснеженных беседках, читал, писал, иногда туда же ему приносили обед и чай в термосе. Из повседневных привычек сохранил только поздний завтрак, да еще от прежнего осталась баня, но уже не парился до третьего пара, мылся один, и сказки о том, что приходила его молоденькая медсестра, пусть останутся на совести сказочников. Сталин в пятьдесят втором на женщин вообще не обращал никакого внимания, лишь велел провести в баню провод оповещения – мало ли что могло случиться, а предусмотрительность – второй ум..
Что же касается «врачей-отравителей», разоблаченных Лидией Тимашук, то Сталин даже санкционировал арест академика Виноградова, своего личного врача, и требовал немедленных дознаний. Это был уже вполне очевидный приступ болезненного психоза, да и как можно говорить о здоровой психике человека, почти пятьдесят лет проведшего в условиях нервных перегрузок: ссылки, побеги, войны, непрерывная борьба за власть и ее сохранение и непрестанный, каждодневный страх перед покушением, отравлением, пулей в спину..
Донимали вождя и сугубо домашние, семейные дела. Взбалмошный сын-генерал (автор и сейчас удивлен, как Сталин, великий вождь и полководец, мог спокойно реагировать на явно бессовестное продвижение сына по военной лестнице, как мог терпеть, хотя бы во имя своей чести, столь разнузданное поведение своего отпрыска). Василий Сталин стал уже притчей во языцех у всего командного состава армии и воздушных сил. Сталин, бывало, одергивал наглого сына-барчонка, но никаких серьезных мер не принимал.
Сын пил, буйствовал, глумился над друзьями, не признавал ничьих авторитетов, кутил, менял жен и любовниц. И примерно такую же вольную, чтоб не сказать беспутную, жизнь вела любимая дочь Светлана, то выходившая замуж, то разводившаяся, то снова мечущаяся в поисках новой любви. Великовозрастный кутила-режиссер Каплер, за ним – бойкий студент Мороз, сын Жданова Юрий, философ, который позднее в чем-то публично каялся в газетах… Какие-то московские подруги, более похожие на шлюх… – разводы, ссоры, уходы…
Стараясь быть поближе к дочери, Сталин брал ее с собой на отдых. Последний раз это было в пятьдесят первом на дачах в Боржоми (кстати, вождь очень любил эту воду, признавал за ней великие целебные качества). Как-то, сидя на веранде вместе с дочерью, отец разговорился с ней и, опять услышав это вечное: «Не везет мне! Не везет! Хоть не живи! – и все это с истерикой, плачем, злыми глазами, вдруг замолчал и долго сидел, опустив совсем уже седую, почти белую голову. Был вечер. Вдали, спускаясь с гор, синела-поблескивала гроза. Гром доносило. Орали где-то ишаки. И тявкали под гром встревоженные шакалы. С воды тянуло теплом, запахом спелых плодов, сладостью переспелого лопнувшего винограда. Живи… Радуйся… Дыши грозовой свежестью..
А Светлана рыдала, отбрасывая слезы кулаками, вздрагивая, оборачивая к отцу злое, отчаянное лицо. Вылитая Надя… Или еще почище..
– Знаэщь чьто… – сказал он, поднимая голову. – Я… сэйчас сказку тэбэ расскажю… Бабущька твоя… Мнэ в дэтствэ… рассказывала.
Сталин вздохнул. Помолчал.
Вытаращилась на него недоверчиво. Шмыгая, утираясь кулаками, облизывая губы.
– Вот… Жил в одном грузинском сэле бэдняк и лэнтяй… Звалы эго Хэчо или Хэчо-лэнтяй. Такой лэнтяй бил, чьто скажут эму: «Хэчо, закрой двер!», а он: «Вэтэр закроэт..» И всэм-всэм Хэчо жяловался… «Дэнэг нэт… Бэдный… Ныщий». Жяловался-жяловался… и сказалы эму люды… мудрые люды: «Иды, Хэчо, в горы… Найди там старыка Гэрбату… Этот старык високо-високо живет, за облаками, и всо знаэт… потому чьто он самый мудрый. Он тэбе и поможет…
Пощел Хэчо… нэхотя… Пощел… Идет-идет… Высоко… За облака защел… Выдыт – хижина..
Сталин посмотрел на притихшую дочь и продолжал:
– Подощел Хэчо… к хижинэ, и виходыт из нэе к нэму старык. Високый-високый… борода до колэн… бэлая. В руке посох. «Чьто, – спрашивает, – тэбэ надо, Хэчо? Знаю, чьто ти ко мнэ щел… Знаю… А зачэм?» – «Да вот, – отвэчает Хэчо… – Нэ вэзет мне в жизни… Богатым быт хочу… Нэ получаэтся!»
Посмотрел на него Гэрбату и говорыт: «Вот чьто… Раз хочэшь богатым быт, надо быт работящим и умным… Ну, ладно… Иды тепер домой и будэшь богатым. Я даже исполню три твоих желания. Но., думай, прэжьдэ чэм их трэбоват. И очэнь богатым будэщ. А тепэр иды!» – и посохом показал… куда идты..
Сталин прислушался к приближающемуся грому. Горы уже заволокло, и на веранде стало сумрачно. Светлана внимательно вглядывалась в отца. Таким она его давным-давно не видела, разве что в очень дальнем-дальнем детстве, когда отец души в ней не чаял, носил на руках, пел песни и, бывало редко, рассказывал грузинские сказки.
А Сталин, с досадой пошарив в кармане в поисках папирос (курить бросил, и курившие поймут), продолжал:
– Побэжял Хэчо… Вныз лэгко… И к богатству скоро. Вот бэжит, выдит… Яблоня стоит… Вся в яблоках. Хэчо хват на ходу… Откусыл… И плюнул. Горкое яблоко… Виплюнул. Обругал яблоню. А она эму: «Добрый чэловэк! Я нэ виновата. Под корнямы у мэня сундук с золотом закопан… Старык Гэрбату тут проходил. Сказал… Как золото викопают, яблокы сладкыэ будут… Викопай, добрый чэловэк, – и бэри..»
А Хэчо толко отмахнулся и – бэжять.
– Мэня, крычит, – дома богатство жьдет!
Опят бэжит… Пить захотэл. Тут речка… Зачэрпнул воды… А оттуда рыба болщяя-болщяя. Во рту – алмаз… С яйцо… «Помоги, – стонэт. – Винь камэнь и бэри сэбе..»
А Хэчо только рукой махнул и далше. Подбэгаэт к аулу – навстрэчу волк… Стращный… шелудывый.
– Нэ знаэщь ты самого лэнивого и глупого человэка? Старик Гэрбату сказал, что виздоровэю я, когда такого съем!
– Нэ знаю, – крычит Хэчо. – Я богатый и умный..
Прыбэгаэт домой… Чьто такоэ? Ныкакого богатства нэт.
Голые стэны… как было… Заругался., крычит: «Ахти, Гэрбату! Зачэм обманул? Гдэ богатство?!» И вспомныл… Надо же тры желаныя сказат… Задумался… Чьто просыть? А тут гроза– вот как сейчас, – усмехнулся Сталин, потому что гром уже ходил из края в край, сотрясая дачу, и молнии бело белили веранду.
– А пока он думал, – продолжал отец, – заболел у Хэчо… живот. Так заболел, чьто Хэчо заорал: «Чьтоб ти пропал!» И тут ударыл гром… Схватылся Хэчо за живот… Нэт живота… Одын хрэбет щупаэт… Испугался. И опят закрычал: «Пусть будэт лучше болщей-болщей!» И опят ударыл гром. Смотрит Хэчо – лэжит он на спынэ, а живот в потолок упыраэтся. Эще болше испугался. Закрычал: «Пуст будэт такой, как был!» И трэтий раз ударыл гром. Выдит Хэчо… живот на мэстэ, а богатства – нэт! Заругался и побэжял он снова к Гэрбату. А тут и тот волк: «А-а, – говорыт, – тэпэр-то я знаю, кто самый глупый и лэнывый!» Хват его и сожьрал.
Гром прокатывался и снова как будто возвращался. Стеной лил кавказский ливень.
– Вот так и ты, дочь, – покачал Сталин седой головой– Тры раза замужь… бэз моэго согласия лэзла… А чьто получилось? Жялко мнэ тэбя… Но., нэ исправышь… Чэм ти нэ тот Хэчо? Чьто тэбэ мало? Почэму умного чэловека нэ находыщь?
Наклонив голову, дочь упрямо молчала. Ливень хлестал за окнами, и где-то капало. Молчала. Вылитая мать! Ни в чем не уступит., ничего не хочет слушать. А жалко ее… Горько жаль. Дочь… Кряхтя, он поднялся, сказал сурово:
– Ладно… Пойдем ужинать… Можэт… и на ползу тэбэ… будэт сказка.
* * *
Пятьдесят второй год, и уже семьдесят третий его жизни, был, наверное, и самый тяжелым. Перенес, перемог второй инсульт, диковинной силой воли преодолел, заставил себя встать на ноги и продолжать работу. Где-то Сталин читал, что уже после шестидесяти нет лучшего лекарства для продления жизни и здоровья, как работать, работать и еще больше работать. Альберт Швейцер, что ли, сказал..
И продолжал заваливать себя работой. По-прежнему по утрам читал прессу и письма, скудно завтракал: вареная кукуруза, котлета из лосятины, творог без жира, хлеб-ла-ваш да чай с неизбежным лимоном. Совсем почти перестал пить вино. Бутылку телиани разводил водой, пил по рюмке чуть не месяц. Приказал включать в меню бананы – где-то опять вычитал подтверждение уже читанному раньше, что индейцы в горах живут на бананах по сотне лет.
А обилие дел не сокращалось. Все требовало его подписи, утверждения. Доклады разведок, сообщения атомщиков (творили еще более чудовищную бомбу – водородную, где лишь запалом должна была стать атомная), страна строилась, в Москве возводились чудовищные высотники-«не-доскребы», как окрестил их народ за странную архитектуру, повторяющую кремлевские башни. А строили зэки..
Но уже не было сил и средств снижать цены, бедствовало и так обращенное то ли в крепостных, то ли в рабов «колхозное» крестьянство, и народ терпеливо сносил нищету лишь в сравнении с минувшей войной.
Аон планировал все новые стройки, требовал новых проектов и с этой целью решил провести новый сверхпарадный съезд ПАРТИИ. И провел. И даже подал в отставку. Впрочем, заранее зная, что никто никогда публично не выступит против него. Съезд и пленум нового ЦК, конечно, не утвердили «отставку». И можно было твердо сказать: ТОГДА ее бы не утвердил, не понял и не поддержал народ. Слишком был велик авторитет «вождя народов, гениального полководца, победителя над фашизмом, продолжателя дела..» – и как только не именовали его… Сегодня такое невозможно понять. Съезд и пленум не приняли отставку. Съезд и пленум снова утвердили его Генсеком и Вождем! И теперь можно было готовиться к разгрому и разгону своей заевшейся свиты, прятавшей ненависть к нему под маской смирения и покорности. Макиавелли советовал каждые пять лет устраивать погромы своих приближенных, менять правительства, казнить подозрительных…
В конце жизни Сталин увлекся и утешался планированием. Сохранились ли в его опечатанных недоступных архивах карты Союза, испещренные его пометками, линиями, надписями красным и синим? Видимо, сохранились. Ведь начатый при Сталине БАМ пытался продолжить пятизвездный генсек. А на тех картах были квадраты лесных полос и насаждений, зеленая штриховка будущих лесов в пустынях и степях, синие линии каналов. Волга – Дон, Каракумы, Днепр и Днестр и сибирские реки, загороженные плотинами электростанций и словно повернутые вспять. «В Сыбыри… рэки тэкут… нэ в нужьную сторону», – как-то изрек он.
А однажды в порыве чего-то похожего на вдохновение он провел почти прямую линию от устья Оби до Байкала и Амура, через всю Западную и Восточную Сибирь. С линейкой и карандашом стоял он у карты, прикидывая, как построить невиданную, неслыханную магистраль.
«Сколько эта дорога дала бы стране будущего угля, леса, нефти, руд! Сколько богатств, неразведанных, таящихся, открылось бы вместе с нею! И уж точно тогда Союз вышел бы на роль главной державы мира. А энергию для добычи всех этих богатств дали бы великие сибирские реки: Обь, Енисей, Ангара, Лена..» По заданию Сталина экономисты, геологи, геодезисты, проектировщики уже прикидывали, как провести эту дорогу в будущее, сколько потребуется труда, людей, денег, сил, сколько новых лагерей придется открыть, перебазировать, перегнать. Добровольно туда ни за какие деньги никто не сдвинется….
И мнилось ему в далеком грядущем эта великая, сияющая, богатейшая страна, где коммунизм, в который он сам не верил реально, будет все-таки в основных чертах осуществлен, сделан, построен. Ведь если жизненных благ через край, какая может быть прекрасная, обустроенная жизнь! А жизненные блага разве самое главное? Воспитать людей, научить жить хотя бы так, как живет он. Разве он в три горла ест? Разве пьянствует? Разве погряз в роскоши: копит золото, деньги, брильянты? И чем они лучше граненых стеклышек? Разве только блестят сильнее. Золото? Чем оно лучше меди? Вон в Оружейной палате стоят золотые царские сервизы, и никогда ему не хотелось есть из этих блюд. Одежда? Ничего у него лишнего не было: три кителя обычных да один светлый, парадный. Да штаны, ну, и парадные белые, с лампасами..
Как-то этот дурак Большаков подал ему на подпись фильма авторучку. Ручка не писала, и тогда Большаков с досадой тряхнул ее и посадил фиолетовую кляксу на эти штаны. И побелел. А он, Сталин, сперва нахмурился, а потом снизошел: «Чьто? Думаэщь, у Сталина одны послэдные шьтаны?» Последние не последние, а вот еще случай вспомнил: к дню его рождения обслуга дачи, явно с благословения коменданта Орлова, решила сделать ему подарок. Он ходил в разбитых, растресканных ботинках, по их мерке сшили новые, и Матрена утром ли, с вечера ли поставила новые у дивана, а старые унесла. И все ведь знали: Хозяин не принимает никаких подарков, не любит, а если принимал к семидесятилетию, все отправлялось в музей или еще куда. Себе не брал ничего. Но тут, думали, обрадуют.
– Гдэ… мои ботынки? – спросил вождь, сидя на диване и хмурясь, эту женщину, каких в народе зовут «простодырые».
– Дак, товарищ Сталин… Иосиф Виссарионович! Вы же генералиссимус., вы же вождь..
– Гдэ мои ботинки?!
– Дак… хотели., выбросить. Оне же., и с подошвы худые… Потресканные все..
– Сэйчас же., чьтоб были здэс..
Ботинки принес сам комендант дачи Орлов и тоже пытался убедить Сталина принять дар.
Но Сталин молча взял из его рук ботинки (старые), сопя, надел, а коменданту указал на дверь.
Насколько известно автору, из всех подарков к семидесятилетию, а дарили оружие, мебель, ковры, гобелены, фарфор, украшения из золота и серебра, картины, радиотехнику и даже орловского рысака, Сталин взял себе только теплые рукавицы и бурки-чесанки.
* * *
Часто вспоминался теперь ему не столь давно минувший юбилей. Все эти бесконечные поздравления, телеграммы, дары. Речи… Благодарения. Какие-то еще попытки увенчать его лишней звездой. Зачем? От звания Героя Советского Союза отказался решительно и рассердился на Маленкова: какой «Гэрой»? С чэго? Награда должьна быт по заслугам». Он что: Днепр под огнем переплыл? Дот-амбразуру закрыл грудью? В атаку первым поднялся? Иное дело – орден Победы… И орден Сталина придумали, похожий на орден Ленина. Зачем? Могли бы и как-то иначе. И в статусе записали: является вторым. А почему? Разве этот «Ильич» столько сделал для страны? Сотой, тысячной доли не сделал… Кто дал социализм этой стране? Разве Ленин? Кто сделал социализм из утопии и мечты реальностью? Кто построил из разграбленной страны единое могучее государство? Кто сплотил теперь уже непобедимый социалистический лагерь? Кто утвердил международный авторитет Союза на всех уровнях? Ильич? И не пора ли уже развенчать его и убрать под каким-нибудь предлогом его пирамиду в другое место?
И вот, создав стране такое могущество, сплотив теперь монолитную партию, оснастив сверхмощным оружием армию, сам он остался больным, теряющим силы человеком. Где же она, справедливость? И ведь ни на кого нельзя с надежностью положиться. Нет надежного преемника, и лишь отпусти вожжи – столкнут. Где справедливость?
В последние дни пятьдесят второго года он вдруг словно вспомнил о Валечке и приказал ей прийти. И тотчас явилась она. Принял ее не в здании дачи, где прожили они столькие годы, не в той комнате, кабинете-спальне-столовой, – жил теперь в деревянном домике по соседству с дачей. Смущенная, напуганная, недоумевающая, стояла она перед ним теперь не в передничке, но в халатике и белой косынке, и было пугаться отчего. 16 декабря был арестован ненавистный ей генерал Власик. Арестован, отправлен под домашний арест генерал Поскребышев, всегда благоволивший ей. Опять шерстили охрану, обслугу. А Сталин ходил, словно помешанный, и оттого еще более страшный. Было у него запалое, зажелтелое и словно обращенное в себя непривычное лицо. Это лицо он и поднял на нее, когда она встала, растерянно уронив руки.
– Вот… Рэщил эще… повыдатся с тобой, – сказал Сталин. – Садыс… Погляжю… Давно нэ видал… Как живешь., можещ… Может, замужь хочэшь?
– Что вы..
– А я., серьезно тэбе говорю… Я много думал о тэбе… Много. Особэнно когда тэбя… сослалы… И письма твои вон оны… Всэ лэжят у маня в столэ. Хороще… чьто ты писала их мнэ… Имэнно поэтому… Я тэбя и понял… Понял… И… – простыл… Да… Вот чьто и хотэл тэбе сказат… Всэ… Всэ считают мэня звэрем… Бэз дущи… А я и в самом дэлэ, навэрное, растэрял эту дущю… Сжег эе… На всом… этом… Тут нэльзя иначэ… Иначэ бы..
Он вздохнул, провел по лицу, уже словно тронутому какой-то неизбежностью, здоровой рукой. Лицо было бледно-серое, в пятнах, морщинах и даже небритое – было воскресенье, а он не побрился.
– Чьто стоишь… Садь, – повторил он, опять проведя рукой по лицу.
И вдруг остолбеневшая Валечка, все еще не решающаяся сесть, увидела, что Сталин плачет. Стирает слезы мало-послушной рукой со щеки и усов.
И тогда она бухнулась-рухнула перед ним и сама зарыдала в три ручья, зарываясь лицом ему в колени, причитая что-то несвязное, женское, горькое..
Это была их последняя встреча.
* * *
Через два месяца, 5 марта 1953 года, в 9 часов 50 минут вечера, после четырехсуточной агонии он умер.
Автор не хочет вдаваться в подробности исхода Сталина. Об этом уже написаны (и навраны зачастую) целые книги. Автор считает, что Сталин умер своей смертью. После двух инсультов трудно говорить об исцелении. Была там, правда, и упоминалась всеми бутылка боржоми. Стакан этой воды Сталин выпил перед тем, как рухнуть на пол в малой столовой. Был ли сделан анализ этой воды? А впрочем, зачем.
И вызывает удивление вовсе не то, что так случилось, а то, что, прожив столь удивительную, тягчайшую, наполненную и победами, и тягчайшими поступками жизнь, став неотделимым от истории страны, он, Сталин, удержался в живых так долго. И жизни, и деяний его хватило бы на десять и более иных человеческих жизней.
* * *
Бог есть! И он воздал нерукоположенному служителю то, о чем сказано в ВЕЛИКОЙ КНИГЕ:
«ШIРОКЬ ПУТЬ ВВОДЯИ ВЪ ПАГУБУ, И МНОЗИ СУТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЪ НЕГО.
ЩЕДРЪ И МИЛОСТИВЪ ГОСПОДЬ, НО И ПРАВО-СУДЕНЪ.
И ОЧИ ГОСПОДНИ ТМАМИ СВѣТЛЬИШИ СОЛНЦА ЕСТА, ПРОЗИРАЮЩЕ ВСЯ ПУТИ ЧЕЛОВЕЧИ».
ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА
В уже давнее, прошедшее время в Свердловске жил «старый большевик», известный тем, что он «видел Ленина». Большевик ходил по садикам и школам и, принимая всяческие знаки почтения, рассказывал, как он «видел Ленина». А Ленин будто бы, когда этот большевик стоял на посту в Кремле, прошел этак и поздоровался с ним. «Простой такой, обыкновенный». Слушая этого человека (приходилось не раз), я всегда вспоминал анекдот не анекдот, но рассказ о том, что число несших с Лениным бревно на знаменитом «субботнике», оказывается, перевалило за тысячу.
Так вот, не желая уподобляться тому большевику, все-таки расскажу, как я видел Сталина. В самом конце сороковых годов, не помню точно, в сорок девятом или пятидесятом, я поехал впервые в Москву весной на экскурсию по студенческой путевке. Не стану повествовать, как я прибыл в столицу (поезд тогда до столицы шел целых три дня), как нас разместили в какой-то школе за Рижским вокзалом, как водили на экскурсии (Кремль тогда был строго-настрого закрыт), но на первомайскую демонстрацию нас допустили. Демонстрация эта была совсем на такая, как в нашем городе, – шли-допускались не все желающие, а только «представители трудящихся» строго по спискам, строго по районам и колоннам. В списки были включены и мы. Помню, как я даже очень плохо спал накануне: все чудилось, как я иду в колонне и Сталин, такой, как на портретах, машет мне и что-то говорит.
На деле оказалось все не так уж и просто. Нас примкнули к каким-то колоннам, помнится, Краснопресненского района, все утро томили в дальних улицах, а потом вдруг по чьей-то команде стремительно двинули к площади. Полдороги мы даже бежали, взявшись за руки, а по площади быстро шли, соблюдая нестройное равнение, кричали что-то восторженное в сторону мавзолея, Кремля, а на этом мавзолее, неожиданно маленьком, я увидел стоящую за шлифованным парапетом трибуны шеренгу-цепочку невысоких людей в военных фуражках и шляпах и тотчас узнал их по многим фотографиям из газет.
Вон Молотов, там Каганович, кажется, Берия, и еще, и еще. А Сталин? Да вот же он! Старик в военной форме, в золоченой фуражке, седые усы и седые, белые совсем виски, поднятой рукой он помахал нам вправо-влево, помахал всем (а значит, и мне?) и опустил ее под наш восторженный нечленораздельный вой: урр-ра-а-а… Сталину-у… Великому Сталину-у… Урр-раааа!
Бухала музыка. Сами собой шагали ноги, а голова все еще была повернута туда, к этому старику. Кажется, он опять вяло поднял руку. И я даже не запомнил, кто был с ним рядом, а больше всего запомнил фуражку, усталое лицо, вроде бы доброе, уже белые усы и виски.
А потом думалось: неужели вот этот старый человек и был столь великим, что все, буквально все тогда двигалось его мыслью и его словом?
Кстати уж, на маленьком мавзолее Сталин не показался низеньким – человек обычного роста. Или все там были такие?
* * *
В сорок девятом году, окончив первый курс литературного факультета пединститута (что за мужчина я был, коли поступил в педагогический), я вдруг с горечью понял, что зря трачу время на ненужную мне учебу и все, что там преподают, так или иначе, знаю или могу быстро усвоить и «сдать»! И я подумал: а что, если попросить разрешения учиться сразу на двух курсах – втором и третьем? Закончив их в один год, можно оказаться на выпускном, четвертом! Немалую роль в стремлении скорее-скорее отучиться сыграла еще и моя любовь: меня, первокурсника, угораздило влюбиться в девушку-выпускницу.
И, не думая долго, я пошел к декану факультета. Им тогда был кудрявый красивый еврей Иосиф Беньяминович Канторович, вроде бы явно симпатизировавший мне. Но на мое заявление был дан решительный отказ: «Что вы? Разрешить на двух курсах? Сдавать по две сессии? Нет! Нет! Такого никогда не было… Идите к директору… Если он… А я не могу..»
И я пошел к директору. Директор, Яков Денисович Петров, человек с абсолютно голой бильярдной головой и каменным лицом идола, посмотрев на меня маленькими, вдавленными глазами, изрек одно только слово: «Нет». Ходил слух, что Яков Денисович служил некогда секретарем у самой Крупской в Главполитпросвете.
И тогда я решился на отчаянный и вроде бы глупый поступок.
Я написал письмо товарищу Сталину. А в письме указал, что хочу сократить время обучения, сберечь деньги
государству, что тратятся на меня, и прошу лишь об одном, чтоб разрешили учиться на двух курсах сразу. «Экзамены (выпускные) обязуюсь сдать только на пятерки».
Я и сейчас помню то окошко почтамта, где приняли у меня заказное письмо и выдали квитанцию: «Москва. Кремль. Сталину». Наверное, меня приняли за очередного сумасшедшего.
А через месяц или больше меня вдруг вызвали к тому же Якову Денисовичу, и секретарь его (не он) сообщила, что мне «разрешается учиться на двух курсах».
«Неужели мое письмо дошло до Сталина?!» – думалось мне. Но так как никто ничего не объяснял, я просто принялся за учебу и, помнится, сдавал, сдавал, сдавал. Только в одну летнюю сессию сдал тринадцать экзаменов, не считая зачетов.
И тут обнаружилась еще одна очень приятная неожиданность: придя за стипендией к зарешеченному окошечку бухгалтерии, я получил не обычную, а повышенную стипендию, хотя отличником полным я не был.
Скажу лишь, что я благополучно закончил оба курса. Перешел на четвертый. Женился на той самой выпускнице… И, как обещал Сталину, сдал все четыре «госа» на пятерки.
* * *
А еще я хорошо помню полдень 9 марта 1953 года, когда в Москве хоронили Сталина. Я стоял в черной толпе на центральной площади Свердловска – Площади 1905 года – и слушал речи по радио из Москвы. Шел мокрый снег, и мутное небо едва просвечивало прячущимся где-то солнцем. Кажется, вторым говорил Берия. Говорил он густым неприятным и хриплым басом с гораздо более сильным акцентом. Это был не акцент Сталина, который я почему-то очень хорошо помнил и даже словно ценил, как некую особую принадлежность личности вождя.
А Берия, явно пытаясь повторить сталинскую клятву, басил:
– Кляномся… тэбэ… товарыщ Стелын… что ми свато виполным..
Дальше я просто не помню. Дальше завыли все заводские и паровозные гудки. И этот вой, не стихающий, долгий, перекатный и жуткий, как при затмении солнца, был страшнее и памятнее всего.
Люди плакали. Женщины рядом рыдали. Я тоже утирал слезы. И я не знаю исхода ни одного человека, о ком бы так скорбел народ.
Помню, как я пришел на работу в школу, и там тоже был плач. Особенно рыдала завуч, женщина с необъятным бюстом, и помню ее слова: «Как же., мы., все., тепе-ерь?»
* * *
Три года тому назад, уже вплотную работая над романом, я решил уточнить те отрывочные и разные сведения о Валечке, последней любви и служанке великого вождя (именую так, как его именовали прежде). Надо было поточнее знать, где родилась, крестилась, какую школу закончила, где живет. А вдруг да еще жива?
Понимая, что люди из обслуги Сталина все были зарегистрированы в НКВД или КГБ – теперь МВД и ФСБ, я обратился в отдел кадров этого почтенного учреждения, кстати, едва добившись адреса, – на Руси и по сей день все секрет. Но из МВД (спасибо!) мне ответили, что письмо мое передано в отдел кадров ФСБ. Время шло, и я уже не надеялся на ответ. Но все-таки письмо пришло. Вот оно дословно:
«На Ваше письмо в отношении (такой-то) сообщаем, что она скончалась в декабре 1995 года.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 24 – ФЗ «Об информации», ответить на интересующие Вас вопросы не представляется возможным.
Зам начальника Управления кадров Федеральной службы охраны Российской Федерации (подпись)».
И я подумал: «Да. Ледниковый период на Руси не кончился. Медленно тает лед». И еще подумал: ну если бы я просил адрес создателя водородной бомбы, еще кого-то такого, конечно, вправе были бы мне ответить, как в письме.
Но Валечка была всего лишь подавальщицей и сестрой-хозяйкой у Сталина. Какие тайны я выведал бы у нее? Тем более что ее уже нет на свете? А прожила она еще сорок два года после службы у Сталина, то есть до глубокой старости. Впрочем, что ответила бы мне Валечка, если бы даже была жива? Ведь она давала подписку о молчании…
МЕДЛЕННО ТАЕТ ЛЕДНИК..
* * *
«ЕСТЬ МОЛЧАИ, НЕ ИМАТЬ БО СОВѣЬТА, И ЕСТЬ МОЛЧАИ, ВЕДЫИ ВРМЯ».
Библия
Декабрь 1999 года. Екатеринбург
ПОСЛЕСЛОВИЕ (ИЛИ ВМЕСТО НЕГО)
Любой век приводил в литературу новый реализм. Тем более это должно произойти на пороге нового тысячелетия. Литература, как и все искусство, должна перейти на высший рубеж и изобразительности, и осмысления жизни – иначе она деградирует, распадется на те примитивно-прагматические, развлекательные или формалистические течения, которые всегда характерны для времени под знаком грядущего Апокалипсиса.
Верю, что реализм выживет и что предметом изображения этого высшего реализма станет наконец все, что творит Человек и творит Природа. Верю, что эпоха цензурных изъятий и оскопляющих купюр в новом тысячелетии канет в прошлое, ведь не секрет: искусство в целом было в плену христианского догматизма, точнее, догматизма клерикального, и цепи его продержались довольно прочно почти два тысячелетия. Не собираюсь посягать на высшую морально-нравственную ценность Христовых заповедей – они несокрушимы, – но разве человек, даже христианин, верующий, не нарушал их все и сплошь?
Именно потому, что тема греха и искупления останется вечной, реализм высшего порядка, на мой взгляд, не должен бояться отображения процессов всей нашей грешной жизни точно так же, как не чурались этого далекие мастера дохристианских эпох и культур, творениями которых мы продолжаем восторгаться. Что было запрещено в изображениях тем древним художникам? Ответ прост: ничего. Фронтоны и капители индийских храмов, украшенные сверхнатуралистичными изображениями и сценами совокупления, прекрасны своим жизнеподобием и реализмом Любви – высшего счастья, доступного человеку. Любви поклонялись, любви служили, любовь почитали, как, может быть, высшее проявление божественного начала.
Нет сомнения, мы на тысячелетия оказались отключенными от истин любви, утвердив над ней и ее изображением пуританские табу и ханжеские запреты, особенно дикие в странах бывшего «социалистического лагеря».
Однако и в этом лагере, не говоря уж про мировой охват, ни один большой мастер, тем более великий художник, не вошли в историю искусства без хотя бы попыток вернуть искусству и человечеству свободу изображения жизни и ее основы – любви. Так рождались «Декамероны» и «Гаври-лиады», стихи Баркова, «Яма» Куприна, «Лолита» Набокова и даже фривольная «Эммануэль», в сущности реалистическое повествование о жизни женщины-нимфоманки.







