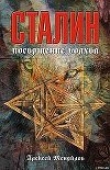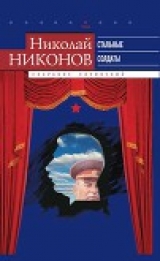
Текст книги "Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. Стальные солдаты. Страницы из жизни Сталина"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Так заканчивалась эта «вечеря», начало которой было положено на сталинской встрече с фюрером. А конец… Потеряв едва не полмиллиона убитыми, ранеными и пленными, «победоносная» Красная Армия все-таки одолела линию Маннергейма, – война, вместо двух недель, длилась четыре месяца, и Сталин был вынужден подписывать перемирие. Воевать дальше было и невыгодно, и стыдно, и опасно.
* * *
Если твой враг – муравей, считай его слоном.
Индийская мудрость
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. «РАССТРЕЛЯННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ 1940 г.»
Возлюби Господа Твоего…
Из первой заповеди
Бог есть!
Слова арестованного Ягоды
– Ти прасыл… сохранит тэбэ жизн? Так? – Сталин, сидя за своим столом, раздумчиво и как бы почесывая где-то меж ухом и затылком правой рукой, смотрел на стоявшего у двери маленького человека в серой арестантской одежде и с руками за спиной. На руках, похоже, были американские наручники – новинка, только что поступившая в инвентарь НКВД из Германии. Мало кто знает, сколько секретов содержания арестованных, как и секретов дознания, получили по «взаимообмену» перед войной НКВД и гестапо.
Черноволосый маленький человек с густо поседевшими висками (он не был обрит) умоляюще и непонимающе посмотрел на него странными, ближе к собачьим, и как бы светящимися глазами, потом опустил голову. У него был вид избитого, затравленного и потерявшегося подростка, каких еще немало таскалось по дорогам и городам, кочевало на товарняках и спало по станциям, вылавливалось, отпускалось и снова бродило по осчастливленной Лениным, Дзержинским и Ягодой империи. Их называли беспризорниками.
Сталин перестал скрести у затылка, подпер щеку и смотрел на опущенную голову этого паренька.
– Чьто жэ ти… молчищь? – спросил Сталин.
Подросток поднял голову, его измученное лицо со впалыми щеками можно было бы даже назвать красивым, но красивым той красотой, какая бывает у генетических воров, кочевого жулья и вообще тех, кто с рождения словно был обречен на свою будущую «профессию». А еще оно напоминало уроженца Украины, той ее стороны, что подвергалась татарским набегам.
– Товарищ Сталин… Иосиф Виссарионович… Я буду… Я виноват… Но я… Не понял… Я вам служил… Я… Вы… – речь его явно путалась, но теперь стало видно, что это взрослый человек, лишь предельно маленького роста.
– Садь! – резко сказал Сталин, указывая «подростку» место на стуле у стены.
Подросток стоял. Он опять опустил голову.
Сталин вышел из-за стола и, глядя на эту склоненную голову, слегка усмехнулся в тронутые редкой сединой усы. Сталину уже исполнилось шестьдесят, но он не казался шестидесятилетним.
– Раз нэ садышься… Дэло твое..
– Я..Я..Не могу… Болит… Все… – пробормотал «подросток» и снова поднял голову, глаза его были в слезах, но скованными за спиной руками он не мог их вытереть., и слезы стекали вдоль носа по смугловатому скуластому лицу.
«Подросток» был еще год назад, еще совсем недавно, грозный секретарь ЦК ВКП(б), нарком внутренних дел, человек, от одного имени которого бледнели и трепетали большие и малые «вожди», – Николай Иванович Ежов. Это его «ежовые рукавицы» были на плакатах. Их несли на демонстрациях. Ими словно городились в то странное время.
– Ти можешь нэ оправдыватся, – помолчав, изрек Сталин. – потому чьто… тэбя уже нэт… Да… По документам… Ти расстрэлян… Но ми… Ми рэшили… падарит тэбэ жизн… Да… Ми так решили… Сейчас., прямо отсуда… Ти уйдешь., капытаном Бондарэнко… Запомнил? Ти… украинец. Хохол… И только я знаю это., и еще два-три человека… Сейчас тэбя освободят… Дадут форму… Всэ докумэнты. Справки, чьто ты лэчился… В Москве… А ти… ведь, правда лэчился? И прямо отсюда… Ти поэдэшь на вокзал… Тэбя проводят. Дадут деньги… Былет… Ти поэдэшь к новому мэсту службы., начальником рэжима… На Магадан.
Ежов, открыв рот, не веря ушам, вытаращив глаза, смотрел на Сталина.
– Да… На Магадан… На дэсят лет… – продолжал Сталин, – ти будешь исправно служит. И., через дэсят лэт сможешь выйти на выслугу и., поэдэшь в любой город, но нэ блыже Урала ат Москвы., а как устроищься, капытан Бондарэнко… Это уже., будет твое., дело… Ти будэшь получать положенные повишэния… можэт… вийдэшь… и полковныком… Эсли будэшь хорошо служит и нэ начнощь снова пыть… как пыл… Всо… Как выдыщь… Я выполныл… твою просьбу… Сохраныл тэбэ… жизн..
Ежов вдруг бухнулся на колени и так, в позе молящегося грешника, стоял, не зная, что сказать.
– Встан! – резко приказал Сталин. – Всо… Можэтэ идты. Но., знайтэ… эсли ви вспомнытэ, – Сталин нажал на слово, – кэм ви былы… и попробуэтэ кому-то сказат об этом… – Сталин не продолжил.
Ежов с трудом поднялся с колен. И хотел, видимо, что-то сказать, поблагодарить., но Сталин махнул рукой, и бывший нарком повернулся к двери.
– Да… Эще… – остановил его Сталин. – Нам извэстно… что ви… сожитэлствалы с многымы женщинамы… И., эще… коэ с кэм… – Сталин фыркнул… – Ващя нэдавняя связ, чьто работает в гастрономэ на Тверьской (Сталин по-прежнему называл так улицу Еорького), не должна знат нычего… Со второй вашей женой Фринберг-Еладун разбыраются, а первая ваша жена… Антонина Тытова… Навэрное, тоже., исчэз-нэт… И ви… встрэтытэс с ней… В Магадане..
Ежов снова открыл рот, чтоб благодарить, но Сталин жестом указал на дверь.
– Мнэ нэ нужны ващи… благодарносты… Надэюсь ви поняли, как собырат досье., на товарыща Сталина. Всо… Идыте… Всо!
Когда дверь за Ежовым, видимо, все еще не верящим в то, что он жив и даже условно свободен, медленно закрылась, Сталин подошел к окну и, подняв складчатую портьеру, стал смотреть в мрачно-пасмурное ночное небо. За окном шел снег, а по мглисто-темным облакам светилось розово-фиолетовое отражение огней гигантского, еще не спящего, утомленного прошедшим днем города. Слышно было, как под окнами дворники метут и сгребают снег. Снег Сталин любил. Со снегом приходило тепло, а вот морозные дни едва переносил. В морозы он чувствовал неврозный страх и раздражение, и это отражалось на всем – от обращения с обслугой до резолюций и решений. Проследив датировку документов, подписанных: «И. Сталин» или просто «СТ», можно заметить: самые жестокие его «указы» падали на зимние месяцы: ноябрь, декабрь, январь… Январь особенно. Конца января, как все невротики, Сталин ждал, считал дни.
В Кремле висел большой старинный барометр в медной оправе. И в секретариате у Поскребышева замечали: едва прибор этот показывает «к осадкам» или зимой «к теплу», Сталин становился добрее, разговорчивее, бывало, даже шутил. Возможно, и эта мысль – отпустить Ежова – пришла Сталину в связи с наступившей широкой предвешней оттепелью.
А в Политбюро знали: Сталин, дождавшись первой капели, бывало, почти всегда устраивал на даче в Кунцево, а реже в Семеновском обильные попойки, приглашая актрис, писателей, сам пел песни дуэтом с кем-нибудь. Танцевали под патефон… А Валечке начинало доставаться обилие тех ласк, какими темпераментный мужчина-кавказец одаривает свою любовницу.
Сталин думал, что вот так, как он поступил с Ежовым, можно вроде бы поступить и с любым из расстрелянных в тридцать седьмом – тридцать девятом «соратников». О таком вот именно «освобождении» и молил его в письмах арестованный, сидевший под следствием Бухарин:
«Иногда во мне мелькает мечта: а почему меня не могут поселить где-нибудь под Москвой, в избушке, дать другой паспорт, дать двух чекистов, позволить жить с семьей, работать на общую пользу над книгами, переводами (под псевдонимом, без имени), позволить копаться в земле, чтоб физически не разрушиться, не выходя за пределы двора».
Письма этого «перевертыша» – так презрительно именовал его Сталин – всплывали в памяти, их было много, и они вопили, молили о спасении. Никто из обреченных: ни Зиновьев, ни Каменев, ни Рыков – не старались так. Бухарин же все мыслимые силы своего изворотливого ума, все возможности воздействия словом, «образом» употребил на то, чтобы разжалобить вождя, спастись любой ценой, уйти хоть с откушенной лапой, как уходят из капкана лисицы и волки. Бухарин любил животных, и когда его расстреляли с той беспощадностью, которая с семнадцатого года была как бы узаконенной нормой, в кремлевском парке долго жила и пряталась бухаринская полуручная лисица.
Почему же Сталин остался непреклонным? Он думал, что, отпусти он Бухарина, отпусти Зиновьева, Рыкова, Пятакова, Радека, о них непременно узнала бы партия Троцкого, их подняли бы на щит, и скрывать их, не расстреляв, было бы абсолютно невозможно, не то что этого жалкого дурака Ежова. К тому же Сталин знал: Ежов глупец, исполнитель его воли, старавшийся превзойти начальника и натворивший по этой глупости немало дури.
Весь тридцать девятый, сороковой и даже сорок первый годы приходилось «дурь» расхлебывать, разбираться, освобождать воистину невинных – из лагерей за эти годы было освобождено около 400 000 заключенных, из них – 12 461 несправедливо уволенных из армии или арестованных на службе. И все-таки Ежов, как передавала сталинская разведка, и за глаза не оскорблял Сталина. А вот как крыл его Бухарин, когда был в славе и силе, Сталин всегда и точно помнил и потому не верил ни одному его слову.
Хмурясь, Сталин думал: а как поступили бы Троцкий, Зиновьев, Каменев и Бухарин, будь они у власти, а он., на их месте? Разве они пощадили бы его? «В конце концов, – думал Сталин, – я же дал Бухарчику возможность бежать, дал ему поездку в Париж вместе с женой незадолго до ареста… Могли бы не возвращаться».
В просьбе о помиловании Бухарин прямо молил: «Сделайте меня неким Петровым, а Бухарина – расстреляйте. Я на коленях стою перед партией». И точно так же просил Ягода..
Но Сталин не сделал этого. «Примирившийся враг – враг вдвойне». Легче, переступив через себя, подписать приговор. А Сталину и не надо было «переступать»: на то есть суд, на то есть право на помилование через ВЦИК, есть председатель этого ВЦИКа – Михаил Иванович Калинин. И он может помиловать, согласно Конституции… Сталинской конституции… И помилования, конечно, не было.
Бухарчик же явно рассчитывал на помилование. В тюрьме он даже постригся «под Ильича» – сидел на скамье подсудимых, с бородкой и лысиной, – ни дать ни взять оживший Ленин. Не станут, мол, все-таки расстреливать «нео-Ильича». А расстреляли..
Сталин плюнул в корзину для бумаг, отошел от окна опустил штору. Может быть, эти расстрелянные в 38-м повлияли на судьбу Ежова? Нет. Пусть его… Пускай живет… И даже встретится со своей первой женой. Она такая – до дурости… Ежов был просто его ретивый исполнитель. Пьяница… Бабник… Палач., и ничего больше. А вот Ягоду, его предшественника, он, Сталин, не выпустил бы из когтей никогда. Слишком много знал этот «фармацевт», слишком далеко за рубежи тянулись его информативные паутины, и это закон: слишком много знающий – обречен.
Да вот они – по порядку: Урицкий, Свердлов, Дзержинский, Менжинский, Куйбышев, Фрунзе, Зиновьев, Рыков, Каменев, Бухарин, Якир, Реденс, Енукидзе, Орджоникидзе, Склянкий, Фриновский, Троцкий – и надо ли продолжать? Дальше пойдут тоже много знавшие, но знавшие все-таки поменьше, военные и из НКВД: Блюхеры, Егоровы, Берзины, Плинеры, Молчановы, Белобородовы, Дыбен-ки – Крыленки. Много… Очень много. Они тоже очень много знали и очень много сотворили в этой революции и гражданской. А в тридцатые годы война продолжалась, но уже как война за власть «ленин-ской гвардии» и армейской верхушки против утвердившейся «гвардии вождя». Сбросить и просто уничтожить его не удалось, а вот он сумел вовремя и без пощады истребить эту опасную силу, истребил ее всюду: в партии, армии, НКВД, нарко-минделе, в охране, даже в науке и культуре.
«Бог есть! – кричал в исступлении арестованный Ягода, бросаясь на стены камеры. – Бог есть! Е-е-сть!»
Окровавленного, с разбитым носом, Ягоду приводили в чувство, а он орал и вырывался, падал на колени. И может быть, вспомнил, как оседали в клубах пыли и дыма стены храма Христа Спасителя, взорванного под его руководством. БОГ ЕСТЬ. И Бог воздал не только Ягоде, но и самому нерукоположенному священнику… Сталину… Бог есть… И Бог даже не мстит. Сам творящий ЗЛО набирает месть. Ибо это Кара, Карма, что постигает всякого нарушившего ВЕЧНЫЕ ЗАПОВЕДИ.
«Помни Судь, чаи ответа и воздаяния поделом», – сказано в Великой книге.
И лучше не проверяйте это, господа.
* * *
Когда гнев охватывал Сталина, он становился таким же безумным, как Старик, и готов был крушить все на своем пути. Но так было лишь в периоды его начальной борьбы за власть – на пути арестов, допросов, ссылок, побегов, тюрем. С «блатными» он быстро сходился, хотя поначалу его и били и унижали: «грузишка», «нацо». Но тогдашний Джугашвили смело лез в драки, отмахивался, как мог, был отчаян, но ладил с вожаками, становился «своим». И по-степенно учился держать себя в руках, таить гнев, расплачиваться с обидчиками, когда те уже не ждали удара. «Обидевший – забывает, обиженный – помнит». Как трудно давалось это – гасить явный гнев («гнев – убыток»), загонять внутрь рвущуюся ярость, казаться добрым, спокойным, рассудительно-мягким и даже любезным. С врагом..
Может быть, выдавали только глаза. Тушить гнев в глазах – самое трудное. Это можно только улыбкой, пусть даже хищной, тигриной… Эту его ужасную улыбку помнили все приближенные, тряслись от нее, и Сталин старался ею уже не «пользоваться». В тетрадях, которые вел он в двадцатые годы, есть записи: «Гнев надает победы», «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав», «Гнев – это истерика слабого». «Или всего только торжество над слабым?» (Записано с вопросом.)
Победы достигает чаще всего тот, кто прячет свой гнев, кто может вовремя прикинуться простаком, временно уступить («Уступив – выиграешь») и кто может стерпеть унижение.
Как часто он был-бывал униженным? Не стоит вспоминать? В книге – стоит. Ибо здесь объяснение многим поступкам Сталина, в том числе и как будто необъяснимо жестоким. Унижали полицейские, следователи, жандармы, тюремщики, конвоиры, прокуроры, судьи, товарищи по ссылке и партии. Унижал Старик. «Варваром», «дьяволом», «мелким злобным человечишкой», «чингиз-ханом» – упомянутый выше Бухарин, «неотесанным кавказцем» – Зиновьев, «болваном-осегином» – Каменев, «горе-вождем» – Радек. «Сталин! Прекратите вы наконец нумеровать вашу глупость!» – это сказал он, Радек. И уж вовсе нет сил вспоминать все, что изволил пришить ему Троцкий: «Сталин – это гениальная посредственность».
Что же касается Тухачевского, высокомерного барина с холодным лицом диктатора, то он только-только не позволял себе демонстрировать откровенное презрение к этому «попу», как меж собой именовали Сталина высшие командиры Красной Армии – сплошь ставленники Льва Давыдовича Бронштейна-Троцкого. Этой подробности Сталин никогда не забывал. «Сталин же не знает, с какого конца заряжается пушка», «Сталин, смотри, – уши отсеку!» – это Шмидт. «Этот корявый воображает, что он спец в военном деле», – Якир. «И что мы его терпим?», «Давно пора его столкнуть», – такие слова доносила слушающая разведка.
В «Доме на набережной», как уже было сказано, прослушивалось все – до спален, кухонь и лестничных клеток. В «Доме на набережной» как раз и жили и Тухачевский, и Егоров, и разного рода наркомы, и высшие разведчики, и великие инквизиторы-«чекисты». Жили члены и первой, и второй семьи Сталина – Сванидзе и Аллилуевы. И болтали, болтали, болтали. А Сталин все знал. Слышал и до поры молчал.
«Смирно сиди на пороге своей сакли, и мимо пронесут труп твоего врага». Кавказская пословица, и ее он знал. «Смирно сиди… Но поглядывай, послушивай. До поры..»
«Дом на набережной» пережил множество сменявшихся владельцев. Его прекрасные квартиры, с высокими дверями, запасными входами и выходами на лестницы, его особые охраняемые подъезды для «самых высших», кинотеатр, универмаг – все и сейчас дышит историей. Страшной историей. И, проезжая мимо этого дома, глядя на его крестообразные рамы, видишь подчас гигантское кладбище, ряды и ряды крестов. И почти такая же судьба была у других подобных домов и городков, построенных в тридцатые годы, когда Сталин шел к власти. А его пытались не пустить. До обретения власти Сталин привык часто рисковать жизнью. Но, придя к ней, прочно став у руля, он и заботился о сохранении поста так, как не заботился до него никто и никогда. Втайне, оправдывая себя, он полагал, что его жизнь теперь принадлежала не только ему. Ибо, считал он, стала жизнью страны. Ее настоящего, а главное, БУДУЩЕГО. В отличие от Старика, хотевшего только править, но не знавшего, куда ехать и воротить, бросавшегося то вправо, то влево, вконец запутавшегося в своих и марксовых догмах и утопиях, Сталин полагал, что знает, куда вести страну и даже КАК ее вести…
* * *
Человек всегда бывает добычей исповедуемых им истин.
А. Камю
Страшное заблуждение думать, что люди, облеченные верховной властью, принимая новые добровольные услуги, в состоянии забыть старые счеты.
Никколо Макиавелли
Государю нужно только лишь казаться добродетельным. Осмеливаюсь утвердить, что он должен только стараться приобрести репутацию доброго, милосердного, набожного, постоянного и справедливого, но в случае необходимости поступить совершенно вопреки названному.
Никколо Макиавелли
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. КРЕМЛЕВСКИЙ ПЛЕННИК
Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все от себя зависящее, чтоб они стали патриотами.
Томас Маколей
Утро кра-сит… нежным све-том
Сте-ны древ-не-го Крем-ля.
Просы-па-ет-ся… с рас-све-том
Вся Со-вет. ска-я зем-ля..
Хо-ло-док бе-жит… за во-рот,
Шум на у-ли-цах… силь-ней.
С доб-рым ут-ром… ми-лый го-род,
Серд-це ро-дины… моей!
И припев:
Ки-пу-чая… мо-гу-чая,
Ни-кем не по-бе-димая,
Стра-на моя, Мос-ква моя!
Ты са-мая лю-би-мая!
В самом деле, это была замечательная песня-марш! С ней просыпалась страна. Ей с улыбкой вторили, слушая голос радио. С ней улыбчиво-радостно наряжались, натягивая лучшие чулки, подстегивали, оправляли подвязки, с наслаждением опускали новое шумящее шелковое платье, сияли счастливыми глазами. Что может быть лучше?! Москва… Утро… Май., тепло… Весна… Праздник… Молодость-Ощущение собственной красоты, прелести, жмущего томления в грудках и под животиком… О, моя Москва! Моя страна! Мое будущее, светлое счастье! Может быть, счастье и есть только БУДУЩЕЕ? Задумайтесь… Задумайтесь… Вообразите!
«Стра-на моя, Москва МОЯ… ТЫ са-мая лю-би-мая!»
Это был последний перед ВОЙНОЙ радостный и ласковый МАИ.
* * *
Сталин ночевал в кремлевской новой квартире, еще пахнущей краской после ремонта. Спал, как всегда здесь, плохо. Кремль – не место для житья. Весь он словно набит видениями, привидениями, былыми и тяжкими тенями, той, сказать современно, отрицательной аурой и кармой, что въелась, всосалась в тлеющие от времени кирпичи, коридоры, оконницы. Тяжкое место… И Сталин невзлюбил Кремль еще с тех уже удаленных пор, когда вместе с Лениным и его правительством переехали из Питера в полуразрушенный этот, отмеченный многостолетней кровью «город в городе», тогда еще с двуглавыми бронзовыми орлами на шпилях башен, искрошенными, щербатыми от орудийных залпов стенами, кореженой брусчаткой и напрочь расшибленными воротами Спасской и Боровицкой.
Кремль долго приводили в надлежащий вид, ремонтировали площади и стены. С этой целью часто устраивались «субботники» и даже тот, знаменитый, вошедший в историю и в холуйскую живопись, где жирненький, лысый Ленин держится за бревно, «помогает тащить».
Сталин помнил тот день – занимался уборкой своего кабинета, и вместе с ним работала Надя, в красном платке – пролетарка – мыла пол, носила воду, а он складывал в угол исписанные бумаги, ненужные папки – не любил всякий мешающий хлам. Надя работала тогда у Фотиевой помощницей, а Фотиева была доверенной канцеляристкой Старика и доносчицей Сталина, постоянно навещавшей его высокий, темный, с узкими окнами и печным отоплением, неказистый кабинет. Сталин не любил и этот кабинет, всегда казавшийся ему мрачным и холодным, кабинет, где был только рабочий стол, стол для заседаний, полумягкое кресло да портрет-литография кудлатого Маркса, более похожего на преуспевающего купца, чем пролетарского вождя.
Куда было первому сталинскому кабинету до приемной и кабинета Ленина, напоминавших квартиру богатого юриста, а тем более до роскошных апартаментов Зиновьева, Каменева, не говоря уж о кабинетах Троцкого или Рыкова и, пожалуй, даже Бухарина, склонного играть в простоту Зиновьев тогда вагонами пер из Германии, Франции, Италии роскошное барахло. Спецнарочные его поставляли изысканные яства, вина, шелка и белье для любовниц и просто для своих, кому этот разжиревший барин дарил свою высокую милость.
Все-все это знал Сталин, ведь был он не только генеральным секретарем, но по совместительству и руководителем РКИ – рабоче-крестьянской инспекции, его первой личной «полуразведки», что доносила, какие деньги текут из России в золотых рублях и брильянтах, на чьи счета и с какой целью. Сталин наперечет знал всех «поставщиков двора» Троцкого и Зиновьева, всех этих Красиных, Слив-киных, Гуковских, Иоффе. Знал… И до поры ничем не выдавал своего знания. «Умный ястреб прячет свои когти».
Сталин всегда прятал когти., и тем разительно отличался от крикунов, болтунов, фанфаронов из прямого окружения Старика, – чего стоил один только Троцкий! Стоил… Был… Все они теперь уже только был и…
Сталин проснулся с больной головой. Льдисто ломило где-то в макушке. Было дурно. И, одеваясь, он клял себя за то, что не уехал ночевать в Кунцево, где не было этих тревожащих его всю ночь башенных часов. Их кашляющего, словно стенания, и этого довременного будто: бо-ом, бо-ом, бо-ом!.. Часов с боем Сталин не терпел, как не терпел вообще тикающих и стучащих будильников, но зато никогда не расставался со своими наручными часами фирмы «Мозер», которые снимал лишь на ночь, и то когда спал с Валечкой… Так не хватало ее..
С тяжелой головой, с ощущением сухости в глазах, как всегда после дурно проведенной ночи, Сталин отмахнулся от завтрака и чая и, надев плащ, вышел из квартиры в коридор, а коридором прошел к выходу в спецподьезд. Каменной, обновленной лестницей он спустился к выходу на кремлевский двор. Двор, политый, вымытый ночным дождем, дохнул на него майской свежестью и несколько успокоил этим запахом. Хмурое, желтое лицо Сталина побелело, морщины у глаз разгладились. Двор был пуст, если не считать каменно застывших постовых, лишь голуби бегали, кивая головками, кучковались и крутились, озабоченные весной, да из кремлевского парка из-под холма слышалось воронье.
Вороны, как прочая нечисть, любили Кремль и жили тут, видно, сотнями поколений. Одно время он приказал их стрелять, но потом отмахнулся: не перебьешь. А выстрелы нервировали его… Напоминали о постоянной опасности. Почему-то вспомнилось лысое и лоснящееся лицо Бухарина, как-то встретившегося ему рано утром. Бухарин тогда, получив от Сталина его квартиру (брошенную после гибели Надежды – вот уж был, как сказали бы ныне, «без комплексов»), буквально резвился в парке, ловил птиц, – бабочек, держал лис, ходил вечером с ружьем смотреть уток на перелете с Москвы-реки на пруды, хотел было даже охотиться, но Сталин запретил стрельбу, и Бухарин был вынужден подчиниться.
Именно эта отягощенность Кремлем заставила приказать строить дачу в Кунцево, и архитектор, старик Мержанов, возвел это, сперва одноэтажное, длинное, не слишком красивое, строение в самый короткий срок. Кунцево стало своего рода отдушиной – Кремль был особенно тяжек по ночам, когда словно оживали все его тайны и умертвия и вся Красная площадь, с ее глазчатой брусчаткой, кладбищенскими как бы стенами, башнями с отверстыми проходами и окнами-бойницами, соборами с умолкшими колоколами, которые словно навеки покинула святая сила и в которых воцарилась дьявольщина, дышала той же ужасной силой.
Сталин почти никогда не посещал, даже днем, древний «старый» кремлевский дворец, с его узенькими ходами-переходами, низкими сводчатыми палатами, где продолжали будто жить привидения московских царей и убиенных бояр. Не любил он и новый, нижний, с анфиладами царских покоев, более поздней поры. Немыслимая показная роскошь паркетных полов, потолков, штучных ковров, расписных стен, мраморных каминов, спален, кабинетов нагоняла на него чувство, сходное с тоской незаконного владельца краденой роскоши. Все эти залы и вещи в них несли на себе печать убийства, сотворенного, однако, не им, а самим Антихристом, и Антихрист как раз довольно часто появлялся в царских покоях, гулял здесь, щупал вещи, и его картавое карканье слышалось тут, пока его не увезли в эти похоронные Горки.
Сталин совершенно потерял интерес к дворцам и только позднее в перестроенных залах, определенных под съезды, да в немыслимой роскоши Георгиевского, где проходили праздничные приемы, чувствовал себя более-менее сносно. Парка под холмом он избегал совсем. Вместо вырубленных в октябрьские дни лип и дубов там насадили новые, и парк постепенно оживал, приобретал характер ухоженного сквера, где летом гуляли кремлевские жены и резвились, играя в индейцев, элитарные дети, все под надзором строгих часовых во всех углах и молодых парней в штатском, расставленных в одном лишь коменданту Кремля ведомом порядке.
Кстати… Охрана, стоявшая теперь у всех подъездов, коридоров и вышедшая вслед за Сталиным, каменеющая при его приближении, была новая. Сталин, идя к выходу на Спасскую башню и не вглядываясь в лица красноармейцев, знал: все новые.
После раскрытия заговора Ягоды – Агранова – Ткалу-на, хотевших еще в мае тридцать шестого произвести переворот, «устранить» Сталина и вернуть к власти «ленинскую гвардию», Сталин сделался сверхосторожным. В охране были арестованы: Панов, Паукер, Гицель, Волович, Даген, Курский, Тихонов, Козлов, Голубев. Последние из перечисленных и должны были ликвидировать Сталина. Арестовать, лишить власти или попросту, как тогда говорили, шлепнуть. Но… Слушающая сталинская разведка, под колпаком которой были и Ягода, и Агранов, и еще многие, опередила заговорщиков и отвела их уже занесенную руку. Сталин уцелел. Троцкий в Мексике бился в истерике. Мечта-надежда вернуться в Россию и захватить власть рухнула. А вся кремлевская охрана-обслуга уже в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом и даже тридцать девятом годах перетрясалась, вплоть до техничек, дворников, библиотекарш, была разогнана, посажена, сменился и комендант – им стал комбриг, а позднее генерал-майор Спиридонов. Иные при разгоне пострадали невинно. «Лес рубят – щепки летят». И здесь хотелось бы заметить сразу тем, кто видел в Сталине только палача и душегуба. Как поступили бы они сами, находясь на посту и зная, что не сегодня-завтра им могут влепить пулю в затылок, а не просто снять с должности, тем более столь высокой? Как бы поступили господа, обвиняющие Сталина в репрессиях?
Но тогда никто даже в народе не сомневался в необходимости быть жестоким. Дьявольская революция родила и дьявольские методы, а расстрел, арест и ссылка без суда и следствия, без доказательств вины и невиновности были «узаконены» самим Антихристом, исполнялись его «большевистской» гвардией, ВЧК и ОГПУ были не сталинским изобретением. Он лишь развил здесь «идеи великого Ленина». Так говорит ИСТИНА.
Может быть, все это мелькало в сознании невысокого хмуроватого человека с подкрашенными усами, неторопливо шагавшего по брусчатке к месту, где был подъем на кремлевскую стену. Позади Сталина, отставая на пять семь шагов, шла его личная охрана. Охрана над охраной. И часто Сталин, слушая шаги идущих за ним, думал, что, в сущности, его жизнь все время висит на волоске. Что стоило какому-нибудь мордастому парню застрелить его из револьвера, из винтовки? Сказать, что он боялся охраны, дрожал перед ней, – ничего не сказать: он не доверял ей, как не доверял уже никому, и это гнетущее, перешедшее в стойкий невроз недоверие постепенно овладевало всей его душой, поступками, телом, взглядом, становилось самой его сущностью. И здесь корень всех истинно черных и страшных поступков, какие пришлось ему совершить.
Кремль тяготил Сталина и другой памятью – видением торопливо передвигавшегося здесь Старика, он постоянно видел то его дергающуюся походку, беспрерывную жестикуляцию, без которой Ленин вообще будто слова молвить не мог, его то ли смеющиеся, то ли полыхающие фантастическим огоньком глаза, имевшие свойство внезапно каменеть и как бы втыкаться в кого угодно. Из памяти не уходили сходные во многом фанатичные лица Троцкого, Дзержинского, Свердлова, их обслуги и охраны. Все это были уже как бы тени и призраки, но тени и призраки, постоянно мешавшие, грозившиеся и словно вот так бы шагающие за ним по пятам.
Часы на Спасской заставили Сталина очнуться от размышлений на ходу. Эти спасские, башенные, переделанные по приказу Старика и будто бы играющие начало «Интернационала», а наделе просто жутко стенавшие и бухающие, особенно в ночной бесовский час… Сталин, живя здесь, никак не мог привыкнуть к их кашельному бою, просыпался, матерился. Одно время приказал остановить их. Но потом плюнул, ибо стал уезжать ночью на дачи, а днем было как-то не до часов. Днем они даже словно помогали работать, отмеривать строго-настрого учтенное время.
Не любя Кремль, Сталин, однако, был вынужден словно бы подчиниться этому месту. Оно уже слилось с его именем. Стало нарицательным для страны и мира. СТАЛИН и КРЕМЛЬ. КРЕМЛЬ и СТАЛИН. Воля КРЕМЛЯ. Кремлевский властитель. Кремль, размиллионенный в открытках, газетах, сросшийся с Мавзолеем, с площадью, овеществлял его, СТАЛИНА, СИЛУ, ВОЛЮ и ВЛАСТЬ. Тут уж ничего не поделаешь. Без Кремля не обойдешься, Кремль не бросишь. В нем приходится коль не жить, то работать, работать, работать. В этом Кремль помогал Сталину. Был как трон, как мономахова шапка, как скипетр и держава.
Другие же кремлевские вожди чувствовали себя здесь отлично: Бухарин, Орджоникидзе, Молотов, Ворошилов, Калинин..
В 1934 году, когда уже вовсю шло строительство метро, Сталин дал приказ подвести одну из его строящихся веток под Кремль (много лет спустя, уже после войны, была построена и ветка в направлении кунцевской дачи). И под Кремлем началось созидание подземного тайного города-бомбоубежища на случай войны и мало ли еще какой экстренной надобности. Сталин, отдавая приказ строить подземный Кремль, был вовсе не провидцем. Такую мысль высказал еще Ленин, но цель его была другая: подземное убежище должно было помочь скрыться ему и его приспешникам от народного гнева и народной мести. Большевики-ленинцы, ближняя к Старику челядь, не раз и не два сидели на чемоданах, примеривали парики и грим, разглядывали фальшивые паспорта – на случай бегства им было не занимать опыта нырять в европейские кущи, в Швейцарию, Францию, Еерманию, Бельгию… Когда вскрыли долгое время опечатанный сейф Свердлова, таинственно погибшего «от воспаления легких», чего только не было там – от десятка паспортов до золота, долларов и брильянтов. Обо всем этом Сталин знал, когда вытрясал из «правых» и «левых», «троцкистов» и «зиновьевцев» денежки, переведенные за рубеж. Вытряс их даже из Агафьи Атамановой. Не знаете такую? Так это же Надежда Константиновна Крупская. Агафьей она назвалась бы на случай бегства…