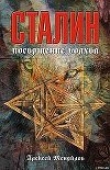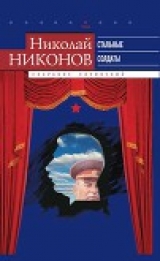
Текст книги "Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. Стальные солдаты. Страницы из жизни Сталина"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Политбюро, когда легко поддающийся слухам и панике черный люд уже начал растаскивать магазины и склады, а ворье, пользуясь случаем, принялось грабить богатые квартиры, Сталин понял: повторять странную доблесть Кутузова он не может! Ибо с падением Москвы неминуемо и мгновенно пал бы Ленинград, и тогда очередь дошла бы до третьего «кита», на котором стояла его, сталинская, а может, сталинградская держава. С падением Москвы и Ленинграда Сталинград тоже был бы обречен. И тогда добивать Россию бросились бы, вероятно, и Турция, и Япония, и мало ли кто еще… «Ослабевшего льва лягают и ослы».
Выход был только ОДИН: держать Москву! Не сдавать Москву! Оборонять Москву. Под Москвой нанести наступающим немцам сокрушающий удар. Победой этой спасти город, Россию, Союз, Ленинград, Сталинград – и СЕБЯ!
Сталин знал три-четыре главных условия победы: страх, кара, оружие. И – внезапность появления резервов, которых не мог ждать противник. Так было уже на Куликовом поле! Вот почему, когда понадобилось заседание уже почти разбежавшегося Политбюро, Сталин приказал Поскребышеву пригласить всех вечером в Кунцево, на ближнюю дачу, а сам отправился туда внезапно, накануне, и нашел дачу заминированной, приготовленной к взрыву, хотя вся обслуга-охрана была на месте, а комендант дачи Орлов перепуганно просил Сталина уехать.
– Товарищ Сталин… Все заминировано… Не топлено… Вода., отключена..
– Кто это всо прыказал? Я?
– Товарищ Власик.
– Я эво… к этому., нэ уполномочивал! Слушяйтэ мой приказ… Дачу размынироват… Воду включить… Отопление тоже… Ищь… паныкеры… Всо!
Хлопнув дверкой машины, он пошел во двор.
Пока саперы-минеры снимали мины, отключали взрывное устройство, был натоплен маленький отдельный дом. И даже баня. Но мыться Сталин не стал. Сюда уже вполне явственно доносился гул самолетов – шел налет, слышалось дальнее буханье зениток, смягченное расстоянием. Первый пояс воздушной обороны Москвы был далеко за окраинами Москвы. Второй пояс – по ободу дорог, третий – в самой Москве, по Садовому, и четвертый – на бульварах и вокруг Кремля, где висели еще мало нужные и скорее пугающие то ли рыбины, то ли дирижабли – аэростаты воздушного заграждения. Ни от чего они не спасали, так же, как и скорее отпугивающий, чем прицельный огонь зениток и пулеметов с высоких крыш. Самолеты немцев героически встречали истребительные полки, укомплектованные лучшими летчиками и лучшими самолетами. А истребителей, бывало, сбивала и собственная артиллерия.
Ужин подавала Валечка. Растроганная его внезапным приездом. Напуганная. И, возможно, счастливая, как бывают счастливы женщины, вдруг почувствовавшие столь нужную им опору и мужскую защиту. Принесла котлеты, чай, легкое вино «Хванчкара», хлеб, сыр сулугуни. Хотела идти. Смотрела вопрошающе..
Сталин не отпустил ее. Медленно и даже закрыв глаза, он выпил стакан вина. Подумав, налил еще, но пить не стал. Обычно никогда он не пил вино стаканами, а всегда понемногу и не до дна. Но, глядя теперь на стакан, прислушиваясь к потеплению в желудке, перевел взгляд на Валечку, теребившую оборку передничка..
– Ну-у… Щьто… Ти уже собрала., чэмоданы, – спросил он, вытирая усы салфеткой и вздымая обе брови.
– Нет., нет… – потупясь, ответила она, продолжая теребить оборку передника.
– Почэму?
– Иосиф Виссарионович..
– Щьто ти… заладыла?
И вдруг эта самая Валечка, такая всегда спокойная, улыбчивая, разрыдалась, упала перед ним на колени и, целуя руки, которые он не успел убрать, обливая их слезами, запричитала:
– Не гоните меня! Родной! Иосиф… Виссарионович… Дайте умереть вместе с вами! Ну, приготовьте две пули… Застрелите меня… Не хочу я., никуда., оставьте меня при себе. А? Оставьте… Прошу… Вас… Оставьте..
И, потрясенный этим, может быть, впервые потрясенный таким взрывом чувств, отчаянного неподдельного откровения, он прижал к себе ее голову здоровой рукой и, роняя сам нечаянные уж вовсе слезы, наслаждаясь этой минутой, сказал прерывисто:
– Ти… глупая… Щьто выдумала? Отправляю., тэбя? Раз хочэшь бить., со мной… Останэшься. Нэ целуй руки… Чьто ты? Я же, – он хотел сказать, что любит ее, но остановился, замолчал, сжевал слезу с усов. Неловко вытерся левой рукой. А потом усмехнулся… – Встан!
И она встала, отирая слезы тыльной стороной красивых рук, шмыгая и уже улыбаясь. Закусывая яркие губы, убирая волосы под косынку, облегченно-прерывисто вздохнула.
– Прынэси еще чай и котлэты… сэбэ… Стакан… Поэщь со мной и., випэй… вина..
И тогда, совсем по-девчоночьи шмыгнув-вздохнув, глянув на него, как могут смотреть только глубоко осчастливленные женщины да еще счастливые родительским прощением дети и хозяйской лаской собаки, – она, быстро двигая бедрами, вышла из столовой.
Повторюсь, возможно… Эта женщина-девушка осталась с вождем до конца его дней. Не жена… И пожалуй, даже не любовница, в том смысле, в каком это обычно понимается. Любовницы были-бывали у Сталина: актрисы, балерины, певички, но ни одна из них не была с ним долго, не завладела и, пожалуй, не могла бы завладеть его душой, слишком уж очерствленной и долгой жизнью, и борьбой с людьми, и презрением к ним, в том числе и к актрисам, душой, где годами копилась горькая копоть недоверия и всезнания, отягченного его властью и подозрительностью. Такие женщины бывают (редко-редко!) у очень могущественных или гениальных людей. Не жена. Не любовница. Не прислуга. И – не рабыня. А из тех, тоже очень редких женщин, синоним которым только слова «живое счастье» или «чудо». А чудо и счастье, совмещаясь в одно, и могут быть только беззаветно преданной красавицей… Преданной красавицей?..
Ночью, гладя ее волосы, ее пышно-нежное молочное тело, уходя в его запах – смесь вербы, черемухи, полевых трав и, быть может, самой русской земли, он думал, что вот почти ясна его обязательная победа. ПОБЕДА ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ! Будет! И он никуда не уедет из Москвы и с этой дачи! Жесткая рука гладила округлую, припухлую как бы талию, нашла резинку рейтуз, но не двинулась дальше. Он почувствовал горячие мягкие губы на своем лице и, совсем как мальчик к матери, приткнулся к ней и тотчас же каменно заснул, успокоенный, уставший и не ждавший даже ни ее дальнейших ласк, ни ее поцелуев. Странно, и она тотчас же уснула, измаянная тревогой этих дней и ожидания его близости, благодарная ему. Валечка… Медсестра..
«Подавальщица».. Они спали, и оба согласно храпели. Он сильно и страшно, она тихо, по-женски и удовлетворенно. Спали, не слыша, как вдалеке опять стукали зенитки, взвывали сирены и самолетный гул то накатывал ближе, то отходил, оттягивался и вроде бы замолкал. Спали.
И не забудем, что, если посмотреть на них без обозначения власти, возрастов, положения, это были прос – то обыкновенные уставшие, измаявшиеся люди.
На другой день в Кунцево приехали собранные Поскребышевым члены Политбюро, все, кроме Молотова, который со своей «жемчужиной» убрался из Москвы далеко, дальше всех. Вечерело. Шел снег с дождем. И потому молчала зенитная артиллерия. Была нелетная погода. Но гул фронта с порывами ветра доносило и сюда. Все собравшиеся были растеряны, подавлены. Особенно волновался маленький белобрысый Хрущев, похожий на сельского пар-нишку-колхозника. Самый молодой и самый невзрачный из членов Политбюро. «Никита-плясун» – так звал его в веселую минуту вождь. И еще Хрущев отличался от всех странной прожорливостью. На обедах и ужинах ему ставили едва не по две порции! И это знала радушная Валечка, всегда кормившая членов Политбюро.
В большой столовой Сталин ходил по ковровой дорожке, курил и молчал, как бы выжидал, кто начнет высказываться. Но не было Молотова, обычно открывавшего такие совещания. Молчали. Кто-то пил водку. Кто-то хмурился. Кто-то делал вид: вроде ничего не случилось, все в порядке.
– Ну, чьто же… – сказал Сталин. – Никто нэ собыраэтся говорыт… Тогда., скажю я… Нужьно… и нэмэдлэнно! – восстановил порадок в столица и… на дорогах! Нужьно… и – нэмэдлэнно… взят под охарану мылиции… НКВД., всэ магазыны… Всэ пункты питаныя… Всэ вокзалы., срэдства свази… Всэ выды транспорта… Нужьно… объявит Москву на осадном положеныи… А это значыт… самий жесткий порадок… Расстрэл на мэсте прэступлэныя… Воров., грабытэлей… Арэст паныкэров и всакой подобной сволачы. Нужьно… органызованно отправыт в тыл, на Урал, дэтэй тэх родытэлей, кто этого пожелает. Ми уже отправыли саркофаг с тэлом Лэнина в Тумэнь. Но об этом нэ знаэт ныкто. Караул у мавзолэя остается, как всэгда… Москва с завтращнего дня оснащаэтся дополнытельной истрэбитэлной авыацией… Зэнитная артыллэрия будэт довэдэна до тисачи.. орудый. Прычем на внэщьнэм обводэ Москвы зэнитчикам будут даны снаряди для стрэльбы… по танкам. Аэростаты в цэнтрэ эще дополним пущкамы. Всуду должен быт лозунг: «Москва – крэпост! Ни шагу назад!» Ми рассмотрэли всэ возможьные варыанти народного ополчэния… Москву ми нэ собыраэмся сдават… И – нэ сдадым! А сэйчас ви услыщитэ слово самых простых москвичей.
Сталин приказал дежурному вызвать Валентину Истрину и, когда она появилась в столовой, спросил ее в упор:
– Валэнтина Васыльевна… Ви… сабыраэтэс эвакуироваться… из Москвы?
Сталин смотрел с тем прищуром, какой не предвещал ничего доброго, но и как бы не ограничивал Истрину в ответе.
– Товарищ Сталин… Москва – это наш родной дом… А дом надо защищать! – пунцово вспыхнув, неожиданно бойко ответила она.
– Спасыбо… Идытэ, Валэчка, пуст подают ужин… А ми эще побэсэдуем… – И когда она вышла, добавил: – Ну вот. Ви слыщяли голос простых москвычей? МОСКВУ НАДО ЗАЩИЩАТ! И этому должьна быт посвящена вса наща жизн! Всо! Я остаюсь здэс. И это я., торжественно., заявляю. Я буду здэс… до побэды… Но я нэ дэржю… ныкого… кто хочэт спасат сваю жизн..
– Но немцы могут ворваться в Москву… Окружить… – скороговоркой пробормотал Хрущев.
Сталин внимательно посмотрел на него, приостановился, а потом, не теряя размеренного шага, подошел к нему, подхватил под руку и молча повел к двери. Выставив его за дверь, Сталин вернулся к хождению по столовой…
На другой день, когда сотни тысяч москвичей (больше всего женщины, старики и подростки) копали под летящим снегом противотанковые рвы, когда на веревках втягивали на крыши зенитки и бесполезные, в общем, пулеметы, когда вооруженные даже охотничьими ружьями и мелкокалиберками, еще никак не обмундированные отряды ополченцев шли к сборным пунктам у военкоматов и застав, патрули НКВД уже заняли все мосты, тоннели, переезды и перекрестки больших улиц, а совсем устарелые, словно вытащенные из музеев, двухбашенные танки встали на обводах Можайского шоссе.
В небе не стихал гул то ли наших, то ли фашистских самолетов. Но бомбежек не было: бомбить не давала погода с усиливающимся снегом. Сталин с Берия, Щербаковым, Маленковым и генералом Артемьевым то и дело появлялся на улицах, входил в магазины, останавливался на площадях, окруженный охраной и радостно глазевшими, перепуганно-озадаченными москвичами и москвичками. Приветствовал их. И приветствовали его. Почти постоянно слышались крики: «Товарищ Сталин! Когда же будет победа? Когда погоним немцев? Когда наступление?»
– Всо, всо будэт! И наступлэные… и побэда… Это я., обэщаю. Будэт! А пока – сражяэмса… И – помнытэ… Я – здэс. Я с вамы… И ныкуда нэ уеду., из Москвы!
Кто-то кричал «Ура!» Кидали шапки. Восторженно глазели, шел снег… А Сталин, в фуражке, в шинели, садился в машину и ехал дальше. В эти дни (и ночами!) его видели всюду… Среди москвичей и москвичек. У ополченцев. На двух оборонных заводах. По шоссе на Владимир, на Можайск и Рязань.
СТАЛИН БЫЛ ЗДЕСЬ. Сталина видела Москва. Слова Сталина передавались из уст в уста. И оборона быстро крепла. В Москве полностью прекратилась паника.
Политбюро заседало ежедневно, а иногда собирались по нескольку раз. Полным ходом шло строительство подземного города под Кремлем. Метро превращалось в гигантское бомбоубежище. На станции «Кировская», самой глубокой и надежной, разместился оперативный отдел Генштаба, временно эвакуированного в Арзамас, но вскоре возвратившегося в Москву. На станции «Маяковская» что-то строили, и поезда, не останавливаясь, шли дальше.
Октябрьскими черными ночами затемненная Москва лежала во мгле, освещаемая лишь краткими вспышками зениток. Да нездешние словно лучи прожекторов щупали снеговые тучи и звезды в их разрывах. Иногда прожекторы сходились в пучок, и тогда в их лучах вспыхивал серебряный самолетик. Взвывали тотчас сирены воздушной тревоги, и тотчас возникал как бы странный собачий лай: гав-гав-гав… гав-гав-гав… Били зенитки среднего пояса обороны. Самолет скрывался, не то сбитый, не то потерянный лучами. И ни у кого не было уверенности: чей это самолет? Однако оборона с воздуха крепла. И фашисты все реже прорывались в центр. Люди – везде люди… Летчики сбрасывали бомбовый груз на окраины, уклонялись от целей. Только отчаянные асы Рихтгоффена прорывались сквозь зенитный заслон к Кремлю. В него попало несколько бомб. Одна пробила потолок Большого театра. Несколько упало на Манежной у гостиницы «Москва», где жили эвакуированные из своих квартир большие писатели и артисты! И где было самое лучшее бомбоубежище с выходом в метро.
Вся страна в те пасмурные осенние дни обсуждала подвиг летчика Виктора Талалихина, таранившего фашистский самолет и явившего за собой целую плеяду последователей. Герои войны! Чаще всего это были безвестные люди, погибавшие, не сдававшиеся в плен, бросавшиеся под танки. И – никто их не знал и не славил, но отдельные имена вдруг становились известны всем, как, например, имя капитана Гастелло, летчика, направившего свой подбитый самолет на колонну фашистских танков. Гастелло славили как ге-роя-одиночку, но мало кто знал (а точнее – почти никто), что самолетом Гастелло был бомбардировщик, а не истребитель и что вместе с Гастелло погиб весь экипаж. Славили повешенную немцами Зою Космодемьянскую, «партизанку»-факельщицу, поджигавшую «по приказу партии» избы крестьян, «чтобы не достались врагу».
Да, много было в те дни странных и «вечерних» жертв, следствий жестокой сталинской руки, а подчас и бессмысленных, но жестоких «приказов отчаяния». Армия только в боях училась сопротивляться, да еще учил ее сопротивляться страх. Куда побежишь, если сзади ждут свои пулеметы! Как сдашься в плен, если семью за это «на Соловки»? Вынужденная жестокость? Вынужденная… Вынужденная неспособностью армии воевать. Как там ни лги, как ни прикидывай, н е любили славяне воевать и вечно вынужденно лишь брались за мечи. Такая уж нация, видно. Но… Вынужденная воевать, прижатая врагом, пожалуй, самая страшная она бывает в гневе! И под Москвой орда захватчиков в конце концов вынудила славян показать это свое качество…
А вынужденные подчиняться воле Сталина члены Политбюро тем не менее были близки к панике. Каждый знал: в случае падения Москвы пощады не будет. А плен? Себя они давно обезопасили. Вывезли семьи, детей, родичей в Куйбышев (там же была, кстати, и дочь Сталина!). И вероятно, соратники бросили бы Москву, если бы ее покинул Сталин. Четыре спецпоезда по приказу Берии стояли в Рогожско-Симоновском тупике, замаскированные и охраняемые пограничниками тринадцатого спец-погранотряда. Это был резерв. И четыре двухмоторных «Дугласа», также замаскированные, прятались там, где сейчас находится здание Московского аэровокзала. (Тогда центральный аэродром имени Чкалова.) В одном «Дугласе» бессменно дежурил пилот Сталина, полковник Грачев. Замечу, кстати, некстати ли, что Сталин на самолете летал лишь два раза в жизни. На конференцию в Тегеран в 1943 году.
Спецпоезд же для Сталина был подготовлен отдельно и стоял среди путей и составов громадного лесодровяного склада за Крестьянской заставой, находился он не в ведении Берии, а под охраной личной сталинской «гвардии» генерала Власика. Поезд проходил по ведомству Кагановича.
Сталин же, по рассказам его личной охраны, даже не знал, где находится этот поезд, и озаботился об этом лишь тогда, когда хватился нужных ему личных вещей: теплых сапог, валенок и новой зимней шинели. Вещи эти заботливо вывезли из Семеновского и Кунцево, а Сталина не предупредили об этом. Я уже упоминал о том, что вождь, подобно многим истинным невропатам, не любил новых вещей, но был болезненно привязан к вещам старым, привычным, будь то хоть желтая зубная щетка, карандаш, коробка от папирос. Однажды он приказал Поскребышеву отобрать такую пустую коробку у взявшего ее на личном приеме «на память» какого-то знаменитого артиста. Хватившись в первую очередь сапог и валенок, Сталин спросил, где они. Комендант Семеновского Солодов ответил:
– Отправлены в спецпоезд для эвакуации.
– Я., давал вам такоэ указаные?
– Нет., товарищ Сталин. Но..
– А кто дал?
– От товарища Кагановича… Прислали..
Сталин, хмуро глядя на растерянного Солодова, сдержав гнев, сказал:
– Всэ вэщи… вэрнуть… А с Кагановыча спрощю сам. Идытэ!
В тот же день чересчур старательный сотрудник для поручений при Кагановиче Суслов (да, тот самый, будущий инквизитор культуры!), проверявший готовность спецпоезда к эвакуации, получил от Кагановича гневный, матерный нагоняй.
– Так., твою мать! Перестарался?! Мать в перемать! Хозяин приказал поезд убрать! Все вернуть! Еще раз, блядь, так постарайся!
Суслов тогда чуть не полетел с своего поста.
Сталин действительно решил остаться в Москве. И это обстоятельство, обычно никак не оцениваемое неправедными историками-«летописцами», сыграло едва ли не главнейшую роль в обороне полуосажденной столицы. Если покопаться еще глубже, уходя в подслой поступков с теорией полусумасшедшего гения Фрейда, станет понятно, что Сталин всерьез думал, наверное, и о той женщине, чьи губы и бедра были его собственностью, о женщине, которой он дал слово никогда не покидать Москву.
В декабре уже была готова первая очередь подземных помещений правительства под Кремлем, и туда с дачи Кунцево Сталин забрал часть охраны, обслуги и, конечно, Валечку Истрину. Пусть будет это еще одна догадка об упрямом вожде, не пожелавшем покидать Москву..
А пока был конец октября. Холодно. Шел ранний снег. Под Москвой кипела ожесточенная битва. Враг, гонимый первыми неожиданными морозами и приказами Гитлера взять Москву к началу ноября и обещанием вернуть в Германию добрую треть войск, лез вперед: парадные мундиры были наготове. И как знать, не готовился ли сам фюрер прилететь в поверженную столицу, чтобы 7 ноября принимать парад именно на Красной площади… Известно точно лишь одно обстоятельство: из-за морозов командующий войсками фон Бок разрешил надеть парадные мундиры поверх повседневных. Мороз, как и голод, не тетка, а продвижение к Москве замедлялось с каждым днем. Фронт русских гнулся, пятился, но нигде не получалось тех прорывов, в какие уже привыкли бешено устремляться ждущие этих прорывов войска.
Москва уже почти в полукольце фронтов, огненных и пороховых дымов, опоясанная окопами, рвами и траншеями, ощетинившаяся проволочными заграждениями, сварными противотанковыми «ежами», с заминированными мостами и обочинами шоссе, чтобы при прорыве немецких танков возникли бы взрывные завалы, не собиралась сдаваться..
Еще после совещания в Борисове, куда прилетал сам Гитлер, танковые генералы Гудериан и Геппнер выразили желание получить передышку «для ремонта и смены моторов» своих изрядно потрепанных танков. В успехе взятия Москвы был, очевидно, в полном сомнении и фон Бок. Но Гитлер не только не внял просьбам танковых генералов, но послал Гудериана на захват Киева, а наступление на Москву приказал вести силами одной пехоты. Результат же, несмотря на падение Киева и победы на Украине, еще больше отозвался на плане окружения Москвы: «непобедимый» Гудериан, вернувшийся со своими дивизиями на московское направление с приказом с налета взять Тулу и обойти Москву с юго-востока, наткнулся, как на скалу, на беспримерное сопротивление. Русские перестали отступать! А «непобедимые» Гудериан, Гот и Геппнер уже потеряли до шестидесяти процентов своих танков..
За несколько дней до 7 ноября Сталин вызвал командующего Московским военным округом генерала НКВД Артемьева в Кремль.
– Товарыщ… Артэмьев, – сказал Сталин, пристально вглядываясь в молодого, щеголевато одетого генерала. – Как ви думаэтэ… провэсти праздничный парад., на Красной площады?
Изумленный Артемьев растерялся так, что некоторое время озадаченно моргал.
– Товарищ Сталин… Парад… Я… Мы… Мы думали: парад не проводить… Осада… Войск нет… Опасность., большая..
– А если., войска., будут?
– Тогда… Тогда, наверное, можно, товарищ Сталин. Но..
– Чьто… «но»?
– Авиация немцев может бомбить парад.
– Оны… об этом., узнают?
Артемьев пожал плечами, не находя, что ответить.
– Так вот., товарищ Артэмьев… Вы нэ подумалы… какоэ огромное, международноэ даже значэные будэт имет… итот парад… Итот парад укрэпыт вэру нащего народа., в побэду… Итот парад войдот… в исторыю… Докажет всэму мыру… чьто ми нэ думаэм… сдаватся… что у нас эще эст порох., в пороховныцах..
И, уже жестко глядя на Артемьева, приказал:
– Парад будэт прынымат марщял Буденный. Для парада я выдэлю войска… Авыацию и артиллэрию – я имею в выду зэнитки и всо ПВО Москвы, привэсти в особую боэвую готовност… О подготовкэ парада доложитэ мнэ пэрэд торжествэнным засэданыем… 6 ноября… У мэня всо… Вопросы?
– Разрешите вопрос..
– Говорытэ..
– Если все-таки немецкие бомбардировщики прорвутся к площади?
– Этого нэ может быт по тром причинам… Первая: ны одын вражескый самолэт нэ должэн прорватся в цэнтр… Вторая: скорээ всэго… будэт нэлетная погода… А третью прычину я вам сэйчас… нэ открою. Ви узнаэтэ эе рано утром 7 ноября. Эсли же., все-таки., немцы сбросят бомбы, убэром ранэных – и продолжим парад.
И сообщил Артемьеву, что под Москвой есть резерв войск в двести пятьдесят тысяч солдат.
– Это самый болшой сэкрэт… Нэ подлэжящий разглащению. Иначэ… у мэня их живо растащят!
А теперь можно сказать и читателям, что войск в резерве Ставки Верховного было не более двести пятидесяти тысяч, а почти вдвое больше (считая и войска НКВД). На флангах отчаянно сопротивлявшейся Москвы готовились к наступлению свежие, новые, прибывшие с Дальнего Востока и из других внутренних округов войска. Дивизии полного состава, одетые в полушубки и зимние шапки, снабженные новым автоматическим оружием, новыми дизельными танками Т-34 и КВ. Их поддерживала новая пушечно-гаубичная артиллерия и четыреста двадцать три реактивные установки «Катюши». Такая сила, скрытая даже от командующих фронтами (кроме Жукова), позволяла Сталину уже совсем уверенно попыхивать трубкой и иронически посматривать на озадаченного Артемьева.
Выдадим теперь и секрет (тогда не известный Артемьеву): парад должен быть-начаться не в десять часов утра, как начинался обычно, а н а два часа раньше.
Замечу, что есть множество толкований, почему в кинохронике Сталин был снят в фуражке, а на самом деле был в зимней шапке и даже с опущенными ушами. Пересъемку действительно сделали, и просто потому, что в условиях раннего утра в ноябре было плохое освещение. К тому же было пасмурно, шел снег (предположение Сталина о нелетной погоде оправдалось). Немцы получили сообщение о параде, когда он уже закончился, и негодовали.
А накануне парада в помещении станции метро «Маяковская», кое-как задрапированного под зал Большого театра, – там обычно проводили праздники, посвященные годовщинам Октября, – доклад делал Сталин, но слушали его, конечно, переодетые в гражданское чекисты да еще немногие, тщательно обысканные перед спуском в метро «представители трудящихся».
Я слышал оба доклада Сталина, но особенно запомнил концовку одного. Сталин говорил медленно, с очень сильным грузинским акцентом, и речь его свелась, пожалуй, к трем заключительным фразам, которые я передам достаточно точно:
– Эще… нэсколко мэсяцев… Эще полгодыка… Может быт., годык… И фащистская Гэрманыя… должьна лопнут., под тажестью своых… пэрэступлэный..
Я слышал эти слова. Это пророчество великого вождя. «Еще полгодика., может быть, годик..» Каково же было мое изумление, когда в сборнике речей и выступлений Сталина позднее я не нашел этих фраз. Они благоразумно и бесследно исчезли. Ведь война затянулась на четыре года. И даже вождям следует избегать пророчеств..
Уйду от журналистки в роман, в тот ледяной и снежный ноябрь, с якобы тридцатиградусными морозами под Москвой. Из-за них, писалось где-то и часто, потерпела-де крах орда, рвавшаяся к Москве.
А было все по-иному. Мороз в Подмосковье стоял не так уж велик… Редко за двадцать… Но армия, привыкшая легко побеждать и грабить, наконец столкнулась с силой, оказывающей такое стойкое, отчаянное сопротивление, что все четыре фельдмаршала, возглавлявшие войска на Московском направлении (Кессельринг, Клюге, Вейхс и фон Бок), были уже близки к панике. Теперь русские не отступали. Весь ноябрь кипела жестокая битва. И хотя 27 ноября части полковника (тогда еще не генерала!) Хассо фон Мантейфеля уже достигли самого восточного пункта у деревни Перемилово, хотя пропаганда вопила, что до Кремля тридцать километров, хотя уже начали по железной дороге подвозить сверхдальнобойные орудия – громить центр Москвы, фашистские армии таяли, как вешний снег под солнцем. Танки гибли от яростных выстрелов бронебойщиков. Во многих дивизиях не осталось и полка. Снайперы четко выбивали офицеров, и теперь часто бывшими полками-дивизиями командовали майоры и лейтенанты (например, седьмой пехотной дивизией командовал оставшийся в живых обер-лейтенант!).
А сталинская разведка уверенно сообщала: у немцев нет резервов. Армия не в состоянии наступать. У танков замерзает смазка, нет бензина. И уже никакого превосходства ни в живой силе, ни в технике у захватчиков нет.
Этих сообщений и ждал Сталин, ждал Жуков, ждал Генеральный штаб, ждали, когда лежащая в снегу армия захватчиков будет деморализована. Именно потому Сталин оттягивал начало контрнаступления и дождался, когда 3–4 декабря фельдмаршал Бок (на свой страх и риск! За это Бок поплатился и отставкой!) дал приказ прекратить наступление, перейти к обороне и даже отступлению на более подготовленные к зиме рубежи. Об этом приказе фон Бока стараются не упоминать «объективные» историки минувшей войны.
Вот теперь пришло время ударить по изнуренному, потерявшему веру и силы противнику. И по приказу Сталина к 5 и 6 декабря армии резерва на флангах вместе с озверелыми от борьбы дивизиями фронтового края ринулись в наступление.
Это был, наверное, самый впечатляющий момент войны сорок первого года.
Затемно, не дожидаясь рассвета, по немцам, уж никак не ждавшим ничего подобного, вдруг замолотила с неслыханной силой тяжелая артиллерия резерва Главного командования. Заговорили тысячи новых пушек и минометов. А небо осветилось вдруг адским, полощущим белым огнем, наполнилось не здешним шорохом реактивных снарядов. Высоко вверх летели бревна и камни укреплений, опрокидывались машины и танки. Гудела земля, и казалось, разверзлось небо. А на позиции ошалелых, промерзших солдат двинулись бойкие и будто неуязвимые танки с маленькими башенками, за которыми пугающими громадами возникали тяжелые слоны КВ, от брони которых любые снаряды отскакивали и давали «свечки». Войска фон Бока отступали в панике, бежали, бросали технику, настегивали лошадей, облепляли любые двигающиеся машины. Это было первое большое непредсказанное и неслыханное поражение армии, считавшейся абсолютно победоносной и неукротимой.
Автор не может утомлять читателя перечислением фронтов, армий, корпусов и тем более дивизий. Ктому есть многочисленная подробная и, к сожалению, не слишком объективная, занудно изложенная история войны. Мемуары генералов, маршалов и фельдмаршалов. В задачу романа не входит документальная расшифровка частей и даже перечисление героев этой войны.
Самый большой или самый малый ее герой в Александровском парке у краснокровавой стены Кремля, под Вечным огнем, в могиле Неизвестного солдата. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Запоздалая дань вечной памяти. Кто теперь уж приходит сюда… Кипит вавилонскою жизнью нескончаемая столица. Хоронят время башенные часы, и по-прежнему еще нелепо, только теперь безжизненнее, торчит пирамида на этой площади, из которой и мертвый Антихрист убегал из Москвы. А второй (или первый?) герой битвы под Москвой не взял себе, кажется, за эту победу ничего. Это был Сталин. Историки же, кстати, приписывают победу под Москвой только Жукову. Жуков. Жуков. Жуков… Жуков… А не тот солдат у стены… И не тот, кто отвечал за все… И не считается как бы, что Москву отстояли сотни тысяч павших здесь и уже безвестных героев, положивших к изножию Победы самое дорогое, что было у них, – свою жизнь… Никто уже теперь не знает, что здесь родились первые и безвестные тогда Матросовы… Здесь родилась наконец умеющая побеждать Новая армия. Здесь родилась Гвардия. Здесь родились новые отчаянные и умелые полководцы.
А Жуков… Он был награжден, как и Сталин, только медалью «За оборону Москвы». Медаль эта давала позже право на квартиру и московскую прописку. Право это получил и Жуков, награжденный к тому же Сталиным большой двухэтажной дачей в Подмосковье.
* * *
Никогда еще миллионы не были обязаны единицам столь многим.
Уинстон Черчилль
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. СТАЛИНГРАД
Начинай на чужой лад, чтобы закончить на свой.
Чья-то мудрость
Как бы там ни было, оборона под Москвой, оборона отчаявшихся и знавших, что отступать некуда, войдет в века. Была ли то победа измученных, озадаченных поражениями, победа превосходившей противника армии, победа москвичей и москвичек, кому досталась первая массовая бронзовая медаль, победа прославленных генералов, ставших вскоре один за другим маршалами Советского Союза, или победа «гениального полководца всех времен народов», как именовался тогда невзрачный, спокойно-властный человек с загадочными, хищно желтеющими глазами? Или, а почему бы и нет, победа и тех, кто с пулеметами на изготовку стоял позади сражающихся на передовой, чтобы отнять и саму мысль об отступлении и сдаче Москвы?
Революция в России, вся свершенная страшнейшим насилием, во многом напоминала эту оборону..
Незадолго до дней, когда первого ли, второго ли антиапостола Антихриста стащат с постамента на одноименной площади и не то бронзовую, не то чугунную отливку этого дьявола стыдливо спрячут во дворе портала на Лубянке, автор этих строк ходил по весенней Москве (а жил в прославленной и прослушиваемой со сталинских времен гостинице, знакомой всем по водочной наклейке), просто гулял, дышал свежим хорошим московским воздухом. Был мокрый март, стояла влажная весна с галочьим «кьяком» и голубиным воркованьем, с хриплым карканьем вздорных ворон над кремлевским холмом. Ночью выпал белейший неспорый снег, и, любуясь им, по-детски восторженно дыша, почти счастливый от этого запаха, автор дошел до площади Дзержинского и тут увидел его САМОГО. Возвышаясь столпом, подобный не то Мефистофелю в шинели, не то инквизитору Торквемаде, стоял этот главный палач России, якобинец русской революции, якобы поляк и якобы великий человеколюбец. А ведь людоеда тоже можно назвать человеколюбцем? И вот здесь открылось главное: половина его лица была снежно-мертвенно белой от нестаявшего снега, другая – дьявольски угольно-черной. Так выступила суть истинной сущности первого слуги Антихриста. Впрочем, выступила она и в нем самом – незадолго до исчезновения Феликс Эдмундович Дзержинский обрел жуткую, неподвижную сатанинскую маску – и вот эта маска была допроявлена…